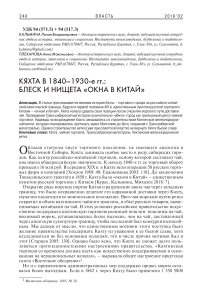Кяхта в 1840-1930-х гг.: блеск и нищета "окна в Китай"
Автор: Кальмина Лилия Владимировна, Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается вековая история Кяхты - торгового города на российско-китайской/монгольской границе. Будучи в первой половине XIX в. единственным пунктом русской торговли с Китаем - «окном в Китай», Кяхта начала сдавать свои позиции после открытия морского пути доставки чая. Проведение Транссибирской магистрали окончательно «убило» город как признанный центр чайной торговли. Надежды на возрождение Кяхты связывались со строительством Кяхтинской железнодорожной ветки, которую планировалось протянуть через Монголию до Урги, соединив с Транссибирской магистралью. Однако строительство ветки (уже при советской власти) не вернуло Кяхте былую славу.
Кяхта, чайная торговля, транссибирская магистраль, кяхтинская железнодорожная ветка
Короткий адрес: https://sciup.org/170171321
IDR: 170171321 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6358
Текст научной статьи Кяхта в 1840-1930-х гг.: блеск и нищета "окна в Китай"
О бладая статусом чисто торгового поселения, не имевшего аналогов в Восточной Сибири, Кяхта занимала особое место в ряду сибирских городов. Как центр российско-китайской торговли, основу которой составлял чай, она имела общероссийскую значимость. К началу 1840-х гг. ее торговый оборот превысил 16 млн руб. В середине ХIХ в. в Кяхте вели операции 58 русских торговых фирм и компаний [Хохлов 1989: 40; Евдокимова 2003: 118]. До заключения Тяньцзиньского трактата в 1858 г. Кяхта была «окном в Китай» – единственным пунктом русской торговли с Китаем [Курас, Кальмина, Михалев 2018: 7].
Открытие ряда морских портов Китая и разрешение ввоза чая через западную границу, что было несравненно дешевле его караванной доставки через Кяхту, серьезно пошатнули ее монопольное положение. Ввоз чая морским путем резко сократил и объем кяхтинского чайного транзита, и сбыт русских товаров, вымениваемых китайцами на чай. В этих условиях российское правительство искусственно поддержало кяхтинскую торговлю разницей пошлин: пошлины на чай, ввозимый морем, устанавливались более высокие, чем на чай, доставленный через азиатскую сухопутную границу, чтобы последний был конкурентоспособным. Мы далеки от мысли, что единственным мотивом этого поступка было желание правительства поддержать Кяхту из уважения к ее былой славе, хотя исследователи не без основания полагают, что в числе прочих мотивов был и этот [Старцев 2005: 130]. Однако было ясно, что Кяхта не сможет долго пользоваться протекционистскими настроениями правительства. «Кяхтинская торговля со временем должна пасть как искусственно поддерживаемая и основанная на нерациональных началах», – выражала общее настроение иркутская газета «Восточное обозрение»1.
Но и с применением административных мер поддержки провоз морем оставался более выгодным. Если в 1862 г. через Кяхту было привезено 1 358 5800
фунтов чая, а морем – 9 713 820, то в 1869 г. – 6 488 880 и 22 959 952 фунтов соот-ветственно1. «Внешняя наша сухопутная торговля через Кяхту заметно склоняется к упадку, – указывалось в «Обзоре Забайкальской области» за 1884 г. – Причина тому – увеличение вывоза чаев через Ханькоу морем ‹…› дешевизна перевозки говорит в пользу направления чаев последним путем, и если бы она одна влияла на это дело, то, конечно, ввоз чаев через Кяхту потерял бы право на существование»2.
Тем не менее вплоть до конца XIX в. коренных изменений в кяхтинской торговле не произошло, и город оставался главными «воротами» чайной торговли, особенно дешевыми сортами плиточного и зеленого чая. Более того, ввоз китайских товаров в 1890-е гг. еще имел тенденцию к росту [Кальмина, Плеханова 2016: 194]. Но открытие непрерывного рельсового сообщения от Ханькоу до Москвы с провозной платой за пуд чая намного меньшей, чем при его доставке привычным гужевым способом через Кяхту, сделало процесс «падения» города необратимым. Кяхта осталась в стороне от Великого чайного пути и как центр чайной торговли просто перестала существовать. За период с 1900 по 1908 г. количество провозимого через нее чая сократилось более чем в 10 раз [Старцев 2005: 132]. Город теперь играл роль места чайной торговли с заметно ограниченными объемами и небольшой трансграничной торговли с Монголией. Последняя после Синьхайской революции стала самостоятельным торговым партнером, но не смогла ни улучшить экономическое состояние города, ни принести торговые дивиденды России. Во-первых, баланс российско-монгольской торговли был пассивным: ввоз монгольских товаров был в 7 раз больше, чем вывоз русских товаров в Монголию [Дружинина 2005: 81], причем пассивность эта с каждым годом росла. Во-вторых, времена, когда чайная торговля была «двигателем российской мануфактурной промышленности» [Корсак 1857: 292], прошли безвозвратно: чай теперь покупался в основном за деньги. Только незначительный объем товаров монголы и китайцы обменивали на российские продукты. Такая ситуация сохранялась годами. Спустя два десятилетия российский военный агент в Монголии поручик Кушелев в своем донесении писал: «Сейчас наш импорт в Монголию почти не существует из-за конкуренции китайцев; наш экспорт из Монголии, наоборот, очень значителен, так как мы вывозим оттуда громадное количество шерсти, шкур и много скота; так как мы за все платим чистыми деньгами, то Монголия уже теперь стóит России больших денег»3.
При всей пагубности роли Транссибирской магистрали для судьбы Кяхты, которая оказалась в стороне от важнейших международных торговых путей, кяхтинскую торговлю, по мнению исследователей, не в меньшей степени «убили» медлительность и дороговизна доставки товаров. Организация кяхтинской торговли, по сути, представляла собой монополию феодального типа [Рабинович 1975: 220], сосредоточившуюся в руках узкой группы «чайных миллионеров» – крупных кяхтинских купцов, сколотивших на торговле чаем целые состояния. Не усвоившая уроков рынка кяхтинская торговля так и не смогла вписаться в структуру капиталистических отношений. Привыкшее к правительственной опеке кяхтинское купечество оказалось не готовым к действиям в форс-мажорных обстоятельствах.
Шанс на возрождение Кяхта получила в связи с предполагаемым проведе- нием Кяхтинской ветки железной дороги, которую планировалось тянуть через Монголию до Урги и дальше, соединив другим концом с Транссибирской железнодорожной магистралью [Кальмина, Плеханова 2016: 196]. Конечно, ее проведение преследовало иные цели, нежели просто реанимацию кяхтинской чайной торговли: морской путь доставки был более выгодным и дешевым, да и железнодорожное сообщение позволяло снабжать Россию чаем без дополнительных затрат. Самодержавие рассматривало ветку прежде всего как механизм вытеснения американских, английских и германских товаров, которые ввиду слабого развития русского экспорта – не без китайского посредничества – прочно обосновались на монгольском рынке1. Однако сторонники ее сооружения в качестве «побочного эффекта» рассматривали и возможность возвращения Кяхте статуса центра чайной торговли. А кяхтинское купечество, обеспокоенное потерей городом его роли «окна в Китай», считало железнодорожную ветку панацеей [Солдатов 1912: 9-10].
Определенный резон в этих надеждах был. Предполагавшаяся работа по географо-геологическим изысканиям и проектированию ветки оказала существенное влияние на структуру русского экспорта, в котором наметилась явная тенденция к увеличению потока в Монголию промышленных товаров. Только за период 1911–1914 гг. вывоз российской мануфактуры через Кяхту возрос с 83,3 до 379,5 тыс. руб. [Старцев 2003: 186].
Принятое в 1913 г. решение о строительстве линии Кяхта–Верхнеудинск и проект продолжения ее до Урги для соединения Забайкалья с Монголией непрерывным железнодорожным путем до революции не были реализованы: сложившаяся политическая ситуация диктовала иные задачи.
С началом Первой мировой войны Кяхта превратилась в важный центр продвижения российских интересов в Монголии. Потеряв значение транзитного узла русско-китайской торговли, город на некоторое время стал главным субъектом российско-монгольских торгово-экономических отношений [Тагаров 2016: 108]. Через Кяхту производилось обеспечение продовольствием и оборудованием золотых приисков «Русского акционерного общества рудного дела Тушетухановского и Цэцэнхановского аймака» («Монголор») [Курас, Кальмина, Михалев 2018: 85] и других российских предпринимателей2, занимающихся добычей драгоценного металла в Монголии для пополнения государственного золотого запаса России. Это было крайне важно в условиях военного времени, когда основные поставки вооружения для армии и сырья для промышленности из-за рубежа оплачивались золотом. Через Кяхту оказывалась всемерная помощь в снабжении хлебом, фуражом для лошадей, инструментами Особой экспедиции министерства земледелия в Монголии (Монголэкс) под руководством известного русского путешественника полковника П.К. Козлова [Юсупова 2017], занимавшейся закупкой столь необходимого стране и армии скота3. Через Кяхту снабжались керосином работающие на нужды армии кожевенные предприятия в Монголии и вывозилась их продукция. Только в 1916– 1917 гг. в Монголии было заготовлено 175 184 штук кожи [Горелов, Ростов, Еремин 2015: 93]. Таким образом, через посредничество Кяхты решались задачи и проблемы, имевшие не только региональное, но и общероссийское значение. Кяхтинцы оказывали содействие в реализации как государственных, так и частных российских интересов.
Однако с началом советизации края и введением государственной монопо- лии на внешнюю торговлю Кяхта окончательно утратила свои не только торговые, но теперь уже и посреднические функции, что привело ее к неизбежному экономическому угасанию. В 1920-е гг. город стал больше известен как пункт контрабандной торговли, поскольку в связи с острым дефицитом целого ряда товаров (хлопчатобумажные и шерстяные ткани, железо, чаи, крупы, масло растительное, мыло) потребность в них в значительной степени удовлетворялась путем контрабандного ввоза из Монголии за счет контрабандного же вывоза пушнины, золота и тому подобных местных экспортных эквивалентов. Контрабандная торговля процветала, несмотря на неоднократно принимаемые директивы «О мерах по усилению борьбы с незаконным ввозом и вывозом товаров»1.
Оживление дискуссии вокруг роли и значения Кяхты в 1920-е гг. было связано с реанимацией в период разработки плана первой пятилетки дореволюционного проекта сооружения Кяхтинской железной дороги. Теперь инициатором ее строительства выступил Совет народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР2. В правительственных кругах данную линию стали называть не только Кяхтинской, но и Верхнеудинско-Монгольской, поскольку учитывалась возможность и даже необходимость ее продолжения через Монголию. Чтобы спрямить путь на Ургу, стали рассматривать вариант прокладки железнодорожного полотна, минующий Кяхту. Руководство Бурят-Монгольской республики указывало, что «если эту линию рассматривать как местную, то, конечно, Кяхту трудно миновать; но этот город… имеет в настоящее время лишь историческое значение. Крупное торговое значение… совершенно утрачено. Путь прямо на Ургу гораздо выгоднее»3. Из-за ограниченности финансовых ресурсов в 1920-е гг. реализация проекта строительства ветки железной дороги, которую, тем не менее, продолжали называть Кяхтинской, опять была отложена.
Вернулись к проекту сооружения дороги уже в 1930-е гг. В январе 1935 г. СНК Бурят-Монгольской АССР принял постановление «О строительстве Кяхтинской железнодорожной линии». Необходимость ее проведения обосновывалась тем, что дорога явится огромным стимулом развития экономики республики и всей страны. В марте 1935 г. Народный комиссариат путей сообщения СССР включил строительство этой линии в план второй пятилетки. В 1936 г. наркомат принял решение о разработке окончательного проекта сооружения железнодорожной магистрали Улан-Удэ – Кяхта (Наушки). Строительные работы начались в 1937 г., рабочее движение поездов открылось 15 января 1939 г. [Третьяков, Поздняков 2010: 380].
Сооружение железной дороги протяженностью 247 км сыграло огромную роль в организации трансграничного торгового пространства, установлении взаимовыгодного экономического сотрудничества Бурятии и Монголии, но Кяхте в этом проекте была отведена лишь роль транзитного пункта, поскольку железная дорога была проложена в 35 км от города – через пограничный пункт Наушки.
В последующие годы Кяхта так и не смогла восстановить свое былое могущество. В советский период торгово-экономические отношения с Монголией развивались на централизованной основе, что не предполагало каких-либо местных инициатив [Курас, Цыбенов 2018: 82]. Кяхта превратилась в один из типич- ных городов с военным гарнизоном, обеспечивающих стратегические интересы Советского Союза, а затем и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9)
Список литературы Кяхта в 1840-1930-х гг.: блеск и нищета "окна в Китай"
- Горелов Ю.П., Ростов Н.Д., Еремин И.А. 2015. Вклад Сибири в обеспечение российской армии продовольствием в годы Первой мировой войны. -Известия Лаборатории древних технологий. № 4(17). С. 90-96
- Дружинина А.В. 2005. Развитие торговли уездных, безуездных городов Иркутской губернии и Забайкальской области в конце ХIХ -начале ХХ вв. -Сибирский город XVIII -начала ХХ веков. Вып. V. Иркутск. С. 77-89
- Евдокимова С.В. 2003. Город завидной судьбы (к 275-летию г. Кяхты). -Вестник Бурятского университета. История. Сер. 4. Вып. 6. С. 115-126
- Кальмина Л.В., Плеханова А.М. 2016. Забайкальские города в торговом пространстве трансграничья (1880-1920-е гг.). -Власть. № 7. С. 193-198
- Корсак А. 1857. Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с Китаем. Казань: Изд. книгопродавца Ивана Дубровина. 445 с