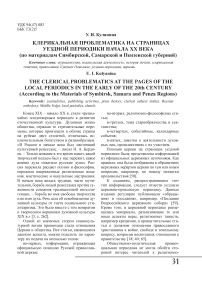Клерикальная проблематика на страницах уездной периодики начала ХХ века (по материалам Симбирской, Самарской и Пензенской губерний)
Автор: Кулянина Ульяна Ивановна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отражение клерикальных аспектов социокультурной жизни русской провинции в уездной прессе начала XX века.
Журналистика, издательская деятельность, история печати, клерикальная тематика, православие, среднее поволжье, уездная периодика, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/14720734
IDR: 14720734 | УДК: 94(47).083
Текст научной статьи Клерикальная проблематика на страницах уездной периодики начала ХХ века (по материалам Симбирской, Самарской и Пензенской губерний)
Конец XIX – начало XX в. стали чрезвычайно плодотворным периодом в развитии отечественной культуры. Духовная жизнь общества, отражая те стремительные перемены, которые произошли в облике страны на рубеже двух столетий, отличалась исключительным богатством и разнообразием. «В России в начале века был настоящий культурный ренессанс, – писал Н. А. Бердяев. – Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения. В начале века велась трудная, часто мучительная, борьба людей ренессанса против су-женности сознания традиционной интеллигенции, – борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Речь шла об освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам духовной культуры XIX в.» [3, с. 262].
Одной из значимых сторон социокультурной жизни провинции стали отношения Церкви и общества. Все статьи, касающиеся данного аспекта, можно поделить по характеру их подачи на несколько типов:
во-первых, информация, отражающая официальную позицию Русской православной церкви;
во-вторых, религиозно-философские статьи;
в-третьих, тема старообрядчества и сектантства;
в-четвертых, событийные, календарные события;
в-пятых, заметки о деятельности духовных лиц, происшествиях с их участием.
Позиция церкви на страницах уездной периодики была представлена информацией из официальных церковных источников. Как правило, она была отображена в обращениях верховных иерархов церкви по тем или иным вопросам, например, по поводу нехватки продовольствия [50].
К изданиям, распространявшим этот тип информации, следует отнести уездную церковно-приходскую периодику. Данные издания регулярно публиковали «обращения» и «послания», например, «Послание Всероссийского церковного собора» [59]. Кроме того, в церковной периодике размещались материалы, разъясняющие те или иные аспекты веры, религиозных таинств, например крещения, и нравоучительные статьи о должном отношении православного христианина к войне, свободе и земельному вопросу, вопросам воспитания, отношении к правительству [18; 40; 65].
Общественно-политическая провинциальная периодика не могла обойти стороной интерес читателей к религиозно- философскому дискурсу начала XX в., в частности творчеству Льва Николаевича Толстого, следила за его перепиской. Например, в заметке «Переписка Л. Н. Толстого с семилетней девочкой» в газете «Волжские новости» поднимается один из самых главных вопросов философии. Дочь кустаря из Умани Соня Рубинштейн (Софья Михайловна Рубинштейн, 1901 года рождения) 24 сентября 1909 г., судя по штемпелю, отправила в Ясную Поляну письмо с явно недетским вопросом: «Есть ли Бог?» [77, с. 116]. Ответ Толстого последовал немедленно: «Бог не на небе, а в каждом человеке», нужно любить всех людей. К письму был приложен текст «детской молитвы» [53].
Свободе религиозной совести посвящена статья Н. А. Бердяева «Славянофилы о свободе совести», перепечатанная газетой «Волжские новости». Николай Александрович напоминает слова Ю. Ф. Самарина о том, что «вера – не палка, и в руках того, кто держит ее, как палку, чтоб защищать себя и пугать других, она разбивается в щепы», резюмируя: «В наши дни полезно напомнить о взглядах старых, лучших славянофилов и противопоставить их и тем, которые охраняют веру, как палку, и тем, которые, как палку, ее отвергают» [69].
Вопрос о свободе совести поднимался в уездной периодике неоднократно. Требование отделения Церкви от государства в начале XX в. было одним из пунктов программы либеральных партии. Российскую православную церковь стремились приравнять к другим исповеданиям не столько в области формально-законодательной, сколько в самой возможности духовного влияния на русский народ. На фоне этого газета правого толка «Сызранский маяк» опубликовала речь председателя Совета министров П. А. Столыпина на заседании III Государственной думы по законопроекту о переходе из одного вероисповедания в другое, в которой председатель Совета министров утверждал, «что отказ государства от церковногражданского законодательства… повел бы к разрыву той вековой связи, которая существует между государством и церковью, той связи, в которой государство черпает силу духа...», предостерегая от формального понимания свободы совести [64].
Вступая в религиозно-философскую полемику, местная периодика не ограничивалась перепечатками статей крупных философов и политиков, а стремилась развить их положения самостоятельно. Так, местный автор В. Бобыль в стихотворении «Любовь Христа» сокрушался об оставленной в прошлом чистой вере, об утраченной любви под девизом равенства и братства, о торжестве насилия и жестокости [32]. В том же номере редактор «Сызрани» поместил фельетон «Переписка старца Абдул-Гамида с Григорием Распутиным», в котором высмеял «святость» последнего, противопоставил христианство и ислам, придя к выводу о порочности служителей всякого культа, преследующих цель обладания земными благами [54]. Им вторил автор статьи «За что убили Христа», размещенной в газете «Мужик». В учении Иисуса, «противном начальникам и духовенству», он увидел сходство с социалистическими идеями [16].
Рассуждая о роли Церкви в государстве в статье «Церковь – помощница бюрократии», газета «Сызрань» обвиняла Церковь в том, что она «всегда обслуживала интересы бюрократии, была, своего рода, отделением министерства внутренних дел, а духовенство его агентами» [81]. Повествуя о деятельности в Риге военно-полевого суда, избравшего местом заседаний церковь, автор сделал вывод, что «бюрократия, зная, что ее дни сочтены и над головой ее висит Дамоклов меч, берет в свои руки новое оружие – церковь» [81].
П. Панин в статье «О непогрешимости правительства» рассмотрел отличия законов человеческих и велений Божьих. Он писал, что «церковь – подспорье к плохому законодательству, только орудие для управления массой». Автор пришел к выводу, что «церковный организм одряхлел до того, что уже не в состоянии проявлять полученную благодать во всей ее первоначальной силе», следовательно «церковь становится ненужной» [41].
В целом негативную окраску имели заметки, связывающие Русскую православную церковь и Союз русского народа, например, статья «Сызранские союзники», посвященная освящению знамени данной партии. «Сочетание Нерукотворного Образа на полотне цвета запекшийся крови с надписью какого-то Сызранского отдела звучит профанацией, неприятно и оскорбительно действует на религиозное чувство молящегося и зрителя» [2]. Стремясь разрушить у обывателя ассоциацию правомонархической партии с православием, газеты подчеркивали, что «большинство иерархов относится отрицательно к деятельности лидера Союза русского народа и… со стороны высшей церковной власти будет сделано распоряжение духовенству остерегаться Союза» [75].
Критика газет в адрес Церкви часто касалась экономических причин и земельных споров. Примером может служить статья о том, как причт с. Уса намеревался продать под пахоту земли, используемые совместно с крестьянским обществом, что привело к возмущению последних [28]. При этом симпатия редакции была не на стороне клириков, как и в статье «Монастырская земля», повествующей о заседании земельного комитета. Данный комитет решил вопрос о пахотных и огородных землях, пастбище и лесе, принадлежавших Сызранскому Вознесенскому монастырю, которые он не обрабатывал, а сдавал в аренду «с эксплуатационной целью» [35]. Земли передали в возмездное пользование гражданам, что автор заметки находил справедливым.
Вместе с тем следует отметить, что в свет выходили и статьи в защиту священнослужителей как в местных тяжбах, так и получивших широкую огласку в стране. Например, в «Бугульминце» всецело поддерживали священника Петрова, ставшего участником консисторского суда, «состоявшегося по поводу клеветнических нападок на него со стороны монархических партий» [23]. В корреспонденции из с. Голодяевка, помещенной в газете «Сызранский курьер», описывалась жалоба крестьян на приходского священника о. Беликова с просьбой «немедля его убрать». Автор замечал, что те же крестьяне уже жаловались на предшественника Беликова о. Виноградова, который был вынужден оставить службу добровольно. «Да и бывшие до о. Виноградова священники не избежали жалоб голодяевцев. Не знай, кого им надо: с неба разве сведут, если можно, но уверен, что и сей не по сердцу им пришелся бы» [27].
Необходимость церкви как места, где жители «могли бы черпать пищу для души и ума», доказывалась в статье «Опасность от лже-цивилизации». Именно в отсутствии в с. Раме-но церкви автор видел причину того, что «не то стало в Рамене: население его стало изменяться, особенно молодежь» [51]. С данным утверждением согласна газета «Бузулукский вестник». Морализируя по поводу взлома церкви Всех святых г. Бузулука и кражи из храма реликвий, автор отмечал падение нравственности прихожан, которое было продиктовано в первую очередь тем, что священнослужители перестали быть пастырями, а свели свои функции до «рабочего, которому провести день да получить за заработок деньги» [4].
Весьма привлекательной для редакторов уездной периодики была тема ересей. Статьи, посвященные этому вопросу, носили, скорее, развлекательный характер, были призваны шокировать читателя, высмеять религиозный фанатизм и предрассудки, а иногда и «напугать» обывателя.
Неоднократно в газетах помещались примеры рукописных «молитв». Например, «заклинание» против кометы Галлея, в котором небесное тело характеризовалось как «черт, сатана, Вельзевул преисподней… анафема анафем, анафема анафем сто крат, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот шестьдесят шесть». Комета силой данной «молитвы» должна была «хвостище поганое, обмакнуть в реку огненную», и тогда «почернеет он, да опалится, да изжарится и попадет на завтрак… родителю Люциферу» [17]. Чтобы подчеркнуть уничижительное отношение к «заклинательному листку», редакция помещала приписку о «удержании его орфографии». В другой раз курьезности ситуации добавляет уточнение, что похожая «молитва» была прислана по почте, ее текст следовало «в течение двух дней разослать девяти друзьям», чтобы получить на четвертый день «радостную весть» [55].
Время от времени уездная периодика освещала случаи религиозного психоза. Учитывая, что таковые случались нечасто, они отслеживались в масштабах всей Российской империи. Например, газета «Деловой день» писала о случае, произошедшем с 16-летней Евдокией Булеменьковой, жительницей с. Марковка Старобельского уезда [63].
Большое внимание в прессе уделялось сектантству и старообрядчеству, что не- удивительно. Мистическое сектантство на протяжении XIX – первой половины XX в. было широко распространено в Среднем Поволжье и являлось важной составляющей многоконфессионального региона. По данным 1910 г., в одной только Симбирской губернии на основании закона 17 апреля 1906 г. было зарегистрировано 28 старообрядческих общин: Белокриницкой иерархии, беспоповцев, поморцев, двух согласий спа-совцев; сектантских – молокан и субботников. Газета «Сызрань» в 1910 г. писала: «…небольшое количество общин не доказывает малочисленность вообще старообрядцев и сектантов в Симбирской губернии, так как большинство потерпели в регистрации неудачу, и, кроме того, много старообрядцев беспоповцев и сектанты-хлысты относятся к регистрации отрицательно» [66]. Пресса пристально следила не только за статистическими данными, но и за изменениями их касающихся законов, местными «собеседованиями» старообрядцев с епархиальными миссионерами, съездами старообрядцев, сообщала о специализированных услугах для старообрядцев, например, подготовке домашних учителей и др. [24–25; 62; 71]. Вместе с тем периодика резко осуждала действия радикальных сект, например, ионитов или красносмертников [11; 30].
Пожалуй, наиболее значительный сегмент информации, связанной с религиозной деятельностью, занимали новостные сообщения. Читателей информировали о всевозможных календарных событиях, например, крещении водосвятия или торжественном праздновании 200-летия явления св. иконы Федоровской Божией Матери [31; 78]. При этом корреспонденты старались не только констатировать факт, но и придать ему острую окраску. Например, в заметке, помещенной в газете «Деловой день», автор, рассказывая о всенощной службе в Вербную субботу, описывает устроенную прихожанами толчею, приведшую к ранению одного из них [34]. Газеты анонсировали, следили за ходом и итогами религиозных собраний всероссийского масштаба. Так, на страницах газет активно обсуждалась судьба поместного церковного собора [8; 74]. Пресса сообщала событийные новости: о визите значимых священнослужителей, собраниях прихожан для выбора чле- нов попечительского совета церквей, сборе пожертвований на постройку или отчете о ходе работ по постройке храма, о чествовании священников, открытии и освящении культовых зданий и сооружений [20; 42; 58; 61; 68; 76]. В основном газеты писали о местных событиях, таких как освящение в Симбирске храма-памятника, сооруженного «в память избавления Государя Императора, в бытность Его Наследником Престола, во время путешествия в Японии, в 1891 году от угрожающей опасности» [там же]. Он возводился в течение 18 лет на средства местных благотворителей. Наиболее часто пресса сообщала о происшествиях в храмах, например, пожарах. Последние в уездных городах случались регулярно, но в случае возгорания в монастырях пожаротушение осложнялось ограниченным доступом к объектам. О таком случае рассказывает заметка «Пожар в монастыре» [57]. Периодические издания отслеживали все кадровые вопросы: переход заштатных священников в штат и, наоборот, назначения и увольнения, потребность в служащих [19; 33; 37; 79].
Средства массовой информации строго следили за ревизиями в епархиях. В статье о докладе епископа Назария Синоду повествуется о расследовании многочисленных жалоб на епископа Саратовской епархии Гермогена [6]; расследованиях в отношении рядовых священнослужителей. Как правило, сначала в газетах помещали статью о жалобах на священника, затем о начатом дознании и завершали вопрос информацией о принятых мерах или неосновательности обвинений [21]. Часто пресса стремилась обратить внимание церковных властей на недочеты на местах. Так, газета «Деловой день» сетовала, что местными причтами не ведутся церковные летописи и призывала Симбирскую епархию принять меры для решения этого вопроса [80].
Учитывая сравнительно небольшую населенность уездных городов начала XX в. (в достаточно крупном Сызранском уезде проживали лишь 241 104 чел., в том числе в Сызрани – 31 488 чел.), значимость духовной сферы в жизни провинциальных обывателей и публичный характер службы священников, все стороны их жизни находились под пристальным вниманием прессы [38, с. 19].
Причем авторы статей часто переносили отношение к конкретным персонам на весь институт церкви, подвергая его критике. Так, в фельетоне «Отцы духовные и доброхотные даяния», напечатанном в газете «Сызрань», высмеивались церковнослужители, вынужденные «испытывать моральные неудобства пользоваться в силу печальной необходимости добровольными даяниями, а по выражению одного из думских депутатов-священников, жить подачками» [52]. В корреспонденции «Село Сызранские хутора» повествовалось о священнике о. Петровском, заявившем, что отлучит от Церкви всякого, не посетившего храм в течение шести недель, сам же «уподобился тем торговцам, которых Христос выгнал из храма… продает литографические картинки. Каждому новокрещенному крестный обязан купить картинку, а если тот почему-либо не купит, то картинка высылается на дом и с крестного взимается 10 копеек» [67].
Естественно, не оставались без внимания происшествия с участием священнослужителей, такие как кража у заштатного священника с. Никулина о. Стефанова двадцати двух сторублевок, «хранившихся в ризнице под воздухами». Причем подозреваемыми в краже стали заместитель священника Каллистов и псаломщик Благоразумов [29].
Встречались в местной прессе и постоянные «герои». Пожалуй, абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний в сызранской прессе был иеромонах Власий (М. Н. Суров): всего за несколько лет увидели свет более 50 статей (!), связанных с его именем, что ставит его деятельность по актуальности для журналистов в один ряд с самыми важными государственными событиями, а также наиболее острыми городскими проблемами.
Михаил Никитич Суров родился в крестьянской семье 1 ноября 1870 г. в Алатыре [12. Л. 278]. В 19-летнем возрасте намеревался повести под венец местную девушку, однако избранница предпочла более выгодную партию. Отвергнутый жених поступил в Алатырский Троицкий монастырь, где быстро снискал репутацию усердного послушника. Однако вскоре разразился скандал: после его советов часть монахинь женского монастыря отказались нести послушание монастырского устава, а некоторые из них и вовсе сбежали. В 1899 г. Михаил Суров был переведен в Сызрань, в Вознесенский мужской монастырь [12. Л. 19–20].
Здесь первое время он опять был прилежным послушником и уже через полтора года был посвящен в иеромонахи с именем Власия. Среди части женщин Сызрани за ним прочно закрепилась репутация «святого» и чуть ли не чудотворца [12. Л. 47]. Почитательницы толпами ожидали его выхода из кельи, считали за счастье прикоснуться к его одежде, покидали свои семьи, мужей, детей, приносили о. Власию богатые дары наличными деньгами, вещами, подарили ему богатый выезд и автомобиль. Среди мужчин он не только не пользовался таким же поклонением, но вызывал с их стороны негодование и едва ли не ненависть, основанную на разрушении спокойствия и мира во многих семьях [12. Л. 24]. О сложившейся ситуации было донесено архиепископу Симбирскому и Сызранскому, и в 1903 г. иеромонах Власий был сослан из Сызрани в Савво-Вишерский монастырь Новгородской епархии [73].
Тогда одна из почитательниц иеромонаха, дворянка Ю. А. Катанская, нашла оригинальный выход из положения. Она ходатайствовала перед императрицей об открытии в Сызрани детского приюта, предложив на его создание средства и свой дом, с условием, что попечителем приюта станет именно Власий [12. Л. 24]. В 1906 г. Власий был возвращен в Сызранский монастырь, став попечителем детского приюта [14]. «При этом, справедливости следует сказать, что собственно детям в двух довольно больших домах госпожи Катанской (было) отведено всего три-четыре комнаты, а все остальное (было) отдано под какие-то квартиры и для размещения “власиянок” [12. Л. 91]. По возвращении из ссылки иеромонах Власий не изменил своей жизни, и все так же часть сызранцев считала его «святым», в то время как другая – дурным человеком, «иезуитом, влияющим на женщин путем внушения» (это мнение нашло себе подтверждение в том, что при духовном следствии у него были обнаружены книги по гипнотизму и спиритизму) [12. Л. 25–26].
В местной периодике началась многолетняя полемика по поводу его «святости», в ходе которой «власиянки» отстаивали невиновность иеромонаха [73], тогда как ре- дакции приводили мнение компетентного духовного лица о том, что деятельность иеромонаха способствует половому развращению и потере женской стыдливости [36], а также осуждали невоздержанное поведение Власия, его отношение к прихожанам. В одной из статей описывалось, как он «наплевал в глаза своей поклоннице и утер их пощечинами» за то, что та отозвалась о нем как о человеке сердитом [44].
В 1908 г. над одиозным иеромонахом вновь было назначено духовное расследование [12. Л. 48–49]. Следствие попало под пристальное внимание местной прессы. Газеты перечисляли даже вопросы, интересовавшие дознавателей [1].
Периодика поднимала вопрос о благотворительности. Журналисты прямо указывали, что «Катанская и другие “власиянки” благотворят не ради самой благотворительности, а ради личности о. Власия, и приют содержат не ради детей, а ради того же Власия» [45]. В статьях приводились случаи, когда попавшие под влияние иеромонаха продавали свои дома и земли, вплоть до полной потери средств к существованию. Одна из жертв подобной «благотворительности» пыталась покончить с жизнью [15]. В ответ «власиянки» буквально осаждали редакции, продолжая старый спор на страницах газет [9; 56].
В 1913 г. указом Святейшего синода о. Власий был освобожден от обязанностей руководителя детского приюта, и ему предписали переместиться в Савво-Вишерский монастырь [12. Л. 15]. Однако сразу после вручения билета на проезд к месту нового служения о. Власий пошел на открытое неповиновение духовным властям, заявив, что «никакая сила его заставить не может, ибо совесть ему не позволяет бросить свое детище – приют, им же созданный» [48]. Он покинул монастырь и окончательно переселился в приют, не забыв при этом вывезти из монастыря все свое имущество [13–14]. На протяжении нескольких месяцев газеты писали, что приют стал местом паломничества приверженников опального монаха [10].
Ситуация вокруг о. Власия приковывала внимание всего города. Местная периодика пыталась понять причину непостижимой любви к иеромонаху, объясняя ее пороками общества и существующим положением женщины в обществе, циркулировали слухи один другого нелепее (например, о бегстве Власия в женском платье), заключались споры, останется ли безнаказанной выходка иеромонаха или нет [46; 70; 72].
-
6 марта 1913 г. указом Святейшего синода иеромонах Власий был лишен сана и монашеского звания [8; 47; 49; 12. Л. 148]. Поклонницы о. Власия надеялись на Высочайший манифест, объявляющий об амнистировании отдельных категорий осужденных, но его действие не распространилось на опального монаха, и Михаил Суров выбыл в Казань. Следом за ним последовали и 14 самых преданных «власиянок» во главе с Ю. А. Катанской, а также был перевезен и весь детский приют (26 чел.) [5; 22; 39].
Сызранская пресса продолжила следить за судьбой бывшего попечителя приюта и там. Газета «Сызранский курьер» писала, что на новом месте Власий живет «очень скромненько» и «принял вид католического ксендза. Иногда его видят и в казацком костюме. Поклонницы его, прибывшие в Казань вслед за ним, зовут его “барином”» [60]. Приют в итоге был закрыт и возвращен в Сызрань, а Суров был выслан за порочное поведение из Казанской губернии сроком на три года.
Бывшего иеромонаха подвела его тяга к эффектным облачениям: 5 августа 1914 г. он был арестован на станции Брянск. При аресте Михаил Суров был в парике, под которым скрывал свои «монашеские» косы, на животе носил «фальшивые вериги», при себе имел золотые мужские и женские часы, 4 140 руб., на 600 руб. билетов Государственного казначейства, денежные документы на сумму около 100 тыс. руб., купчие на имя Ка-танской. Документов, удостоверяющих личность, при Власии не оказалось. Принимая в расчет обстоятельства ареста и сведения, что Суров всего год назад был иеромонахом и за такое короткое время не мог приобрести имеющееся при нем состояние легальным путем, его заподозрили в военном шпионаже [12. Л. 271]. Арест бывшего иеромонаха Власия в Брянске стал последним упоминанием о нем в сызранской прессе [43]. Дальнейшая его судьба местным жителям была неизвестна. Но такое внимание к фигуранту, скорее, исключение и не характерно для системы уездной периодики в целом.
Таким образом, мы видим, что уездная периодика подвергала регулярной критике отдельные аспекты деятельности Церкви, в частности, ее стремление вмешиваться в политические процессы, происходившие в стране, и поведение отдельных священнослужителей. Тем не менее газеты, выходившие в уездах Среднего Поволжья, не ставили под сомнение нужность института церкви, признавая его важность как средства воспитания граждан, народной нравственности. Скорее, критика была продиктована желанием общества увидеть Церковь в обновленном виде, попытками найти ей новое место в условиях зарождения новой, буржуазнодемократической государственности.
Список литературы Клерикальная проблематика на страницах уездной периодики начала ХХ века (по материалам Симбирской, Самарской и Пензенской губерний)
- //Биржевые ведомости 1909. 25 июля
- Антоний Волынский и союзники//Волж. новости [Сызрань]. 1909. № 7. С. 2
- Бердяев Н. А. Русская идея/Н. А. Бердяев. СПб.: Азбука-классика, 2008. 320 с
- Бузулукская летопись//Бузулук. вестн. [Бузулук]. 1907. -№ 17. С. 3
- Бывший Власий в Казани//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 225. С. 3
- В синодских сферах//Волж. новости [Сызрань]. 1909. № 22. С. 2
- В союзе русских людей//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 125. С. 2
- Власий не Власий//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 60. С. 3
- Власиянка в редакции//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 38. С. 3
- Власиянки плачут//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 25. С. 3
- Гнусности ионитов//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 122. С. 2
- ГАУО (Гос. арх. Ульяновской области). Ф. 76. Оп. 2. Д. 1875
- Действия власиянок//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913,№ 21. С. 3
- Еще об о. Власии//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 22. С. 3
- Еще об о. Власии и благотворительности//Сызран. курьер [Сызрань]. -1913.-№51.-С. 2-3
- За что убили Христа//Мужик [Саранск]. 1907. № 22. С. 2-3
- Заклинание против кометы//Сызрань [Сызрань]. 1910. № 80. С. 4
- Земельный вопрос//Слово истины [Сызрань]. 1917. № 14. С. 2
- Из жизни духовенства//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 32. С. 3
- Из жизни прихода//Сызран. курьер [Сызрань]. 1912. № 8. С. 2
- Из жизни прихода//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№ 24. С. 3
- Именной высочайший указ правительствующему сенату [об амнистии по поводу 300-летия дома Романовых. 21 февраля 1913 г.]//Правительств, вестн. -1913.-21 февр. (№43). С. 1-3
- К делу свящ. С. Г. Петрова//Бугульминец [Бугульма]. 1907. -№ 1. -С. 4
- К сведенью старообрядцев//Волж. новости [Сызрань]. 1910. № 16. С. 2
- К съезду старообрядцев//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 22. С. 2
- Как ведут себя власиянки в церкви//Сызран. утро [Сызрань]. 1909. № 52. С. 3
- Корреспонденции из с. Голодяевки//Сызран. курьер [Сызрань]. 1915. № 105. С. 3
- Корреспонденции с. Уса//Сызрань [Сызрань]. 1909. № 4. С. 2
- Кража 2 200 руб.//Волж. новости [Сызрань]. 1910. № 45. С. 3
- Красносмертники//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 122. С. 2
- Крещенское водосвятие//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№5. С. 3
- Любовь Христа//Сызрань [Сызрань]. 1910. -№ 119. С. 2
- Мелочи провинциальной жизни//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 122. С. 2
- Местная хроника//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 45. С. 2
- Монастырская земля//Народ, путь [Сызрань]. 1917. -№ 1. С. 3-4
- Мысли вслух//Сызран. утро [Сызрань]. 1908. -№ 177. С. 2
- Нам пишут из Голодяевки//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 16. С. 1
- Население Империи по переписи 28 января 1897 г по уездам. СПб.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1897. 610 с
- Недовольство власиянок//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 45. С. 3
- О войне с христьянской точки зрения//Слово истины [Сызрань]. 1917. № 18. С. 1-2
- О непогрешимости правительства//Сызрань [Сызрань]. 1906. № 133. С. 3
- О постройке храма//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 17. С. 3
- О судьбе экс-монаха Власия//Сызран. курьер [Сызрань]. 1915. № 9. С. 3
- О. Власий//Волж. новости. Сызрань, 1910. № 47. С. 3
- О. Власий и благотворительность//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№ 43. С. 2
- О. Власий и женщины//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 27. С. 3
- О. Власий лишен сана//Сызран. курьер. [Сызрань]. 1913. № 58. С. 3
- О. Власия переводят//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 19. С. 3
- Об экс-монахе Власии//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 59. С. 3
- Обращение архиепископа к гражданам по поводу продовольствия//Сызран. курьер [Сызрань]. -1917.-№37.-С. 2
- Опасность от лже-цивилизации//Сызрань [Сызрань]. 1912. -№ 9. -С. 2
- Отцы духовные и «доброхотные даяния»//Сызрань [Сызрань]. 1909. № 31. С. 3
- Переписка Л. Н. Толстого с семилетней девочкой//Волж. новости [Сызрань]. 1909. -№63. С. 2
- Переписка старца Абдул-Гамида с Григорием Распутиным//Сызрань [Сызрань]. 1910. -№ 119. -С. 2
- Письмо в редакцию//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 40. С. 3
- Письмо власиянки//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 25. С. 3
- Пожар в монастыре//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№ 220. С. 3
- Пожертвование//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 60. С. 2
- Послание Всероссийского церковного собора//Слово истины [Сызрань]. 1917. -№ 18. -С. 1
- Похождения Власия//Сызран. курьер [Сызрань]. 1914. № 66. С. 3
- Приезд епископа Вениамина//Сызрань [Сызрань]. 1911. № 123. С. 2
- Проект закона о старообрядцах//Мир. путь [Бугульма]. 1906. -№ 1. С. 2
- Религиозный психоз//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 56. С. 2
- Речь председателя Совета министров//Сызран. маяк [Сызрань]. 1909. № 3. С. 1-2
- С больной головы на здоровую//Слово истины [Сызрань]. 1917. -№ 14. С. 1
- Сектантство и старообрядчество//Сызрань [Сызрань]. 1910. -№ 135. С. 3
- Село Сызранские хутора//Сызрань [Сызрань]. 1906. -№ 110. -С. 3
- Симбирск//Сызран. маяк [Сызрань]. 1909. № 3. С. 2
- Славянофилы о свободе совести//Волж. новости [Сызрань]. 1910. № 21. С. 2-3
- Слухи//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 26. С. 3
- Собеседование со старообрядцами//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. № 30. С. 3
- Спор об о. Власии//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№ 23. С. 4
- Стороннее сообщение//Сызран. утро [Сызрань]. 1908. -№ 185. -Прил.: С. [1]
- Судьбы церковного собора//Сызран. утро [Сызрань]. 1907. № 190. С. 2
- Сызранские союзники//Волж. новости [Сызрань]. 1909. -№ 4. С. 3
- Сызранские хутора//Волж. новости [Сызрань]. 1910. № 16. С. 2
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: Письма, 1909 (июль декабрь): в 90 т./Л. Н. Толстой/под общ. ред. В. Г. Черткова. М.; Л.: Гос. изд-во, 1955. Т. 80 376 с
- Торжественное празднование 200-летия явления св. иконы Федоровской Божией Матери//Сызран. курьер [Сызрань]. 1913. -№ 113. -С. 2
- Указ Св. Синода//Сызрань [Сызрань]. 1911. № 123. С. 2
- Церковные летописи//Деловой день [Сызрань]. 1909. № 59. С. 2
- Церковь помощница бюрократии//Сызрань [Сызрань]. 1906. -№ 130. С. 3