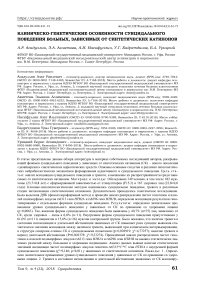Клиническо-генетические особенности суицидального поведения больных, зависимых от синтетических катинонов
Автор: Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А., Насифуллин А.И., Бадретдинов У.Г., Урицкий Б.Л.
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 4 (33) т.9, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены данные обзора литературы и материал собственных исследований авторов, раскрывающий феномен суицидального поведения у зависимых от синтетических катинонов (СК) - нового поколения «дизайнерских» синтетических наркотических средств. Описаны основные сходства и различия патогенетических нейробиологических механизмов формирования аддиктивного и суицидального поведения. Цель статьи: анализ ассоциации суицидального поведения и тревоги, и выявление их распространённости среди зависимых от синтетических катинонов. Материал и методы: Обследовано 349 человек, в том числе 182 мужчины (23,7±0,8 лет) с сформированной зависимостью от стимуляторов (F15.2) и 167 здоровых лиц (22,8±0,6 года). Клинико-психопатологическим методом оценивалось суицидальное поведение, тревога в различные стадии интоксикации синтетическими катионами. Дополнительно проводилось генетическое исследование. Была выделена ДНК (фенолхлороформный метод) и проведён анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных локусов rs6313 гена HTR2A и rs6296 гена HTR1B, определена ассоциация результатов генотипирования с отдельными формами суицидально поведения...
Синтетические катиноны, тревога, суицидальное поведение, наркомания, серотонинер-гическия система
Короткий адрес: https://sciup.org/140237154
IDR: 140237154 | УДК: 616.89-008.441.13 | DOI: 10.32878/suiciderus.l8-09-04(33)-6l-73
Текст научной статьи Клиническо-генетические особенности суицидального поведения больных, зависимых от синтетических катинонов
Самоубийство наносит большой урон общественному здравоохранению, в связи с чем, снижение смертности, связанной с суицидом, является «глобальной целью» системы охраны здоровья во всём мире [1]. Распространённость попыток самоубийства в течение всей жизни составляет около 3,6% для популяции в целом, а ежегодные общие потери от добровольного ухода из жизни по расчётам ВОЗ могут достигать одного миллиона человек [1, 2]. Однако самоубийство является серьёзной проблемой не только для населения в целом, но и для людей, страдающих от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, среди которых попытки суицида наблюдаются значительно чаще [3]. Другой важной медицинской и социальной проблемой является выход на рынок, так называемых «дизайнерских наркотиков», которые внесли свою лепту в рост показателей, характеризующих суицидальное поведение.
Факторы риска формирования суицидального поведения.
Депрессия и тревога вносят значительный вклад в суицидальное поведение на протяжении всей жизни. Исследования показывают, что межличностные конфликты, импульсивная агрессия, антиобщественное поведение, а также злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами являются более характерными для суицидального поведения подростков и молодых людей [3, 4]. Самый высокий риск развития суицида предполагается при сочетании расстройства настроения с другими состояниями, которые либо увеличивают дистресс (паническое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство), либо уменьшают самоконтроль (антиобщественное поведение, злоупотребление психоактивными веществами). Развитие высокоимпульсивноагрессивного поведения и признаков повышенной тревожности может коррелировать с когнитивными нарушениями, и быть вызванными не полностью развитыми префронтальными кортикальными системами подростков и молодых людей. Потребление психоактивных веществ (ПАВ) также ассоциировано с нарушением развития данных областей мозга [5].
ПАВ и суицидальное поведение.
Следует отметить, что проблемы психического здоровья являются наиболее распростра- нённым и наиболее изученным фактором риска, связанным с суицидальными идеями, попытками самоубийства и завершенным самоубийством. Около 90% всех самоубийц соответствовали диагностическим критериям одного или нескольких психических расстройств [6]. Люди, злоупотребляющие алкоголем и/или наркотиками или зависимые от них, совершают попытки самоубийства почти в шесть раз чаще, чем люди, не злоупотребляющие этими веществами [7].
Известно, что распространённость попыток самоубийства на протяжении всей жизни для людей, страдающих от героиновой зависимости, составляет около 30% [8]. Самоубийство является одной из известных причин смертности среди лиц, злоупотребляющих опиатами, поскольку попытка самоубийства среди людей, зависимых от опиатов, встречается почти в 13,5 раз чаще, чем среди населения в целом [9]. Республика Башкортостан (РБ) относится к регионам с высокой суицидальной активностью. На фоне тенденции к снижению общей летальности в РБ от суицидов, отмечается повышение уровня от смертности среди лиц от 12 до 30 лет [10].
В исследовании K.A. O’Neil-Rodriguez и соавт. [11], 58% молодых людей с диагнозом тревожное расстройство сообщали о суицидальных мыслях. Некоторые исследования выявили связь между тревожностью и самоубийством независимо от депрессии [12]. Суицидальное поведение у лиц, употребляющих синтетические катиноны (СК), признано второй по частоте причиной смертности средилиц, потребляющих и зависимых от СК [13].
Синтетические катиноны – искусственно синтезированные соединения, копирующие эффект «классических» алкалоидов катинона (cathinone), и катина (cathine), которые изначально содержатся в вечнозеленом кустарнике Catha Edulis [14], но имеющие иную молекулярную структуру [15]. Кат – цветущий вечнозелёный медленно растущий кустарник, произрастающий в диком виде, преимущественно, в западной части Африки и на юго-западе Аравийского полуострова. Был впервые описан шведским ботаником Питером Форскалем во время экспедиции в Египет и Йемен в 1761-
1763 гг. [16]. На протяжении веков, в этих регионах была сформирована традиция многочасового жевания свежих листьев ката, особенно во время тяжелой монотонной работы, скорее всего с целью стимуляции активности [16]. Однако историками описывается употребление листьев ката в рекреационных и религиозных целях [17]. Впервые изомер норэфедрина (норпсевдоэфедрин) («cathine») был выделен из растения ката Wolfes (1930). Позднее, G.A. Alles с соавт. (1961), описал, что катин обладает выраженным стимулирующим действием. Учитывая высокий интерес к психоактивным веществам в то время, кат и катин были предметом крупной статьи в New York Times. Однако вскоре было показано, что «катин» сохраняется только в свежих листьях или экстракте и его эффект резко снижается при их хранении, а сам катин разрушается [16]. В то же время, было отмечено, что даже на фоне длительного хранения экстракт листьев ката вызывал эффекты одурманивания, что позволило предположить наличие других ПАВ, помимо катина [16]. Синтез одного из первых синтетических аналогов катинона - мефедрона был описан Saemde Burnaga Sanchez в 1929 г., как стимулятора для центральной нервной системы (ЦНС) [18]. Только в 1979 г. под эгидой ООН была проведена серия исследований, завершившихся окончательной идентификацией «более сорока алкалоидных компонентов в листьях ката» (UN Document, 1979). Рабочая группа ООН выделила (-) α-аминопропиофенон из листьев ката в 1975 г. и назвала его веществом «катинон» [16]. Далее были синтезированы ещё несколько подобных соединений, однако, о злоупотреблениях синтетическими катинонами не сообщалось до начала 2000-х годов. С 2009 г. начинается постепенная идентификация и запрет соединений, объединённых под общим термином синтетические катиноны [16]. Весьма примечательно, что многие агенты, называемые в настоящее время синтетическими катинонами, были первоначально исследованы как аноректические агенты или центральные стимуляторы (запатентованные, прежде всего, фармацевтической промышленностью) в 1960е годы или ранее [15]. Kalix P. (1992) был первым, кто назвал катинон «естественным амфетамином» и предположил общность их механизмов действия на моноаминном уровне. Тем не менее, по мнению авторитетных исследователей, правовое регулирование синтетических катинонов практически невозможно, ввиду достижений современной химии, которое удешевило и упростило процесс синтеза.
Механизм действия СК происходит путём взаимодействия с транспортерами моноаминов, среди которых ведущую роль занимают специфический транспортер дофамина (DAT), транспортер норадреналина (NET) и транспортера серотонина (SERT) в результате которых происходит повышение концентрации этих биогенных аминов в синаптической щели [15, 16]. К основным психоактивным эффектам синтетических катинонов, можно отнести следующие: усиление произвольного внимания, возникновение чувства эмпатии, эйфорию, стремление к общению, ускорение темпа речи, усиление чувственного восприятия, сенсорную гиперакузию, снижение аппетита, различного рода инсомнические нарушения, повышение либидо, усиление моторной активности, повышение выносливости и повышенная суицидальная готовность. Согласно клиническим опросам потребителей синтетических катинонов, в состоянии одурманивания возникают ряд «побочных» симптомов, как со стороны психической сферы, так и стороны соматического состояния. Однако для формирования зависимости, необходимо нарушение не только транспортной, но и, прежде всего, рецепторной функции данных нейротрансмиттеров, прежде всего дофамина и серотонина. Для наркомании, обусловленной употреблением СК характерно достаточно быстрое развитие и формирование зависимости – в течение 1,5-3 месяцев от первого употребления. Стержневыми проявлениями абстинентного синдрома являются расстройства аффективного спектра, чаще всего тревожная депрессия, стойкие инсомниче-ские нарушения, флэшбеки, снижение аппетита, неусидчивость, транзиторные эпизоды простейших слуховых галлюцинаций [15, 19]. Наиболее характерные симптомы приёма катинонов – гипертермия, ажитация, страх и нарушения сна – длятся от 16 до 96 часов, обычно их связывают с краткосрочным нарушением функции DAT и SERT, а явления абстиненции и постабстинентной астении связывают с долгосрочной нейротоксичностью дофамина (DA) и серотонина (5-HT) [15]. Несмотря на индуцированную СК кратковременную потерю функции DAT и SERT, стойкие нарушения были зарегистрированы только в системе 5-HT. Через семь дней после начала введения высоких доз СК (мефедрона) линиям инбредных мышей было отмечено снижение активности SERT в гиппокампе и содержания 5-HT на 60% и 45% соответственно [16]. Как было отмечено, инициация суицидального поведения – одного из самых грозных осложнений потребления СК. При этом, лишение жизни через повешение – самый частый метод самоубийства среди потребителей данного вида наркотических средств. Далее, по степени распространённости, способом суицида идет использование огнестрельного оружия. На третьем месте – самопорезы вен в локтевых сгибах и преднамеренное падение с высоты (дома, мосты) [15].
Области мозга, связанные с аутоагрессией и аддикцией.
Результаты лабораторных исследований на животных и клинических исследований на людях, в том числе современных нейровизуализа-ционных и молекулярно биологических, показали, что лимбическая система, а особенно, миндалевидное тело, связано с обработкой эмоционально значимых событий, включая аутоагрессию. Как известно, лимбическая система состоит из нескольких компонентов, осуществляют, в том числе, поведенческий контроль. Исследования показали, что миндалевидное тело опосредует агрессию, страх, защитные реакции, эмоциональное обучение и мотивацию [20, 21]. Миндалевидное тело и гипоталамус участвуют в эмоциях гнева и страха [22]. Следует отметить, что с эмоциями, в дополнение к подкорковым областям, также связаны и ряд корковых областей мозга: дорсолатеральная префронтальная кора и орбитофронтальная зона. Считается, что они участвуют в модуляции эмоций, интегрируя полученные данные из миндалины и других медиальных височных областей и сенсорных входов [23]. Ряд исследований показывают, что в данных участках формируется обработка целенаправленного поведения, и повреждение или дисфункция в любой из этих областей частично или полностью, может приводить к проблемам с контролированием эмоций и последующими трудностями с подавлением экзо-, или аутоагрессивного поведения [24, 25]. Так, J. Grafman с соавт. [26], исследуя агрессивность у ветеранов вьетнамской войны, перенесших проникающие травмы головы во время службы, показали, что у пациентов с поражением лобной вентромедиальной области, показатели шкалы агрессии / насилия постоянно демон- стрировали значительно более высокие значения, чем у пациентов с поражениями в других областях мозга. Kois L.E. с соавт. [27], исследуя импульсивность и агрессию комбатантов Иракского конфликта, пришли к выводу, что повреждения лобной доли в результате черепно-мозговой травмы, были связаны с импульсивным и суицидальным поведением. Исследование пациентов с болезнью Альцгеймера, имеющих проблемы с поведенческой растор-моженностью и без, показали структурные нарушения в дорсолатеральной префронтальной коре и орбитофронтальной зоне, в группе пациентов с аутоагрессивным поведением [28]. Вышеописанные области мозга и нейромедиаторы участвуют в системе вознаграждения и формировании наркотической зависимости. Koob G.F. [29] описал основные дисфункции, задействованные в формировании зависимости от наркотических веществ, в различных лимбических областях, базолатеральной миндалине и гиппокампе, чьи глутаматергические проекции восходят к миндалине через медиальную префронтальную кору. Современное исследования J. Marusich с соавт. [30], проведённое на линии беспородных крыс - альбиносов Sprague-Dawley показало влияние синтетических катинонов (α-PVP и 4MMC) на снижение серотонина в миндалевидном теле, гиппокампе, амигдале и префронтальной коре. Интересно, что указанные СК не влияли на уровень дофамина, несмотря на его функциональное воздействие на дофаминергическую систему.
Роль серотонинергической системы в формировании суицидального поведения.
Как было отмечено ранее медиальная префронтальная кора играет важную роль в исполнительной функции, оказывая нисходящее управление на подкорковые области. Кроме того, была описана функциональная модель, раскрывающая важное модулирующее значение серотонинергической системы при формировании аддикций, путём взаимодействия с дофаминовой системой [15, 31]. С момента активного изучения нейробиологических механизмов было предположено, что суицидальное поведение опосредуется, в основном, особенностями серотонинергической системы. Принято считать, что наиболее последовательная нейробиологическая аномалия в генезе суицидального поведения – это предположенная в 1957 году, B.B. Brodie и P.А. Shore концепция нарушения активности 5-НТ системы [32].
Нарушения в количестве (плотности) 5-НТ нейронов, транспорта серотонина, блокада 5НТ рецепторов и уровни серотонина в вышеописанных областях мозга определённо связаны с суицидальным поведением [13]. Исследования последних десятилетий, подтвердили причастность серотонинергической системы к аутогрессивному поведению и формированию зависимости. Так G.L. Brown и соавт. [33], изучив взрослых новобранцев ВМС США, обнаружили, что исследуемые с попыткой самоубийства в анамнезе имели более высокий уровень агрессии и более низкий уровень 5- гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК), являющимся метаболитом серотонина, по сравнению с кандидатами без суицидального поведения. Одно из ранних исследований M. Asberg с соавт. (1987), показало, что у тех, кто совершил самоубийство, была обнаружена меньшая посмертная концентрации 5-HT и его метаболита 5-ГИУК, по сравнению с умершими по иным причинам. Bani-Fatemi A.B. и соавт. [34] было обнаружено, что низкий уровень серотонина (5-НТ) ЦНС ассоциирован с суицидальным поведением. Подобные исследования подтвердили, что суицидальность, импульсивность и депрессия имеют общую генетическую основу и биологический субстрат дисфункции 5-НТ. Кроме того, доказано, что серотонин – трансмиттер, непосредственно связанный с проявлениями тревоги и развитием навязчивых мыслей [35]. Исследования P. Zhukovsky с соавт. [36] указывают на то, что центральные и периферические моноаминергические механизмы лежат в основе контроля аутоагрессивного поведения, и зависят от функциональной активности МАО-А, что в свою очередь приводит к выраженному увеличению содержания 5-HT в орбитофронтальной коре и дорсальных ядрах шва, а также к увеличению содержания 5-HT и DA в базолатеральной миндалине и дорсоме-диальном стриатуме. Действие искусственно синтезированных катинонов заключается в ингибирующем действии в отношении серотонина. С нарушением функции серотининерги-ческой системы (5-HT) связывают многие психические и поведенческие нарушения, в частности, тревоги и расстройства настроения [37]. Большое количество исследований показывают, что ключевые патогенетические механизмы формирования аддикции также могут быть связаны с дисрегуляцией серотонинергической системы [38].
При более тонком рассмотрении синдрома зависимости на молекулярно-клеточном уровне можно отметить, что, вследствие постоянно повторяющихся поступлений ПАВ в организм и воздействия на определённые нейрорецепторы головного мозга, происходит функциональная трансформация активности нейрональных структур [36]. Норадренергическая и дофаминергическая системы через соответствующие рецепторы влияют на активность фермента аденилатциклазы, стимулирующей образование циклической аденозин-3,5-монофосфатазы (цАМФ). ЦАМФ регулирует внутриклеточную адаптацию к наркотическим средствам: разовое воздействие наркотических веществ тормозит аденилациклазную активность, снижая тем самым концентрацию цАМФ. В то же время, по «закону обратной связи», клетки компенсируют ингибированный фермент синтезом его дополнительной порции. Соответственно, компенсаторно обусловленное повышение концентрации фермента требует и более высокой концентрации наркотика, для достижения такого же ингибиторного действия, что соответствует состоянию привыкания к наркотику. При систематическом воздействии наркотических средств аденилатциклазная система активируется и повышает уровень цАМФ. Соответственно, его повышение ведёт к нарушению деятельности нейронов, и для нормального функционирования клеткам требуются новые порции веществ, обладающих наркотической активностью. Таким образом, можно объяснить формирование «феномена зависимости» и клинического элемента синдрома изменённой реактивности – роста толерантности к наркотическим средствам [15].
При воздействии СК на организм приматов было отмечено массивное высвобождение серотонина (5-НТ) с последующим периодом истощения и нормализации его концентрации [14]. При длительном введении наркотика отмечались стойкие токсические изменения нервной системы с формированием угнетения функции серотонинергической системы [21]. В своих изысканиях G.A. Parrott с соавт. (2016), обнаружили дефицит функций памяти и способности к обучению у наркозависимых от СК, по сравнению с контрольной группой лиц, не употребляющих СК, по результатам как вербальных (немедленное воспроизведение слов из списка, счёт по Креппелину), так и невербальных тестов (узнавание лиц и ассоциатив- ное образное восприятие). При этом, было отмечено, что характер изменений исключал возможность объяснения их неспецифическими факторами, например, мотивацией испытуемого. Boyer E.W. с соавт. (2016) обнаружили, что у лиц, длительное время употребляющих преимущественно СК (MDMA), отмечаются дисфункция системы 5-НТ (при сравнении с группой не употреблявших МДМА). Нарушение обмена серотонина коррелирует с общим количеством потреблённого СК, но не зависит от частоты приёма наркотического средства, что позволило сделать вывод о прямом нарушении обмена серотонина при употреблении СК [15]. Это подтверждается в исследованиях [15], где при помощи однофотонно - эмиссионной компьютерной томографии (SPECT) выявили положительную корреляцию между связыванием постсинаптических 5-НТ2А - рецепторов коры головного мозга и нарушением памяти в группе испытуемых, активно потреблявших СК (MDMA). Снижение содержания 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA – метаболита 5-НТ) в спинномозговой жидкости положительно коррелировало со снижением функций памяти у зависимых от СК [15]. В последнее время получил большое распространение в США, Европе и Азии новый класс агонистов серотонина "2C" 5-НТ2А, относящийся к СК - диметоксифенил-N - [(2-метоксифенил) метил]этанамин (NBOMe). Вызывая стимуляцию 5-НТ2А-рецепторов, он приводит к галлюцинаторным переживаниям подобно диэти-ламиду лизергиновой кислоты (LSD) [2]. Таким образом, следует полагать, что основополагающими первопричинами формирования любой зависимости, так и суицидального поведения наркозависимых, являются как личностные особенности, так и определённая индивидуальная реакция нейротрансимиттеров, возникающие в ответ на введение ПАВ.
Система 5-HT включает в себя как минимум 14 типов рецепторов. Определённые подтипы рецепторов (5-HT1А и 5-HT1В) расположены как пре-, так и постсинаптически. Предполагается, что подтипы 5-НТ рецепторов, по-видимому, оказывают уникальное подавляющее действие на агрессию. Например, люди, с повышенным уровнем агрессии имеют низкую активность 5-HT1А рецептора. Подобное характерно и для совершивших самоубийство [39]. Агонисты 5-HT1В также могут снижать агрессивность [40]. Было обнаружено, что ди- намические изменения в индексе активности 5-HT2А могут отражать изменения состояния от агрессии до покоя [41]. В эксперименте было показано, что мыши, нокаутированные по 5-HTR1B, проявляют повышенную агрессивность и импульсивность, а полиморфизмы 5-HTR1B связаны с агрессией и наркоманией у людей. Проанализировав механизмы, с помощью которых 5-HTR1B влияет на эти фенотипы, те же исследователи, разработали мышиную модель для пространственной и времен-нòй регуляции экспрессии 5-HTR1B, и обнаружили, что он способствует развитию нервных структур, лежащих в основе агрессии взрослых [42]. Активация лобной коры, вызванная поисковым поведением, зависит от рецептора 5-HT2A (5-HT2AR) [43]. Рецептор 5-HT1ВR, описанный как имеющий решающее значение для всего процесса самоубийства, играет роль в нервной сети, влияя на регуляцию настроения и принятие решений [44]. Исследования N. Antypa и A. Serretti [45], проведённые на большей выборке, показали связь между различными серотонинергическими генами (ген серотонинового транспортера SLC6A4; гены серотонинового рецептора: HTR1A, HTR2A, HTR1B, HTR2C) и суицидальным поведением. Так же были установлены математически достоверные ассоциации между полиморфизмами генов HTR2A, HTR1A и жестоким суицидальным поведением в популяциях европеоидов [46].
Учитывая отсутствие эффективного алгоритма предсказания суицидального поведения в клинической практике, улучшение распознавания и понимания клинических и биологических факторов суицидальных тенденций, может способствовать выявлению лиц с высоким риском и дальнейшей помощи при выборе терапии.
Цель исследования: анализ ассоциации суицидального поведения и тревоги, и выявление их распространенности среди зависимых от синтетических катинонов.
Задачи.
-
1. Исследовать распространенность суицидального поведения среди зависимых от СК и здоровых лиц.
-
2. Исследовать структуру суицидального поведения у зависимых от синтетических катинонов и их ассоциацию с тревогой.
-
3. Провести анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных вариантов
генов серотонинергической системы HTR2A (rs6313) , HTR1B (rs6296) среди потребителей СК и здоровых лиц и определить их ассоциацию с типом суицидального поведения.
Материалы и методы.
В рамках изучения закономерностей развития, течения психических и поведенческих расстройств, а также индивидуальных психологических особенностей у больных, зависимых от СК, на основе клинических интервью было проведено углубленное клиническое имолекулярно - биологическое исследование 349 человек, из которых группу больных составили 182 мужчины (23,7±0,8 лет), проходившие стационарное лечение в 2014–2018 гг. в Республиканском наркологическом диспансере № 1 Минздрава Республики Башкортостан с диагнозом зависимость от стимуляторов (F15.2). Контрольная группа была представлена 167 здоровыми мужчинами (22,8±0,6 года).
При описании суицидального поведения использована отечественная классификация [47], включающая: внутренние (антивитальные переживания, суицидальные мысли, замыслы, суицидальные намерения) и внешние формы (суицидальные попытки и завершённый суицид).
Материалом для молекулярно - генетических исследований послужили 349 образцов ДНК, полученные из венозной крови. Кровь набирали в пробирки со стандартным консервантом (1 мл глюгицира) в соотношении 4:1. До выделения ДНК кровь хранили при температуре +4 С не более 2 недель. Для получения ДНК необходимой степени чистоты и достаточного молекулярного веса использовали фенольнохлороформный метод выделения ДНК из крови, описанный Мэтью (Mathew C.C., 1984). Анализ полиморфных локусов HTR2A(rs6313), HTR1B(rs6296) проводили с помощью метода ПЦР (полимеразной цепной реакции) синтеза ДНК с использованием амплификатора «Терцик» (ДНК-технология, Россия) и ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов) – анализом с последующим электрофорезом в 7% полиакриламидном геле. Результаты ПЦР визуализировали в ультрафиолетовом свете в трансиллюминаторе Vilbert Lourmart TFX-20M.
Соответствия распределения частот генотипов изученных локусов согласно равновесию Харди – Вайнберга оценивались при помощи точного теста Фишера с использованием online программы DeFinetti:
Статистический анализ полученных данных осуществляли по программе Statistica ver. 6.1 (Stat. Soft, США, Serialnumber AXXR902E261711FAN4) в соответствии с предлагаемыми системой процедурами.
Результаты исследования.
Исследование показало, что среди исследуемой группы было 40,7% (n=75) пациентов, зависимых от СК, имевших, по крайней мере, одну суицидальную попытку (внешние формы суицидального поведения). Также были проанализированы внутренние формы суицидального поведения, которые были обнаружены у 61,0% (n=111) опрошенных, зависимых от СК. При углублённом исследовании времени актуализации форм суицидального поведения было отмечено, что большинство респондентов заявили об их обострении в период синдрома отмены и абстиненции – 56 (30,9%), что согласуется с данными литературы. Среди здоровых респондентов о суицидальной попытке в прошлом заявили 11 человек (6,6%), а внутренние формы суицидального поведения были диагностированы у 26 (15,6%). Таким образом, показано значительное превышение уровня суицидального поведения у зависимых от СК по сравнению со здоровыми лицами (p=0,0063).
При изучении индивидуальных психологических особенностей больных, зависимых от СК, группа была разделена на две подгруппы, которые в анамнезе имели (n=75) и не имели (n=106) суицидальных попыток. Оценка ассоциации тревожности и суицидальных поступков среди 182 пациентов (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика зависимых от СК, имеющих суицидальные попытки в зависимости от наличия и отсутствия тревоги в структуре синдрома отмены
|
Подгруппа |
Тревога в структуре синдрома отмены (Да) |
Тревога в структуре синдрома отмены (Нет) |
Стат.данные |
|||
|
p |
χ² |
df |
||||
|
Суицидальные попытки (Да), n=75 |
n |
29 |
46 |
0,028919 |
4,77257 |
1 |
|
% |
38,67 |
61,33 |
||||
|
Суицидальные попытки (Нет), n=106 |
n |
25 |
81 |
|||
|
% |
23,58 |
76,42 |
||||
Таблица 2
Характеристика зависимых от СК, имеющих суицидальные попытки в зависимости от наличия и отсутствия тревоги в период длительной абстиненции
|
Подгруппа |
Тревога в длительной абстиненции (Да) |
Тревога в длительной абстиненции (Нет) |
Статистические данные |
|||
|
p |
χ² |
df |
||||
|
Суицидальные попытки (Да), n=75 |
n |
64 |
11 |
0,002378 |
9,23274 |
1 |
|
% |
85,33 |
14,67 |
||||
|
Суицидальные попытки (Нет), n=106 |
n |
69 |
37 |
|||
|
% |
65,09 |
34,91 |
||||
Анализ полученных данных показал статистически значимую ассоциацию между наличием тревоги, выявленной при клиническом интервьюировании в структуре синдрома отмены СК и суицидальными попытками. Таким образом, можно предположить, что наличие в структуре синдрома отмены тревоги, ассоциировано с суицидальным поведением и является прогностически опасным признаком.
Таблица 3
Частоты встречаемости аллелей и генотипов по изучаемым локусам
|
Показатель |
Здоровые |
Зависимые |
|
n 1 % |
n 1 % |
HTR2A (rs6313)
|
Аллели (n=700) |
n=336 |
n=364 |
||
|
*G |
107 |
31,8 |
123 |
33,8 |
|
*A |
229 |
68,2 |
241 |
66,2 |
|
Генотипы |
n=168 |
n=182 |
||
|
*G/*G |
13 |
7,7 |
24 |
13,2 |
|
*A/*G |
81 |
48,2 |
75 |
41,2 |
|
*A/*A |
74 |
44,0 |
83 |
45,6 |
HTR1B (rs6296)
|
Аллели (n=700) |
n=336 |
n=364 |
||
|
*A |
221 |
65,8 |
232 |
63,7 |
|
*G |
115 |
34,2 |
132 |
36,3 |
|
Генотипы |
n=168 |
n=182 |
||
|
*A/*A |
67 |
39,9 |
66 |
36,3 |
|
*A/*G |
87 |
51,8 |
100 |
54,9 |
|
*G/*G |
14 |
8,3 |
16 |
8,8 |
Примечание: достоверных различий в группах нет.
В структуре анализируемых групп, зависимых от СК, имеющих суицидальные попыт- ки в зависимости от наличия и отсутствия тревоги в период длительной абстиненции так же отмечена достоверная ассоциация тревоги с наличием суицидальных поступков (таблица 2).
С целью установления генетических маркеров повышенного риска формирования зависимости от СК нами было проведено генотипирование полиморфных локусов генов серотонинергической системы – HTR2A (rs6313), HTR1B (rs6296) систем у обеих групп исследуемых (табл. 3).
Проведённый нами анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных локусов rs6313 гена HTR2A и rs6296 гена HTR1B не выявил статистически значимых различий между больными и здоровыми индивидами.
Далее нами была проанализирована ассоциация частот генотипов среди пациентов с суицидальным поведением с результатами генотипирования зависимых СК и здоровых лиц (табл. 4).
Анализ данных выявил наличие статистически значимой ассоциации частот полиморфных локусов генотипа rs6313 *С/*С гена НТR2А с внутренней формой суицидального поведения (χ²=9,146; р=0,01) у зависимых от синтетических катинонов.
Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о вкладе генетических факторов в риск формирования суицидального поведения. Все это позволяет повысить предсказания вероятной индивидуальной ответной реакции на ПАВ конкретного индивида, её тяжесть и специфические особенности протекания, а также, показать риск формирования суицидального поведения. Представленные нами данные могут быть полезны в плане выбора терапии зависимости и превенции суицида среди наркозависимых.
Таблица 4
Оценка ассоциации частот генотипов и формы суицидального поведения (СП) среди наркозависимых
|
Ген |
HTR2A (rs6313)** |
HTR1B (rs6296) |
||||
|
Генотип |
*Т/*Т |
*Т/*С |
*С/*С |
*C/*C |
*C/*G |
*G/*G |
|
Внешняя форма СП, % |
37 |
18 |
11,2 |
17 |
19,8 |
11,1 |
|
«+» |
45 |
37 |
49 |
23 |
39 |
42 |
|
« - » |
55 |
63 |
51 |
77 |
61 |
58 |
|
Статистические критерии |
Р=0,276; χ²=0,546; df=2 |
Р=0,346; χ²=0,563; df=2 |
Р=0,462; χ²=0,569; df=2 |
Р=0,843; χ²=0,328; df=2 |
Р=0,764; χ²=0,453; df=2 |
Р=0,578; χ²=0,672; df=2 |
|
Внутренняя форма СП, % |
63 |
82 |
88,8 |
83 |
80,2 |
88,9 |
|
«+» |
63 |
57 |
76 |
59 |
66 |
72 |
|
« - » |
36 |
43 |
24 |
41 |
34 |
28 |
|
Статистические критерии |
Р=0,345; χ²=0,678; df=2 |
Р=0,235; χ²=0,543; df=2 |
Р=0,01; χ²=9,146; df=2 |
Р=0,567; χ²=0,875; df=2 |
Р=0,458; χ²=0,765; df=2 |
Р=0,656; χ²=0,841; df=2 |
Заключение.
В результате проведённого исследования мы получили данные, которые показывают, что суицидальные поступки у потребителей СК ассоциированы с тревогой. Это согласуется с мнением других авторов. В частности, R.C. Kessler с соавт. [48], утверждают, что люди с повышенным уровнем тревоги чаще начинают употреблять наркотические средства, в том числе СК. По нашим наблюдениям так же превалирует группа зависимых от СК, имеющих ощущение тревоги без употребления ПАВ, по сравнению с респондентами с отсутствием тревоги при тех же обстоятельствах. В свою очередь, ряд авторов утверждают, что тревога, может возникать после употребления СК и является одним из признаков их злоупотребления, что, также подтверждается в эксперименте на мышах [49, 50].
Гены серотонинергической системы, в последнее время активно рассматриваются как гены-кандидаты зависимости и широко исследуются в работах по изучению генетических основ аддикции, поскольку известно, что дисфункция серотонинергической нейротрансмиссии имеет важное модулирующее значение при формировании аддикций, путём взаимодействия с дофаминовой системой. Рецепторы 5-hydroxytryptamine (серотонина) классифицированы в несколько типов. Отмечена их важная роль в формировании аддикции и психических нарушений. В последнее время, в литературе описаны аномальные патерны 5-HTR, которые наблюдались при посмертном анализе ткани человеческого мозга самоубийц и молекулярно-генетических исследованиях. Ген, кодирующий HTR2A, расположен на хромосоме 13 (13q14–q21) и содержит T102C (rs6313) полиморфизм и ген HTR1B, локализованный на хромосоме 6q14.1, кодирующий серотониновый рецептор типа HTR1B часто описывают как ассоциированные с зависимостью от героина, никотина, психостимуляторов [51] и суицидальным поведением [52].
Проведённый нами анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных локусов rs6313 гена HTR2A и rs6296 гена HTR1B не выявил статистически значимых различий между больными и здоровыми индивидами.
Несмотря на то, что генетические исследования семейства генов, кодирующих рецепторы серотонина многочисленны, нами обнаружены единичные и неоднозначные исследования, демонстрирующие ассоциацию искомых генов с риском развития зависимости от кокаина у белых европейцев [53]. Результаты настоящего исследования частично согласуются с данными, показавшими отсутствие ассоциации локуса rs6296 гена HTR1B с развитием риском потребления ПАВ у лиц и суицидальным поведением, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперреактивности [54]. В то же время подобные результаты могли быть получены вследствие относительной малочисленности выборки.
Анализ генотипа rs6313 *С/*С гена НТR2А показал статистическую значимость ассоциации частот полиморфных локусов с внутренней формой суицидального поведения. Данные же других авторов достаточно противоречивы. Так, Gizer I.R. с соавт. [55], в своём исследовании показали, что у пациентов данный вариант гена не ассоциирован с суицидальным поведением, но А. Ghasemi с соавт. [56] показали ассоциацию данного варианта гена со стрессовыми ситуациями и суицидом. Таким образом, требуется уточнение природы тревоги для более точных результатов, также необходимо
Список литературы Клиническо-генетические особенности суицидального поведения больных, зависимых от синтетических катинонов
- Turecki G., Brent D. A. Suicide and suicidal behavior. The Lancet. 2016; 387 (10024): 1227-1239.
- Shahin M., Fouad A.A., Saleh A.A., Magdy A. Suicide risk and personality traits among Egyptian patients with substance use disorders. Egyptian Journal of Psychiatry. 2018; 39 (l): 15.
- Михайловская Н.В. Некоторые социально-психологические характеристики больных наркоманиями, проявляющих суицидальную активность. Академический журнал Западной Сибири. 2013; 9 (5): 52-53.
- McGirr A., Renaud J., Bureau A., Seguin M., Lesage A., Turecki G. Impulsive-aggressive behaviours and completed suicide across the life cycle: a predisposition for younger age of suicide. Psychological medicine. 2008; 38 (3): 407-417.
- Chang H.B., Munroe S., Gray K., Porta G., Douaihy A., Marsland A., Brent D., Melhem N.M. The role of substance use, smoking, and inflammation in risk for suicidal behavior. Journal of affective disorders. 2019; 243: 33-41.
- Darvishi N., Farhadi M., Haghtalab T., Poorolajal J. Alcohol-related risk of suicidal ideation, suicide attempt, and completed suicide: a meta-analysis. PloS one. 2015; 10 (5): 26-45.
- Capron D.W., Bujarski S.J., Gratz K.L., Anestis M.D., Fairholme C.P., Tull M.T. Suicide risk among male substance users in residential treatment: Evaluation of the depression-distress amplification model. Psychiatry research. 2016; 237: 22-26.
- Maloney E. et al. Impulsivity and borderline personality as risk factors for suicide attempts among opioid-dependent individuals. Psychiatry research. 2009; 169 (l): 16-21.
- Matthieu M., Hensley M. Gatekeeper training outcomes: enhancing the capacity of staff in substance abuse treatment programs to prevent suicide in a high risk population. Mental Health and Substance Use. 2013; 6 (4): 274-286.
- Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А., Асадуллина Г.М., Шарипов А.Р., Тимербулатова М.Ф. Суициды и синтетические катиноны. Клинико-генетический анализ. Тюменский медицинский журнал. 2017; 19 (2): 12-15.
- O’Neil K.A., Puleo C.M., Benjamin C.L., Podell J.L., Kendall P.C Suicidal ideation in anxiety-disordered youth. Suicide and Life-Threatening Behavior. 2012; 3: 305-317.
- Foley D.L., Goldston D.B., Costello E.J., Angold A. Proximal psychiatric risk factors for suicidality in youth: the Great Smoky Mountains Study. Archives of general psychiatry. 2006; 9: 10171024.
- Karch S.B., Drummer O. Karch's pathology of drug abuse. CRC. Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informabusinepress; 2008; Dec: 15.
- Arunotayanun W., Dalley J.W., Huang X.P., Setola V., Treble R., Iversen L., Roth B.L., Gibbons S. An analysis of the synthetic tryptamines AMT and 5-MeO-DALT: emerging ‘novel psychoactive drugs. Bioorganic & medical chemistry letters. 2013; 23: 3411-3415.
- Асадуллин А.Р. Динамика потребления психоактивных веществ в Республике Башкортостан с углубленным клинико-генетическим изучением формирования зависимости от веществ группы синтетических катинонов: Автореф. дис.. д-рa. мед.наук. СПб, 2018. 34 с.
- Valente M.J., De Pinho P.G., de Lourdes Bastos M., Carvalho F., Carvalho M. Khat and synthetic cathinones: a review. Archives of toxicology. 2014; 88 (1): 15-45.
- Craufurd C. Yemen and Assir: El Dorado? Journal of the Royal Central Asian Society. 1933; 20 (4): 568-577.
- Koppe H., Ludwig G., Zeile K. 1-(3', 4'-methylenedioxy-phenyl)-2-pyrrolidino-alkanones-(1): пат. 3478050 США, 1969.
- Schoots O., Van Tol H.H.M. The human dopamine D4 receptor repeat sequences modulate expression. The Pharmacogenomics Journal. 2003; 3 (6): 343-348.
- Падун М.А. Регуляция эмоций и ее нарушения. Психологические исследования: электронный научный журнал. 2015; 8 (39): 5-5.
- Fadok J.P., Markovic M., Tovote P., Lüthi A. New perspectives on central amygdala function. Current opinion in neurobiology. 2018; 49: 141-147.
- Civiero L., Greggio E. PAKs in the brain: function and dysfunction. Biochimica et Biophysica Acta (BBA). Molecular Basis of Disease. 2018; 1864 (2): 444-453.
- Lucantonio F., Gardner M.P., Mirenzi A., Newman L.E., Takahashi Y.K., Schoenbaum G. Neural estimates of imagined outcomes in basolateral amygdala depend on orbitofrontal cortex. Journal of Neuroscience. 2015; 35 (50): 16521-16530.
- Rubinow M.J., Mahajan G., May W., Overholser J.C., Jurjus G.J., Dieter L., Herbst N., Steffens D.C., Miguel-Hidalgo J.J., Rajkowska G., Stockmeier, C.A. Basolateral amygdala volume and cell numbers in major depressive disorder: a postmortem stereological study. Brain Structure and Function. 2016; 221 (1): 171-184.
- McEwen B.S., Nasca C., Gray J.D. Stress effects on neuronal structure: hippocampus, amygdala, and prefrontal cortex. Neuropsychopharmacology. 2016; 41 (1): 3.
- Grafman J., Schwab K., Warden D., Pridgen A., Brown H.R., Salazar A.M. Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. Neurology. 1996; 46 (5): 1231-1251.
- Kois L.E., Blakey S.M., Gardner B.O., McNally M.R., Johnson J.L., Hamer R.M., Elbogen E.B. Neuropsychological correlates of self-reported impulsivity and informant-reported maladaptive behaviour among veterans with posttraumatic stress disorder and traumatic Brain injury history. Brain injury. 2018; 32 (12): 14841491.
- Baba T., Hosokai Y., Nishio Y., Kikuchi A., Hirayama K., Suzuki K., Hasegawa T., Aoki M., Takeda A., Mori,E. Longitudinal study of cognitive and cerebral metabolic changes in Parkinson's disease. Journal of the neurological sciences. 2017; 372: 288293.
- Koob G.F., Nestler E.J. The neurobiology of drug addiction. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences. 1997; 4: 76-79.
- Marusich J.A., Gay E.A., Blough B.E. Analysis of neurotransmitter levels in addiction-related brain regions during synthetic cathinone self-administration in male Sprague-Dawleyrats. Psychopharmacology. 2018; 6: 1-12.
- Mueller C.P., Homberg J.R. The role of serotonin in drug use and addiction. Behavioural brain research. 2015; 277: 146-192.
- Brodie B.B., Shore P.A. A concept for a role of serotonin and norepinephrine as chemical mediators in the brain. Annals of the New York Academy of Sciences. 1957; 66 (3): 631-642.
- Brown G.L. et al. Aggression in humans correlates with cerebrospinal fluid amine metabolites. Psychiatry research. 1979; 1 (2): 131-139.
- Bani-Fatemi A., Jeremian R., Wang K.Z., Silveira J., Zai C., Kolla N.J., De Luca V. Epigenome-wide association study of suicide attempt in schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. active drugs. Bioorganic & medical chemistry letters. 2013; 23: 3411-3415.
- Simmler L.D., Rickli A., Hoener M.C., Liechti M.E. Monoamine transporter and receptor interaction profiles of a new series of designer cathinones. Neuropharmacology. 2014; 79: 152-160.
- Zhukovsky P., Alsiö J., Jupp B., Xia J., Guiliano C., Jenner L., Griffiths J., Riley E., Ali S., Roberts A.C., Robbins T.W. Perseveration in a spatial-discrimination serial reversal learning task is differentially affected by MAO-A and MAO-B inhibition and associated with reduced anxiety and peripheral serotonin levels. Psychopharmacology. 2017; 234 (9-10): 1557-1571.
- Lammel S., Lim B.K., Malenka R.C. Reward and aversion in a heterogeneous midbrain dopamine system. Neuropharmacology. 2014; 76: 351-359.
- Croft R.J., Klugman A., Baldeweg T., Gruzelier J.H. Electrophysiological Evidence of Serotonergic Impairment in Long-Term MDMA ("Ecstasy") Users. American Journal of Psychiatry. 2001; 158 (10): 1687-1692.
- Manchia M., Carpiniello B., Valtorta F., Comai S. Serotonin dysfunction, aggressive behavior, and mental illness: exploring the link using a dimensional approach. ACS chemical neuroscience. 2017; 8 (5): 961-972.
- Brosda J., Müller N., Bert B., Fink H. Modulatory Role of Postsynaptic 5-Hydroxytryptamine Type 1A Receptors in (±)-8-Hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin-Induced Hyperphagia in Mice. ACS chemical neuroscience. 2015; 6 (7): 1176-1185.
- Banlaki Z., Elek Z., Nanasi T., Szekely A., Nemoda Z., Sasvari-Szekely M., Ronai, Z. Polymorphism in the serotonin receptor 2a (HTR2A) gene as possible predisposal factor for aggressive traits. PLoS one. 2015; 10 (2): e0117792.
- Nautiyal K.M. et al. Distinct circuits underlie the effects of 5-HT1B receptors on aggression and impulsivity. Neuron. 2015; 86 (3): 813-826.
- Hervig M.E.S., Jensen N.C.H., Rasmussen N.B., Rydbirk R., Olesen M.V., Hay-Schmidt A., Pakkenberg B., Aznar S. Involvement of serotonin 2A receptor activation in modulating medial prefrontal cortex and amygdala neuronal activation during novelty-exposure. Behavioural brain research. 2017; 326: 1-12.
- Murphy T.M., Ryan M., Foster T., Kelly C., McClelland R., O'Grady J., Corcoran E., Brady J., Reilly M., Jeffers A., Brown K. Risk and protective genetic variants in suicidal behaviour: association with SLC1A2, SLC1A3, 5-HTR1B & NTRK2 polymorphisms. Behavioral and Brain Functions. 2011; 7 (1): 22.
- Antypa N., Serretti A., Rujescu D. Serotonergic genes and suicide: a systematic review. European Neuropsychopharmacology. 2013; 23:1125-1142.
- Wrzosek M., Lukaszkiewicz J., Wrzosek M., Serafin P., Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Matsumoto H., Brower K.J., Wojnar M. Association of polymorphisms in HTR2A, HTR1A and TPH2 genes with suicide attempts in alcohol dependence: a preliminary report. Psychiatryresearch. 2011; 190: 149-151.
- Зотов П.Б. Вопросы идентификации клинических форм и классификации суицидального поведения. Академический журнал Западной Сибири. 2010; 3: 35-37.
- Kessler R.C., Berglund P., Demler O., Jin R., Merikangas K.R., Walters E.E. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry. 2005; 62 (6): 593-602.
- Daniel J.J., Hughes, R.N. Increased anxiety and impaired spatial memory in young adult rats following adolescent exposure to methylone. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2016; 146: 44-49.
- Cao J., Hudziak J.J., Li D. Multi-cultural association of the serotonin transporter gene (SLC6A4) with substance use disorder. Neuropsychopharmacology. 2013; 38 (9): 1737.
- White V.M., Hopper J.L., Wearing A.J., Hill D.J. The role of genes in tobacco smoking during adolescence and young adulthood: a multivariate behaviour genetic investigation. Addiction. 2003; 98 (8): 1087-1100.
- Goldstein R.Z., Volkow N.D. Drug addiction and its underlying neurobiological basis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. American Journal of Psychiatry. 2002; 159 (10): 1642-1652.
- Kao W.T., Yang M.C., Lung F.W. Association between HTR1B 104: 192-197.
- Herman A.I., Balogh K.N. Polymorphisms of the serotonin transporter and receptor genes: susceptibility to substance abuse. Substance abuse and rehabilitation. 2012; 3: 49.
- Gizer I.R., Ficks C., Waldman I.D. Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. Human genetics. 2009; 126 (l): 51-90.
- Ghasemi A., Seifi M., Baybordi F., Danaei N., Rad, B.S. Association between serotonin 2A receptor genetic variations, stressful life events and suicide. Gene. 2018; 658: 191-197. alleles and suicidal ideation in individuals with major depressive disorder. Neuroscience letters. 2017; 638: 204-210.
- Herman A.I., Balogh K.N. Polymorphisms of the serotonin transporter and receptor genes: susceptibility to substance abuse. Substance abuse and rehabilitation. 2012; 3: 49.
- Gizer I.R., Ficks C., Waldman I.D. Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. Human genetics. 2009; 126 (l): 51-90.
- Ghasemi A., Seifi M., Baybordi F., Danaei N., Rad, B.S. Association between serotonin 2A receptor Genetic variations, stressful life events and suicide. Gene. 2018; 658: 191-197.