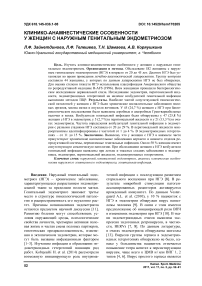Клинико-анамнестические особенности у женщин с наружным генитальным эндометриозом
Автор: Зайнетдинова Лариса Фоатовна, Телешева Лариса Федоровна, Шамаева Татьяна Николаевна, Коряушкина Анна Владимировна
Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu
Рубрика: Клиническая и экспериментальная медицина
Статья в выпуске: 2 т.17, 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель. Изучить клинико-анамнестические особенности у женщин с наружным генитальным эндометриозом. Организация и методы. Обследовано 182 женщины с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) в возрасте от 20 до 45 лет. Диагноз НГЭ был установлен во время проведения лечебно-диагностической лапароскопии. Группу контроля составили 44 женщины, у которых по данным лапароскопии НГЭ не был обнаружен. Для оценки степени тяжести НГЭ использована классификация Американского общества по репродуктивной медицине R-AFS (1996). Всем женщинам проводили бактериологическое исследование цервикальной слизи. Исследование эндометрия, перитонеальной жидкости, эндометриоидных гетеротопий на наличие возбудителей генитальной инфекции выполняли методом ПЦР. Результаты. Наиболее частой сопутствующей гинекологической патологией у женщин с НГЭ были хронические воспалительные заболевания половых органов, миома матки и опухоли яичников. У 45 (24,7 %) женщин с НГЭ при бактериологическом исследовании были выявлены аэробные и анаэробные Грам-вариабельные палочки и кокки. Возбудители генитальной инфекции были обнаружены у 47 (25,8 %) женщин с НГЭ в эндометрии, у 5 (2,7 %) в перитонеальной жидкости и у 21 (13,3 %) в очагах эндометриоза. Частота определения возбудителей генитальной инфекции в эндометрии с разными стадиями НГЭ составила от 20 до 29 %. В перитонеальной жидкости микроорганизмы идентифицированы с частотой от 1 до 4 %. В эндометриоидных гетеротопиях - от 11 до 15 %. Заключение. Выявлено, что у женщин с НГЭ в анамнезе часто присутствуют хронические воспалительные заболевания верхнего и нижнего отделов репродуктивной системы, перенесенные генитальные инфекции. Около 50 % женщин имеют сопутствующую соматическую патологию. При обследовании женщин с НГЭ возбудители генитальной инфекции выявлены при легких и тяжелых стадиях заболевания в эндоцервиксе, эндометрии, перитонеальной жидкости, эндометриоидных гетеротопиях.
Наружный генитальный эндометриоз, анамнез, клинические особенности наружного генитального эндометриоза, генитальная инфекция
Короткий адрес: https://sciup.org/147153353
IDR: 147153353 | УДК: 618.145-036.1-08 | DOI: 10.14529/hsm170205
Текст научной статьи Клинико-анамнестические особенности у женщин с наружным генитальным эндометриозом
Введение. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) – хроническое заболевание, характеризующееся разрастанием эндометриальной ткани за пределами полости матки. Генитальный эндометриоз занимает третье место в структуре гинекологической патологии и распространенность его неуклонно растет. Причины возникновения эндометриоза остаются предметом научной дискуссии [11]. Развитию болезни могут способствовать условия окружающей среды, психологические свойства личности, чрезмерно активная половая жизнь и частая смена половых партнеров, генетическая предрасположенность, изменения в эктопическом эндометрии, которые могут быть вызваны инфекционным фактором [1–3]. Изучению инфекции в образовании эндометриоидных гетеротопий посвящен ряд работ. Kobayashi H. еt al. (2014) рассмотрели возможную инициирующую роль внутрима- точной инфекции с последующим развитием стерильного воспаления при НГЭ [8]. В результате микробной стимуляции патоген-ассоциированных рецепторов активируется врожденный иммунитет. По данным Vester-gaard A.L. et al. (2010), у 10 % пациенток с НГЭ в эндометрии обнаружен вирус папилломы человека [9]. В связи с этим имеется предположение об инициирующей роли ВПЧ в изменениях эндометрия при НГЭ [10]. В ткани эндометриоидных очагов выявлена экспрессия эндогенных ретровирусов, в частности, HERVs [7, 8]. По данным литературы, в очагах эндометриоза обнаружены шигеллы [13]. Вирусов группы герпеса в эндометриоидных гетеротопиях обнаружено не было, однако у большинства пациенток отмечается повышение титра антител к персистирующим вирусам, чаще всего к ЦМВ и / или ВПГ 1, 2 типов [4, 6]. Вирус простого герпеса является одним из пусковых агентов возникновения эндометриоза [5]. По мнению В.П. Лескова и соавторов (1998) при эндометриозе развивается недостаточность преимущественно противовирусного иммунитета и нарушение контроля над персистирующими вирусами [4]. Исследования, посвященные инфекционной составляющей в патогенезе НГЭ, немногочисленны, и вопрос этот до конца не изучен.
Цель исследования: Изучить клиникоанамнестические особенности у женщин с наружным генитальным эндометриозом.
Организация и методы. Обследовано 182 женщины с НГЭ в возрасте от 20 до 45 лет, поступившие для проведения оперативного лечения в гинекологическое отделение Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Диагноз НГЭ у всех женщин был установлен во время проведения лечебно-диагностической лапароскопии и подтвержден результатами гистологического исследования. Операция проводилась в фолликулярной фазе цикла на оборудовании фирмы KARL STORZ по стандартной методике. Группу контроля составили 44 женщины, у которых по данным лапароскопии НГЭ не был обнаружен. Для оценки степени тяжести НГЭ использована классификация Американского общества по репродуктивной медицине R-AFS (1996), основанная на подсчете общей площади и глубины эндометриоидных гетеротопий, выраженных в баллах. С 1-й стадией (минимальной) НГЭ было 68 (30,1 %) пациенток, со 2-й стадией (легкой) – 20 (8,8 %), с 3-й стадией (умеренной) – 70 (31 %), с 4-й стадией (тяжелой) – 24 (10,6 %).
Всем женщинам проводили бактериологическое исследование цервикальной слизи с применением унифицированной методики. Исследование эндометрия, перитонеальной жидкости, эндометриоидных гетеротопий на наличие возбудителей генитальной инфекции выполняли методом ПЦР с использованием тест-системы «АмплиСенс», г. Москва и наборами реагентов для выявления ДНК Chlamidia trachomatis, Ureaplasma spp, HSV1,2, CMV, HPV. Гистологическое исследование операционного материала проводилось в патологоанатомическом отделении Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
Статистический анализ данных осуществляли при помощи программы IBM SPSS Statistics Version 22. Для сравнения дихотомических и категорийных показателей использо- ван критерий хи-квадрат Пирсона. Для оценки количественных показателей определяли непараметрические критерии Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст женщин с НГЭ составил 31,59 ± 0,4 года. Возраст женщин с разной степенью тяжести НГЭ достоверно не отличался. В группе контроля средний возраст составил 33,23 ± 1,18 года.
Изучая социальный «портрет» женщин с НГЭ, было выявлено, что более половины из них – служащие – 100 (54,9 %), 36 (19,7 %) – домохозяйки, 24 (13,2 %) – студентки и 22 (12,1 %) – рабочие. В контрольной группе также преобладали служащие – 19 (43,2 %), домохозяек было 16 (36,4 %), студенток – 5 (11,4 %) и женщин рабочих специальностей – 4 (9,1 %).
Средний возраст начала половой жизни у женщин с НГЭ был 18 ± 0,074 лет; в контрольной группе – 19,93 ± 0,342 (р < 0,001). Достоверных различий между женщинами с разной степенью тяжести НГЭ не было. Меньше половины женщин с НГЭ – 76 (41 %) жили в зарегистрированном браке, в контрольной группе этот показатель был – 30 (68,2 %), р = 0,001.
Среди пациенток с разными стадиями НГЭ у 91 (50 %) была соматическая патология. В контрольной группе женщин с соматической патологией было 19 (43,2 %). Наиболее часто у женщин с НГЭ присутствовали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания (патология щитовидной железы), сердечно-сосудистые заболевания, хронический тонзиллит, ОРВИ и наличие рецидивирующей ВПГ-инфекции. Различий в частоте соматических заболеваний у женщин с разными стадиями НГЭ не было.
При изучении особенностей менструальной функции было выявлено, что в группе женщин с НГЭ возраст менархе достоверно меньше в сравнении с контролем – 13,0 ± 0,09 и 13,48 ± 0,24 соответственно (р = 0,02). Длительность менструального цикла у женщин с НГЭ в среднем составила 27,34 ± 0,12 дней, в контрольной группе – 27,82 ± 0,41 (р = 0,001). Продолжительность менструального кровотечения достоверно не отличалась у женщин с НГЭ и в контрольной группе (5,58 ± 0,08 и 5,22 ± 0,15 соответственно). Более половины пациенток с НГЭ – 106 (58,2 %) отметили бо- лезненность менструаций, в контрольной группе лишь 9 (20,5 %) женщин предъявляли жалобы на боли при менструации (р < 0,001). Мажущие кровянистые выделения до и после менструации отметили только женщины с НГЭ - 16 (8,8 %). Менструальная функция не имела особенностей у женщин с разными стадиями НГЭ.
В анамнезе 74 (40,7 %) пациенток с НГЭ присутствовало бесплодие. Из них у 60 (33 %) -первичное. В контрольной группе бесплодие в анамнезе было у 5 (11,4 %), р < 0,001. Наличие родов отметили 26 (14,3 %) женщин с эндометриозом и 27 (61,4 %) в контрольной группе (р < 0,001). Одни роды в анамнезе были у 19 (10,4 %) пациенток с НГЭ и у 12 (27,3 %) в группе контроля. Повторные роды - у 7 (3,8 %) и у 15 (34 %) соответственно. Один искусственный аборт в анамнезе достоверно чаще был у женщин контрольной группы - 10 (22,7 %) и у 5 (2,7 %) - с НГЭ, р = 0,003. Два и более аборта были только у женщин с НГЭ. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе были и у пациенток с НГЭ, и в контрольной группе. Один выкидыш на ранних сроках беременности отмечен у 10 (22,7 %) женщин в контрольной группе и у 10 (5,49 %) - с НГЭ. Привычным невынашиванием беременности страдали 17 (9,34 %) женщин с разными стадиями НГЭ. Данные акушерского анамнеза не имели особенностей у женщин с легкими и тяжелыми стадиями НГЭ.
При анализе методов контрацепции обращает на себя внимание более редкое использование барьерной контрацепции женщинами с НГЭ. Достоверные различия получены при всех стадиях заболевания в сравнении с контрольной группой (1-я стадия - р < 0,001, 2-я стадия - р < 0,004, 3-я стадия - р < 0,001, 4-я стадия - р < 0,001).
Сопутствующие гинекологические заболевания имели 107 (58,8 %) женщин с НГЭ. Более половины - это хронические воспалительные заболевания женской репродуктивной системы: хронический эндометрит -у 121 (66,6 %) и у 9 (20,5 %) в контрольной группе (р < 0,001); хронический сальпингит -у 35 (19,2 %) и у 2 (4,5 %) - в контроле (р = 0,018). Достоверных различий при сравнении между группами с разной степенью тяжести эндометриоза не выявлено. Хронический цервицит присутствовал у 43 (23,6 %) женщин с НГЭ и у 1 (2,3 %) в группе контроля. Среди пациенток с 1-й стадией НГЭ число женщин с хроническим цервицитом было самым небольшим - 9 (13,2 %), при 2-й - 6 (30 %), при 3-й - 20 (29 %), при 4-й - 8 (33,3 %). Разница между 1, 3 и 4-й стадиями достоверна (р1-3 = 0,04, р1-4 = 0,03). Дисплазия шейки матки встречалась в 4 (2,19 %) случаях только у женщин с НГЭ при 2, 3 и 4-й стадиях. Количество случаев СПКЯ достоверно не отличалось в группе женщин с НГЭ и в контрольной группе, однако у женщин с 1-й и 2-й стадиями СПКЯ присутствовал чаще, в то время как при 3-й и 4-й стадиях практически не встречался. Опухоли яичников были у 19 (10,4 %) женщин с НГЭ: при 1-й стадии - у 12 (17,6 %), при 2-й - 2 (10 %), при 3-й - 3 (4,3 %), при 4-й -2 (8,3 %). В контрольной группе не было женщин с опухолями яичников. Гиперпластические процессы эндометрия диагностированы у 9 (4,9 %) женщин с НГЭ, полипы - у 10 (5,49 %). По стадиям достоверных различий в частоте гиперплазии эндометрия и полипов не было. В контрольной группе в одном случае диагностирована гиперплазия и в одном - полип эндометрия. Пороки развития полового аппарата присутствовали только среди женщин с НГЭ в 4 (2,2 %) случаях. Сочетание наружного и внутреннего эндометриоза было у 10 (5,5 %) женщин основной группы при 1, 3 и 4-й стадиях; достоверных различий между стадиями не было. В контрольной группе женщин с аденомиозом не было. Миома матки присутствовала у 29 (15,9 %) женщин с НГЭ. Пациенток с 1-й стадией и миомой матки было 10 (14,7 %), со 2-й - 3 (15 %), с 3-й -13 (18,8 %), с 4-й - 3 (12,5 %); достоверных различий не было. В контрольной группе миома матки была в 6 (13,6 %) случаях.
Наличие жалоб или их отсутствие, а также степень выраженности не зависели от тяжести эндометриоза. Среди женщин с НГЭ жалобы предъявляли 127 (69,8 %). Болезненные менструации отмечали женщины с разной степенью тяжести НГЭ: среди пациенток с 1-й стадией - 31 (45,6 %), со 2-й - 9 (45 %), с 3-й - 32 (46,4 %), с 4-й - 12 (50 %) женщин. Отличий между разными стадиями заболевания не было. На диспареунию жаловались пациентки с легкими и тяжелыми стадиями НГЭ: с 1-й - 9 (13,2 %), со 2-й - 5 (25 %), с 3-й -19 (27,5 %), с 4-й - 4 (16,5 %); достоверных различий не было. Хроническая тазовая боль была у 25 (6,8 %) женщин с 1-й стадией, у 4 (20 %) - со 2-й, у 33 (47,8 %) - с 3-й, у 7 (29,2 %) - с 4-й. Достоверных различий не было. 60 (32,9 %) пациенток с НГЭ предъявляли жалобы на бесплодие. При 1-й стадии по поводу бесплодия обратились 25 (36,8 %) женщин, при 2-й – 8 (40 %), при 3-й – 17 (24,6 %), при 4-й – 10 (41,7 %). Женщин с бесплодием было достоверно больше при 1-й стадии в сравнении с 3-й (р = 0,03). Мигрени беспокоили 65 (35,9 %) женщин с НГЭ разной степени тяжести и 4 (9,1 %) в группе контроля (р = 0,002). В контрольной группе кроме этого у 2 (4,5 %) женщин была дисменорея, у 3 (6,8 %) ‒ хроническая тазовая боль и у 5 (11,4 %) ‒ бесплодие.
Мы проанализировали некоторые факторы, которые по литературным данным могут способствовать развитию эндометриоза. Среди обследованных женщин с НГЭ 79 (43,3 %) отметили постоянные стрессы в быту и / или на работе, в контрольной группе – таких женщин было 6 (13 %), р ˂ 0,001; острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 3 и более раза в год отметили 85 (46,7 %) женщин с НГЭ, в контрольной группе – 2 (4,5 %), р ˂ 0,001; рецидивирующее течение герпетической инфекции было у 22 (12,1 %) женщин с эндометриозом, в контрольной группе – у 2 (4,5 %); смену климатических поясов более одного раза за последний год отметили 69 (37,9 %) пациенток с НГЭ, в контрольной группе ‒ 2 (4,5 %), р ˂ 0,001.
Продолжая изучать особенности анамнеза женщин с НГЭ, мы выявили, что 85 (46,7 %) из них были пролечены ранее по поводу генитальных инфекций. При 1-й стадии таких па- циенток было 29 (42,6 %), при 2-й – 10 (50 %), при 3-й – 34 (48,6 %), при 4-й – 12 (50 %). Хламидийная, уреаплазменная инфекции, кандидозный вульвовагинит присутствовали в анамнезе женщин с НГЭ и в контрольной группе. Генитальная герпетическая инфекция (HSV 1, 2), CMV, HPV‒инфекция были в анамнезе женщин только с НГЭ.
Всем пациенткам перед поступлением в стационар проводилось бактериологическое исследование цервикальной слизи. Результаты представлены в табл. 1.
Более чем у половины женщин с НГЭ и контрольной группы роста микроорганизмов при бактериологическом исследовании не наблюдалось. Полученный результат связан с тем, что женщины поступали обследованные на плановое оперативное лечение. Однако у пациенток с НГЭ в единичных случаях был рост анаэробных бактерий (Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Str. agalacticus), Гр (+) (Corinebacterium spp., Staph. epidermalis, Staph. saprophyt, Enterococcus spp.), Гр (‒) (E.colli) бактерий, Candida albicans. У женщин контрольной группы в двух случаях был рост Staph. saprophyt и в одном – Candida albicans. Во всех случаях количество микроорганизмов было в пределах 104 КОЕ/мл.
На наличие возбудителей генитальной инфекции обследован эндометрий, перитонеальная жидкость и очаги эндометриоза. Данные в табл. 2.
У женщин с НГЭ 1-й стадии в исследуемом материале преобладала Ureaplasma spp –
Таблица 1
Table 1
Результаты бактериологического исследования цервикальной слизи пациенток с НГЭ Results of bacteriological examination of cervical mucus in patients with endometriosis
|
Возбудители Pathogens |
Контроль Control (n = 44) |
1-я стадия Stage 1 (n = 68) |
2-я стадия Stage 2 (n = 20) |
3-я стадия Stage 3 (n = 70) |
4-я стадия Stage 4 (n = 24) |
|
Роста нет |
41 (93,2 %) |
56 (82,3 %) |
12 (60 %) |
54 (77,1 %) |
15 (62,5 %) |
|
Gardnerella vaginalis |
‒ |
4 (5,9 %) |
1 (5 %) |
1 (1,4 %) |
1 (4,2 %) |
|
Mobiluncus |
‒ |
‒ |
1 (5 %) |
‒ |
‒ |
|
Corinebacter |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
1 (4,2 %) |
|
Candida albicans |
1 (2,3 %) |
1 (1,5 %) |
1 (5 %) |
2 (2,9 %) |
1 (4,2 %) |
|
Str. agalacticus |
‒ |
‒ |
1 (5 %) |
2 (2,9 %) |
‒ |
|
Staph.epidermalis |
‒ |
5 (7, 4 %) |
1 (5 %) |
3 (4,2 %) |
5 (20,8 %) |
|
Staph.saprophyt |
2 (4,5 %) |
‒ |
1 (5 %) |
4 (5,7 %) |
‒ |
|
E. colli |
‒ |
1 (1,5 %) |
1 (5 %) |
2 (2,9 %) |
1 (4,1 %) |
|
Ent. zymogenus |
‒ |
2 (2,9 %) |
‒ |
2 (2,9 %) |
1 (4, 1%) |
|
Ent. faecalis |
‒ |
2 (2,9 %) |
4 (20 %) |
8 (11,4 %) |
2 (8,3 %) |
Таблица 2
Table 2
Возбудители генитальной инфекции, выделенные в исследуемых группах Pathogens of genital infection
|
Возбудители Pathogens |
р |
Контроль Control (n = 44) |
1-я стадия Stage 1 (n = 68) |
2-я стадия Stage 2 (n = 20) |
3-я стадия Stage 3 (n = 70) |
4-я стадия Stage 4 (n = 24) |
|
Chlamidia trachomatis |
N/S |
‒ |
‒ |
‒ |
1 (1,4 %) |
1 (4,2 %) |
|
Ureaplasma spp |
3/4 = 0,03 |
1 (2,3 %) |
12 (23,1 %) |
5 (29,4 %) |
10 (16,7 %) |
8 (40 %) |
|
HPV |
N/S |
2 (4,5 %) |
4 (7,7 %) |
1 (5,9 %) |
9 (15 %) |
4 (20 %) |
|
HSV1,2 |
N/S |
2 (4,5 %) |
2 (3,8 %) |
‒ |
1 (1,7 %) |
‒ |
|
CMV |
1/2 = 0,02 |
‒ |
5 (9,6 %) |
2 (11,8 %) |
6 (10 %) |
1 (1,6 %) |
Таблица 3
Table 3
Возбудители генитальной инфекции, выделенные из эндометрия у обследованных женщин Causative agents of genital infection isolated from the endometrium
|
Возбудители Pathogens |
р |
Контроль Control (n = 44) |
1-я стадия Stage 1 (n = 68) |
2-я стадия Stage 2 (n = 20) |
3-я стадия Stage 3 (n = 70) |
4-я стадия Stage 4 (n = 24) |
|
HPV |
N/S |
2 (4,5 %) |
4 (5,9 %) |
‒ |
5 (7,1 %) |
3 (12,5 %) |
|
HSV 1, 2 |
N/S |
‒ |
1 (1,5 %) |
‒ |
‒ |
‒ |
|
CMV |
N/S |
‒ |
2 (2,9 %) |
1 (5 %) |
2 (2,8 %) |
‒ |
|
Ureaplasma spp |
N/S |
3 (6,8 %) |
13 (19,1 %) |
3 (15 %) |
9 (12,8 %) |
4 (16,6 %) |
12 (23,1 %); CMV был обнаружен в 5 (9,6 %), HPV – в 4 (7,7 %), HSV1,2 – в 3 (3,8 %) случаях. При 2-й стадии также наиболее часто определялась Ureaplasma spp – 5 (29,4 %); далее CMV – 2 (11,8 %) и в 1 (5,9 %) случае – HPV. При 3-й стадии НГЭ Ureaplasma spp и HPV обнаруживались в исследуемых локализациях одинаково часто: 10 (16,7 %) и 9 (15 %) соответственно; CMV был у 6 (10 %), по 1 (1,7 %) случаю – HSV1,2 и Chlamidia trachomatis. При тяжелом эндометриозе (4-я стадия) почти у половины обследованных на наличие возбудителей генитальной инфекции женщин была выделена Ureaplasma spp – 8 (40 %), у каждой 4-й (20 %) ‒ HPV и в 1 (1,6 %) случае – СMV.
При сравнении результатов у женщин с разными стадиями НГЭ можно отметить некоторые особенности: при 1-й стадии (в сравнении со 2-й) достоверно чаще был выделен CMV (р 1–2 = 0,02), при 4-й стадии в сравнении с 3-й ‒ Ureaplasma spp (р 3–4 = 0,03). В контрольной группе женщин из эндометрия и перитонеальной жидкости были выделены: Ureaplasma spp – 1 (2,3 %), HPV – 2 (4,5 %), HSV1,2 – 2 (4,5 %).
Далее мы проанализировали частоту выделения возбудителей генитальной инфекции из эндометрия, перитонеальной жидкости и очагов эндометриоза.
В эндометрии женщин с НГЭ возбудители генитальной инфекции выявлены у 47 (25,8 %), в группе контроля ‒ у 5 (11,4 %). Данные в табл. 3.
При 1-й стадии НГЭ в эндометрии обнаружены: Ureaplasma spp ‒ в 13 (19,1 %) случаях, HPV ‒ 4 (5,9 %), CMV ‒ 2 (2,9 %), HSV1,2 ‒ 1 (1,5 %). При 2-й стадии: Ureap-lasma spp в 3 (15 %) случаях, CMV ‒ 1 (5 %). При 3-й стадии: Ureaplasma spp ‒ в 9 (12,8 %), HPV ‒ в 5 (7,1 %), CMV‒ в 2 (2,8 %) случаях. При 4-й стадии: Ureaplasma spp ‒ в 4 (16,6 %), HPV ‒ в 3 (12,5 %) случаях. В контрольной группе у 3 (6,8 %) женщин выделены Ureap-lasma spp, у 2 (4,5 %) – HPV. Наиболее часто выделяемыми из эндометрия возбудителями были Ureaplasma spp и HPV.
Далее на наличие возбудителей генитальных инфекций обследована перитонеальная жидкость и эндометриоидные гетеротопии. Результаты исследования перитонеальной жидкости представлены в табл. 4.
В перитонеальной жидкости у женщин с НГЭ возбудители генитальной инфекции присутствовали в единичных случаях, при этом
Таблица 4
Table 4
Возбудители генитальной инфекции, выделенные из перитонеальной жидкости у обследованных женщин
Causative agents of genital infection isolated from peritoneal fluid
|
Возбудители Pathogens |
р |
Контроль Control (n = 44) |
1-я стадия Stage 1 (n = 68) |
2-я стадия Stage 2 (n = 20) |
3-я стадия Stage 3 (n = 70) |
4-я стадия Stage 4 (n = 24) |
|
HSV 1, 2 |
N\S |
1 (2,3 %) |
‒ |
‒ |
‒ |
1 (4,1 %) |
|
CMV |
N\S |
‒ |
3 (4,4 %) |
‒ |
1 (1,4 %) |
‒ |
Таблица 5
Table 5
Возбудители генитальной инфекции, выделенные из эндометриоидных гетеротопий у обследованных женщин с НГЭ
Causative agents of genital infection isolated from endometrioid heterotopies
|
Возбудители Pathogens |
р |
1-я стадия 1 Stage (n = 56) |
2-я стадия 2 Stage (n = 18) |
3-я стадия 3 Stage (n = 64) |
4-я стадия 4 Stage (n = 20) |
|
HPV |
N/S |
1 (1,7 %) |
‒ |
‒ |
2 (10 %) |
|
HSV1,2 |
N/S |
‒ |
‒ |
1 (1,6 %) |
‒ |
|
CMV |
N/S |
2 (3,6 %) |
1 (5,5 %) |
4 (6,3 %) |
‒ |
|
Ureaplasma spp |
N/S |
3 (5,4 %) |
1 (5,5 %) |
4 (6,3 %) |
2 (10 %) |
обнаружены были только вирусы герпеса: при 1-й стадии CMV был в 3 (4,4 %) случаях; при 2-й стадии ни в одном случае положительных результатов не было; при 3-й – CMV в 1 (1,4 %) случае, при 4-й – HSV1,2 в 1 (4,1 %) случае.
Результаты исследования очагов эндометриоза на наличие возбудителей генитальной инфекции представлены в табл. 5.
В эндометриоидных гетеротопиях (биоп-таты капсул эндометриоидных кист яичников, инфильтративного эндометриоза брюшины и клетчатки малого таза, малые формы эндометриоза) инфекционные патогены были обнаружены у 21 (13,3 %) женщины. У женщин с 1-й стадией в 3 (5,4 %) случаях выявлена Ureaplasma spp, в 2 (3,6 %) – CMV, в 1 (1,7 %) – HPV. При 2-й стадии в 1 (5,5 %) случае ‒ CMV и в 1 (5,5 %) ‒ Ureaplasma spp. При 3-й стадии ‒ в 4 (6,3 %) случаях ‒ Ureaplasma spp, в 4 (6,8 %) – CMV, в 1 (1,6 %) – HSV 1, 2. При 4-й стадии – в 2 (10 %) случаях ‒ Ureap-lasma spp, в 2 (10 %) – HPV. Различий между стадиями НГЭ не было.
При лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с НГЭ малые формы НГЭ были преимущественно на брюшине малого таза, яичниках и крестцово-маточных связках. Эндометриоидные инфильтраты локализовались в ректо-вагинальной и предпузырной клетчатке и на крестцово-маточных связках. При лапароскопии производили энуклеацию эндометриоидных кист яичников, иссечение эндометриоидных инфильтратов и малых форм эндометриоза, адгезиолизис. У всех женщин эндометриоз был подтвержден результатами гистологического исследования. При морфологическом исследовании яичников на фоне характерных для эндометриоза изменений тканей у большинства женщин присутствовали признаки оофорита. У женщин с 1-й стадией в 15 случаях были гетеротопии на яичниках в виде малых форм. Кроме этого, по данным морфологического исследования биоптатов у 2 (13,3 %) не было признаков оофорита, у 11 (73,3 %) присутствовали признаки хронического неактивного оофорита и у 2 (13,3 %) – хронического активного оофорита. При 2-й стадии также были малые формы эндометриоза на яичниках; в 2 (18,2 %) случаях воспалительные изменения в яичниках не обнаружены, хронический активный оофорит был в 7 (63,7 %), хронический неактивный оофорит – в 2 (18,2 %) случаях. При 3-й и 4-й стадиях во всех случаях были морфологические признаки оофорита. При 3-й стадии – у 24 (72,7 %) – хронический неактивный оофорит, у 9 (27,3 %) ‒ хронический активный оофорит; при 4-й стадии – в 11 (91,7 %) и в 1 (8,3 %) случае соответственно. При сравнении результатов у женщин с разной степенью тяжести НГЭ достоверность получена между 2-й и 3-й стадиями: при эндометриозе средней степени тяжести (3-я стадия) количество случаев активного оофорита было больше, чем при легкой степени (2-я стадия) (р2–3 = 0,03).
В последние годы наблюдается рост генитального эндометриоза, преимущественно среди женщин репродуктивного возраста. Заболевание рассматривается как мультифак-торное. По данным проведенного исследования, все женщины с НГЭ были репродуктивного возраста (средний возраст 31,59 ± 0,4 год). Более половины пациенток с разными стадиями НГЭ по социальному статусу относились к служащим. Параметры менструального цикла (возраст менархе, продолжительность цикла, длительность менструации, болезненность, регулярность) не имели выраженных отличий у женщин с разными стадиями НГЭ, однако при сравнении с контрольной группой у женщин с НГЭ продолжительность цикла была достоверно короче (27,34 ± 0,12) и возраст менархе был меньше (13 ± 0,09 лет). Пациентки с НГЭ раньше начинали половую жизнь, при этом около половины не в браке. У 50 % женщин с НГЭ были хронические соматические заболевания, преимущественно патология желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, инфекционные заболевания (хронический тонзиллит, заболевания дыхательных путей, ОРВИ 3 и более раза в год, рецидивирующая ВПГ-инфекция). Для женщин с НГЭ характерно преобладание в анамнезе хронических воспалительных заболеваний репродуктивной системы; 47,8 % пациенток ранее были пролечены по поводу генитальных инфекций, при этом герпетическая, ЦМВ и ВПЧ-инфекция были в анамнезе только у женщин с НГЭ.
На момент проведения исследования хронические воспалительные заболевания сохранялись как сопутствующая патология, а также достаточно часто встречалась миома матки и опухоли яичников. Таким образом, наиболее частой сопутствующей гинекологической патологией у женщин с НГЭ были хронические воспалительные заболевания половых органов, миома матки и опухоли яичников. Выявленные нами особенности анамнеза были отмечены другими авторами в ранее проведенных исследованиях [4].
Эндометриоз является одной из наиболее частых причин болевого синдрома. Почти у половины женщин с разной степенью тяжести НГЭ мы наблюдали наличие дисменореи;
диспареунию отметили от 13 до 25 % женщин с легкими и тяжелыми стадиями эндометриоза, хроническая тазовая боль беспокоила от 20 до 48 % женщин со 2, 3 и 4-й стадиями. Бесплодием страдали 36,8 % пациенток с малыми формами (1-я стадия), 40 % ‒ с легким (2-я стадия), 24,6 % ‒ с умеренным эндометриозом (3-я стадия) и 41,7 % ‒ с тяжелым (4-я стадия); достоверных различий не было. В контрольной группе женщин без НГЭ беспло дие было у 11,4 %. Таким образом, частота бесплодия у женщин с НГЭ повышается в 3‒4 раза.
НГЭ посвящены многочисленные исследования, однако до настоящего времени этиология и патогенез этого заболевания окончательно не установлены. Учитывая данные литературы [1, 3, 12] о возможной инициирующей роли инфекции в развитии НГЭ, мы исследовали на наличие бактериальных и вирусных патогенов разные отделы репродуктивной системы, перитонеальную жидкость и эндометриоидные гетеротопии. У 45 (24,7 %) женщин с НГЭ при бактериологическом исследовании были выявлены аэробные и анаэробные Грам-вариабельные палочки и кокки. Возбудители генитальной инфекции были обнаружены у 47 (25,8 %) женщин с НГЭ в эндометрии, у 5 (2,7 %) в перитонеальной жидкости и у 21 (13,3 %) в очагах эндометриоза. Частота определения возбудителей генитальной инфекции в эндометрии существенно не отличалась у женщин с разными стадиями НГЭ и составила от 20 до 29 %. В перитонеальной жидкости микроорганизмы идентифицированы при 1, 3 и 4-й стадиях с частотой от 1 до 4 %. В эндометриоидных гетеротопиях – при всех стадиях от 11 до 15 %. Таким образом, инфекционные возбудители наиболее часто локализовались в эндометрии, в очагах эндометриоза и в редких случаях в перитонеальной жидкости. В контрольной группе женщин исследуемые возбудители определялись в эндометрии и перитонеальной жидкости в 5 случаях (Ureaplasma spp, HPV, HSV1,2). Таким образом, у пациенток с НГЭ возбудителей генитальной инфекции обнаруживали в указанных локализациях значительно чаще, чем в контрольной группе женщин. У всех женщин НГЭ подтвержден при проведении гистологического исследования. При локализации очагов на яичниках в 75 % случаев были признаки не активного и в 19,4 % ‒ активного оофорита.
Заключение. Для женщин с разными стадиями НГЭ характерно наличие отягощенного гинекологического анамнеза преимущественно за счет хронических воспалительных заболеваний верхнего и нижнего отделов репродуктивной системы, перенесенных генитальных инфекций.
При всех стадиях НГЭ наблюдается высокий процент (50 %) женщин, имеющих сопутствующую соматическую патологию (заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, дыхательных путей, частые ОРВИ).
Возбудители генитальной инфекции определялись у женщин с НГЭ в эндометрии, перитонеальной жидкости, эндометриоидных гетеротопиях не зависимо от cтадии заболевания. Наиболее часто патогены локализовались в эндометрии и очагах эндометриоза.
Список литературы Клинико-анамнестические особенности у женщин с наружным генитальным эндометриозом
- Баскаков, В.П. Эндометриоидная болезнь/В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира. -СПб.: Издательство Н-Л, 2002. -448 с.
- Дамиров, М.М. Генитальный эндометриоз -болезнь активных и деловых женщин/М.М. Дамиров. -М.: Изд-во «БИНОМ», 2010. -191 с.
- Ищенко, А.И. Эндометриоз. Современные аспекты/А.И. Ищенко, Е.А. Кудрина. -М.: МИА, 2008. -172 с.
- Лесков, В.П. Изменения иммунной системы при внутреннем эндометриозе/В.П. Лесков, Е.Ф. Гаврилова, А.А. Пищулин//Проблемы репродукции. -1998. -№ 4. -С. 26-30.
- Марченко, Л.А. Патология шейки матки и генитальные инфекции/Л.А. Марченко, И.П. Лушкова; под ред. проф. В.Н. Прилепской. -М.: МЕД пресс-информ, 2008. -172 с.
- Correlation of high -risk human papillomavirus es but not of herpes viruses or Chlamydia trachomatis with endometriosis lesions/P. Oppelt, S.P. Renner, R. Strick et al.//Fertility and Sterility. -2010. -Vol. 93. -№ 6. -P. 1778-1786.
- Expression of Human Endogenous Gamma retroviral Sequences in Endometriosis and Ovarian Cancer/L. Hu, D. Hornung, R. Kurek et al.//AIDS Research and Human Retroviruses. -2006. -Vol. 22. -№ 6. -P. 551-557.
- Expression of the human endogen ous retro virus-Wenvelopegene syncytin in endometriosis lesion/P. Oppelt, R. Strick, P.L. Strissel et al.//Gynecol Endocrinol. -2009. -Vol. 25. -№ 11. -P. 741-747.
- Low prevalence of DNA viruses in the human endometrium and endometriosis/A.L. Vestergaard, U.B. Knudsen, T. Munk et al.//Arch Virol. -2010. -Vol. 155. -№ 5. -Р. 695-703.
- Martensen, P.M. Virus Infection and Tipe I Interferon in Endometriosis/P. M. Martensen, A.L. Vestergaard, U.B. Knudsen//Endometriosis -Basic Concepts and Current Reserch Trends/Еdited by Prof. Koel Chaudhury/InTech., 2012. -490 p. -http:www.intechopen/com.
- Nisolle, M. Early -stage endometriosis: adhesion and growth of human menstrual endometrium in nudemice/M. Nisolle, F. Casanas-Roux, J. Donnez//Fertil Steril. -2000. -Vol. 74(2). -Р. 306-312.
- Pathogenesis оf endometriosis: the role of initial infection and subsequent sterile inflammation (Review)/H. Kobayashi, Y. Higashiura, H. Shigetomi, H. Kajihara//Mol Med Rep. -2014. -№ 9 (1). -Р. 9-15 DOI: 10.3892/mmr.2013.1755
- Role of Shigella infection in endometriosis: anovel hypothesis/V.L. Kodati, S. Govindan, S. Movva et al.//Med Hypotheses. -2008. -№ 70 (2). -P. 239-243.