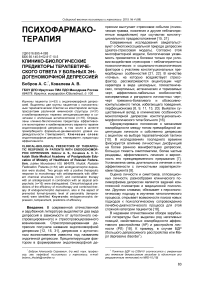Клинико-биологические предикторы терапевтического ответа у больных эндогеноморфной депрессией
Автор: Бобров Александр Сергеевич, Ковалева А.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Психофармакотерапия
Статья в выпуске: 4 (89), 2015 года.
Бесплатный доступ
Изучены пациенты (n=53) с эндогеноморфной депрессией. Выделены две группы пациентов с положительным терапевтическим ответом на монотерапию антидепрессантами различной химической структуры (n=37) и комбинированную терапию антидепрессантами в сочетании с атипичным антипсихотиком (n=16). Определены клинико-биологические предикторы эффективности монотерапии и комбинированного варианта терапии эндогеноморфной депрессии, в том числе в аспекте преморбидного формально-динамического уровня индивидуальности (темперамент).
Эндогеноморфная депрессия, темперамент, предикторы эффективности
Короткий адрес: https://sciup.org/14295868
IDR: 14295868 | УДК: 616.895.4-085
Текст научной статьи Клинико-биологические предикторы терапевтического ответа у больных эндогеноморфной депрессией
ББК 56.145.6+52.817.10.5
КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДИКТОРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ ЭН-ДОГЕНОМОРФНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ Бобров А. С.*, Ковалева А. В.
ГБОУ ДПО Иркутская ГМА ПДО Минздрава России 664079, Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100
Изучены пациенты (n=53) с эндогеноморфной депрессией. Выделены две группы пациентов с положительным терапевтическим ответом на монотерапию антидепрессантами различной химической структуры (n=37) и комбинированную терапию антидепрессантами в сочетании с атипичным антипсихотиком (n=16). Определены клинико-биологические предикторы эффективности монотерапии и комбинированного варианта терапии эндогеноморфной депрессии, в том числе в аспекте преморбидного формально-динамического уровня индивидуальности (темперамент). Кл ючев ые слова: эндогеноморфная депрессия, темперамент, предикторы эффективности.
CLINICAL-BIOLOGICAL PREDICTORS OF THERAPEUTIC RESPONSE IN PATIENTS WITH ENDOGENOMOR-PHIC DEPRESSION . Bobrov A. S., Kovaleva A. V. Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Healthcare of Russian Federation . Jubilee Microdistrict 100, 664079, Irkutsk, Russian Federation. P atients (n=53) with endogenomorphic depression were studied. Two groups with a positive therapeutic response to monotherapy with antidepressants with different chemical structures (n=37) and combination therapy with an antidepressant in combination with an atypical antipsychotic (n=16) were distinguished. Clinical-biological predictors of the efficiency of monotherapy and combined therapy of endogenomorphic depression, also in the aspect of premorbid formal-dynamic level of personality (temperament) were identified. Keywords : endogenomorphic depression, temperament, predictors of efficiency.
Введение. В современной отечественной и зарубежной литературе выделяются два вида депрессий в зависимости от аутохтонного (неспровоцированного) и стресспровоцированного возникновения. Стресспровоцированная депрессия получила название эндогеноморфной депрессии [12, 15, 31], депрессия с аутохтон-ным возникновением известна под названием эндогенной депрессии. Преципитирующим фактором в формировании эндогеноморфной де- прессии выступает стрессовое событие (психическая травма, нозогения и другие неблагоприятные воздействия) при соучастии конституционального предрасположения [15, 21].
Современные исследования свидетельствуют о биопсихосоциальной природе депрессии (диатез-стрессовая модель). Согласно этой многофакторной модели, биологическая уязвимость проявляется в болезни только при условии воздействия стрессоров – неблагоприятных психологических и социально-психологических факторов c участием конституциональных пре-морбидных особенностей [21, 22]. В качестве «почвы», на которую воздействует стресс-фактор, рассматриваются акцентуации черт характера в виде шизоидных, психастенических, гипертимных, астенических и тормозимых черт, аффективно-лабильных особенностей; консерватизма и ригидности личностных черт; черт тревожно-боязливого и обсессивнокомпульсивного типов, избегающего поведения, перфекционизма [6, 9, 11, 13, 20]. Выявлен существенный вклад в клинические особенности монополярной депрессии конституциональноморфологического типа больного [16].
Сформулировано положение о механизме коморбидности между типом преморбидной акцентуации личности и собственно депрессии с акцентом на выборе терапевтической тактики [10]. В исследованиях последнего времени фиксируется влияние личностных дисфункций на более раннюю манифестацию депрессии, большую тяжесть симптоматики, более частые рецидивы, эффективность лечения и вероятность его преждевременного прерывания [7]. Установлена связь длительности лечения и его эффективности с личностными характеристиками пациента [8].
Оценка личности и симптомов, оппозиционных личности, разнообразия клинического полиморфизма депрессии является задачей комплексной психиатрии и медицинской психологии. Другими словами, обязывает к персонологическому подходу в изучении патологического процесса, открывает возможности поиска новых подходов к психологическому сопровождению лечебно-диагностического процесса для этой сложной категории пациентов [18].
В недавнем отечественном обзоре зарубежной литературы был выделен ряд негативных позиций, свойственных коморбидности аффективного расстройства (АР) и расстройств личности (РЛ) [19]. К примеру, в случае БДР (большого депрессивного расстройства или Major depressive disorder1).
Следствием такой коморбидности являются более ранняя манифестация АР, большое число суицидальных попыток, более тяжелая симптоматика, увеличение рекуррентности, более худший прогноз, снижение эффективности как медикаментозной терапии, так и психотерапии, а также уменьшение комплаенса и сокращение сроков наступления рецидива. Наиболее сильную ассоциацию с большим депрессивным расстройством (БДР) обнаруживают избегающее и зависимое РЛ. В противоположность монополярным пациентам у больных биполярным аффективным расстройством (БАР) из коморбид-ных РЛ отмечено преобладание обсессивнокомпульсивного, пограничного и нарциссическо-го вариантов РЛ. Среди возможных механизмов неблагоприятного влияния на течение БАР в случае коморбидности с РЛ может быть повышенная уязвимость к стрессу.
По данным зарубежной литературы считается, что на течение депрессивного расстройства, эффективность психофармакотерапии, формирование ремиссии и ее качество, прогноз заболевания влияют следующие факторы: премор-бидные особенности личности, конституционально-морфологические особенности индивида, воздействие психогений, а также структура депрессивной триады, модальность гипотимии, наличие/отсутствие коморбидных расстройств [26, 27]. Установлено, что позитивная и негативная аффективность, являющиеся биологической основой темперамента, могут влиять на ответ антидепрессивной терапии и самостоятельно вносить вклад в выздоровление [25]. В последние годы зарубежные исследования в основном касались связи темперамента с циклотимией, биполярными расстройствами, суицидальным поведением. В то же время редкими являются исследования, посвященные связи между темпераментом и депрессивными расстройствами [30]. При этом наибольшие ограничения в проведении этих исследований касались дефицита документации по этой теме (анкета по оценке темперамента – TEMPS-A; инвентарь темперамента и характера – TCI, по Cloninger), а также сложности разграничения (точная оценка) между темпераментом и проявлениями актуального депрессивного расстройства.
В исследованиях темперамента и депрессии используется набор наследственно обусловленных черт темперамента «высокого» порядка по C. R. Cloninger (1986): «склонность к поиску новизны», «избегание вреда» и «зависимость от вознаграждений» (цит. по 7). Так, больных с депрессией в сравнении с группой лиц без какой-либо психической патологии отличает высокий уровень избегания вреда (боязливость, застенчивость, утомляемость, тревожность).
Высокие уровни избегания вреда и низкая самооценка (входит в качестве одной из характеристик в содержание черт личности – «зависимость от вознаграждения») оцениваются как сильные предикторы подростковой депрессии [33]. Психотические депрессивные эпизоды значимо связаны с личностной чертой «поиск новизны» (склонность к исследовательскому поведению в среде, активное избегание моно-тонии и импульсивности) [28]. Больные с единичной и рекуррентной депрессией обнаруживают по сравнению с контролем (здоровые лица) высокие значения личностных особенностей в форме «избегания вреда» (потенциальный индикатор для последующей депрессии). В то же время эти различия при сравнении с пациентами с другими психическими расстройствами были небольшими.
Одни из первых отечественных публикаций на тему о темпераменте у больных эндогенной депрессией относятся к 90-м годам XX столетия [2, 3]. Развитие исследований по этой теме нашло продолжение в публикации работ в первые годы текущего столетия [5]. Высказано предположение, что оценка преморбидной личности с учетом концепции двухаспектности психики (формальная и содержательная ее стороны) позволит наметить пути исследования взаимоотношения эндогенной депрессии с базовым биологически детерминированными формально-динамическими свойствами личности (темперамент).
Дальнейшие исследования по проблеме «Темперамент и депрессия» требуют уточнения значения личностно значимого психогенного фактора в генезе единичного и рекуррентного течения монополярной депрессии. По-прежнему атуальным остается вопрос о выделении клинических и клинико-биологических предикторов полноты терапевтического ответа не только в зависимости от структуры депрессии, но и преморбидных особенностей (в данном случае темперамента).
Цель исследования. Выделение клиникобиологических предикторов положительного ответа на монотерапию и сочетанный вариант терапии эндогеноморфной депрессии в зависимости от клинической структуры депрессии и преморбидного формально-динамического уровня индивидуальности (темперамент) пациента.
Материал и методы исследования. Проведено обследование 53 больных с непсихотическим единичным и рекуррентным депрессивным эпизодом (ДЭ) по МКБ-10 в рамках рубрики «Аффективные расстройства настроения» (F3). Во всех случаях манифесту депрессии предшествовало стрессовое событие (эндогеноморф-ная депрессия).
Исследование проведено в отделениях пограничных состояний, дневного стационара на базе ОГКУЗ «Иркутской областной клинической психиатрической больницы № 1» и ОГУЗ «Иркутского областного психоневрологического диспансера». Исследование открытое, неконтролируемое, с получением согласия больного на проводимую терапию и разрешения комитета по этике ИГМАПО. Оценка эффективности терапии осуществлялась по шкале депрессии Гамильтона HDRS (21 пункт).
Распределение больных по полу: 49 женщин (92,5 %), 4 мужчин (7,5 %). Средний возраст манифестного проявления депрессивного расстройства 39,9±11,5 года; средний возраст на момент исследования 47±10,2 года. В определении типа депрессии учитывалось наличие гипотимии (в том числе её тоскливый оттенок) и ассоциированного с депрессией диагностически очерченного генерализованного тревожного расстройства. В оценке личностного значения стресс-фактора, предшествующего формированию депрессии, использовано содержание понятий «Утрата», «Угроза» и «Вызов» [9]. Исследование темперамента проведено после выхода пациента из депрессии под влиянием адекватной состоянию (тяжести, типа депрессии) психофармакотерапии в сочетании с рациональной психотерапией в целях совладания с актуальной психотравмирующей ситуацией (биопсихосоциальный подход в терапии). Оценка темперамента осуществлялась с помощью отечественного опросника формальнодинамических свойств индивидуальности, предусмотренного для взрослых [17].
В большинстве наблюдений формированию эндогеноморфной депрессии предшествовало одно стрессовое событие (n=36, 67,9 %/53), реже отмечались два стрессора (n=15, 28,3 %/53), в единичных наблюдениях имели место 3 и более стрессовых события (n=2, 3,8 %/53). Частота и содержание личностного значения стрессового фактора, предшествующего эндогено-морфной депрессии, показаны в таблице 1.
Таблица 1
Частота и содержание личностного значения стрессового фактора, предшествующего возникновению депрессии (n=72)
|
Частота и содержание стрессора |
абс. |
% |
|
Утрата, в том числе: |
31 |
43,1 |
|
близкого человека |
18 |
58,1 |
|
материального благополучия |
9 |
29,1 |
|
опоры в жизни |
2 |
6,4 |
|
социального статуса |
2 |
6,4 |
|
Угроза, в том числе: |
21 |
29,1 |
|
физического насилия |
1 |
4,7 |
|
потери социального статуса |
3 |
14,3 |
|
собственному/семейному благополучию |
2 |
9,5 |
|
собственному здоровью/жизни |
8 |
38,1 |
|
здоровью значимых лиц |
7 |
33,4 |
|
Вызов, в том числе: |
20 |
27,8 |
|
Отвержение |
20 |
100 |
Субъективное восприятие стрессового события в виде «Утраты» (n=31, 43,1 %) в большинстве случаев (n=18, 58,1 %) было представлено смертью супруга от тяжелого соматического заболевания; гибелью ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия или трагической гибели взрослой дочери; внезапной смертью мужа или взрослого сына от острой сердечно-сосудистой недостаточности. У значительно меньшего числа больных (n=9, 29,1 %) имела место утрата прежнего материального благополучия в результате ликвидации индивидуального предприятия; сокращения с высокооплачиваемой работы; утраты бытового благополучия после раздела имущества в результате развода (n=2, 6,4 %); потери социального статуса и материального благополучия в связи с увольнением с престижной работы (n=2, 6,4 %). Стрессовое событие с содержанием «Угроза» (n=21, 29,2 %) включало в себя угрозу собственному здоровью вследствие поздней диагностики серьезного соматического заболевания (n=8, 38,1 %), а также угрозу здоровью значимых лиц (n=7, 33,4 %). К личной значимости стрессового фактора в виде «Вызова» (n=20, 27,8 %) отнесены отвержение матери сыном, жены мужем, страдающими наркотической или алкогольной зависимостью; матери несовершеннолетней дочерью с планами вступления в гражданский брак; высокопрофессионального сотрудника новым малокомпетентным руководителем; отвержение жены мужем в связи с отсутствием материальной и бытовой помощи в семье; отказ в принятии, по мнению больного, «справедливого» приговора в ходе судебного разбирательства.
В большинстве наблюдений (n=34, 64,2 %) диагностирован рекуррентный тип течения, реже зафиксирован единичный депрессивный эпизод (n=19, 35,8 %). В случае рекуррентного течения депрессии последующие депрессивные эпизоды имели стресспровоцированный механизм возникновения. Среди всей изученной группы больных в 28,3 % случаев (n=15) выявлено хронифицированное течение с длительностью актуальной депрессии 2 года и более.
Приведем распределение изученной группы больных по типу депрессии: у большей части больных диагностирован тревожный тип депрессии (n=27, 50,9 %), реже имели место тоскливо-тревожный (n=13, 24,6 %) и тоскливый (n=9, 16,9 %) типы депрессии, в единичных наблюдениях (n=4, 7,6 %) отмечалась так называемая обезглавленная депрессия – гипотимия без тоскливого оттенка с коморбидными субдиагностическими проявлениями ГТР. По степени тяжести актуальной депрессии в соответствии с критериями МКБ-10 больные распределились следующим образом: в значительной части на- блюдений установлена тяжелая степень ДЭ (n=26, 49,1 %), промежуточная между умеренной и тяжелой степенью тяжести ДЭ отмечалась у 14 больных (26,4 %), умеренная тяжесть ДЭ в 12 наблюдениях (22,6 %), легкая степень тяжести ДЭ определялась в 1 наблюдении (n=1, 1,9 %). Большинству больным изученной группы был свойствен нетипичный суточный ритм (n=37, 69,8 %) в виде отсутствия каких-либо колебаний в степени выраженности болезненного состояния (n=19); ухудшения состояния в вечернее время (n=13), «седловидного» варианта суточного ритма (n=5); типичный суточный ритм выявлен у меньшего числа больных (n=16, 30,2 %).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием стандартных методов подсчета средних величин и пакета программ Statistica 6.1 (StatSoft); сравнение частот с помощью точного критерия Фишера и критерия χ2 с поправкой Йетса. Критическое значение уровня значимости принималось равным 0,05.
Результаты исследования. Все больные закончили курс стационарного лечения. К рес-пондерам (редукция суммарного балла по шкале HDRS на 50 % и более к долечебному уровню) были отнесены 38 человек (71,7 %), к ре-миттерам (редукция стартового суммарного балла по шкале HDRS до 7 и менее баллов) – 15 человек (28,3 %). Монотерапия антидепрессантами различной химической структуры проведена большинству больных (n=37, 69,8 %), комбинированная терапия антидепрессантом в сочетании с атипичным антипсихотиком – 16 больным (30,2 %). В последующем изложении данные клинические группы обозначены как 1-я и 2-я.
Среди больных 1-й группы (n=37) 9 (24,3 %) получали монотерапию трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, кломипрамин, имипрамин), 7 (18,9 %) – селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (сертралин, пароксетин, эсциталопрам, флувоксамин), 21 (56,8 %) – мелатонинергическим антидепрессантом (агомелатин). На начальном этапе монотерапия антидепрессантами в целях уменьшения тревоги и коррекции диссомниче-ских нарушений сочеталась с коротким курсом (не более 2 недель) транквилизаторов (диазепам, алпразолам). Во 2-ю группу включены больные эндогеноморфной депрессией (n=16, 30,2 %) с комбинированной терапией антидепрессантами различной химической структуры в сочетании с атипичным антипсихотиком (кветиапин). Из антидепрессантов использованы ТЦА (кломипрамин, имипрамин) (n=5, 31,3 %), представители СИОЗС (сертралин, эсциталоп-рам, флувоксамин) (n=10, 62,5 %), в единичном случае (6,2 %) применяли агомелатин.
В литературе отмечена эффективность монотерапии сероквелем как в качестве одного препарата, так и в составе комбинированной терапии депрессии вне рамок шизофрении [4]. Имеются рекомендации к использованию кветиапина в качестве средства аугментации при отсутствии положительного терапевтического ответа от предшествующей антидепрессивной терапии [1]. На протяжении всего исследования психофармакотерапия сочеталась с адекватной состоянию больных рациональной психофармакотерапией, направленной на совладание с актуальной психотравмирующей ситуацией.
Проведен сравнительный анализ клиникобиологических предикторов терапевтического ответа на монотерапию и комбинированную терапию. Полнота терапевтического ответа в степени ремиссии достоверно чаще достигнута у больных 1-й клинической группы (n=17, 45,9 % против n=2, 12,5 %; р=0,03). Больные, получавшие монотерапию, имели статистически значимо больший удельный вес в структуре актуальной депрессии такого дополнительного депрессивного симптома (из перечня «а-ж» по МКБ-10), как «сниженная самооценка и чувство уверенности в себе», в сравнении с пациентами с комбинированным вариантом терапии (удельный вес равен 0,17 против 0,07, р=0,05). Среди больных 1-й клинической группы с положительным терапевтическим ответом на монотерапию антидепрессантами выявлена достоверно большая частота коморбидного депрессии диагностически очерченного генерализованного тревожного расстройства (ГТР) по DSM-IV (1994) в сравнении со 2-й клинической группой (n=33, 89,2 % против n=10, 62,5 %; р=0,05). В структуре ГТР отмечена высокая представленность нарушения сна (n=32, 96,9 %); расстройства концентрации внимания или памяти (n=29, 87,9 %); раздражительности (n=27, 81,8%); повышенной утомляемости (n=26, 78,8 %); в меньшей степени мышечного напряжения (n=16, 48,5 %) и беспокойства (n=10, 30,3 %).
В структуре актуальной депрессии у больных 2-й группы в сравнении с больными 1-й группы выявлен статистически значимо больший удельный вес симптома «Идеи или действия по самоповреждению или суициду» (удельный вес равен 0,16 против 0,07; χ2=3,84, р=0,000). Среди проявлений ГТР (по DSM-IV) достоверно чаще отмечен симптом «мышечное напряжение» (n=4, 12,1 % против n=5, 50 %; р=0,03). Статистически значимым из различных проявлений вегетативной тревоги (по DSM-III-R, 1987) оказался больший удельный вес головокружения (удельный вес равен 0,23 против 0,09; χ2=3,89, р=0,05) и затруднений при глотании или «кома» в горле (удельный вес равен 0,17 против 0,05; χ2=4,0, р=0,05).
Среди больных с эндогеноморфной депрессией, получавших монотерапию антидепрессантами, выявлены 7 типов темперамента в соответствии с квалификацией В. М. Русало-ва (2004). Статистически значимо наиболее распространенным типом темперамента среди больных 1-й и 2-й клинических групп оказался сангвинико-холерический или смешанный высоко активный тип темперамента (n=13, 35,1 %, р=0,03 и n=9, 56,3, р=0,02) по сравнению с меланхолико-холерическим (n=7, 18,9 %; n=2, 12,5 %); неопределенным (общесмешанным) (n=6, 16,2 %; n=1, 6,3 %), сангвиническим (n=4, 10,8 %; n=0), меланхолическим (n=3, 8,1 %; n=1, 6,3 %), холерическим (n=2, 5,4 %; n=2, 12,5 %); сангвинико-флегматичным (n=2, 5,4 %; n=1, 6,3 %).
Данное обстоятельство как бы противоречит существующему в литературе мнению о том, что депрессивный темперамент выступает как рудимент очерченных депрессивных фаз [14] или мнению о том, что пациентам с монополяной депрессией свойствен «typus melanholicus» (Tellenbach H., 1961) [цит. по: 19]. В то же время в работах прошлых лет, по данным других авторов, к одной из витальных предпосылок к возникновению эндогенной депрессии относят hyperactive style of living and working [34]. Этот стиль жизни и работы включает раннее по возрасту начало трудовой деятельности, постоянную занятость делом и склонность выполнять свои обязанности согласно высоким стандартам своей профессии, стремление сочетать различные виды работы или занятости. Другими словами можно сказать гипертимный стиль жизни и работы. Девитализация, как наиболее специфическая особенность эндогенной депрессии, резко контрастирует с такими премор-бидными особенностями, как жизнерадостность, обращенность к миру и людям, оптимистичность, разносторонность интересов, стремление расширить свои знания и улучшить материальное положение семьи [24].
Очевидно, также следует учитывать, что результаты тестовых изучений личности в период депрессивного эпизода и спустя год после выздоровления при одной и той же инструкции при выполнении тестов имеют существенные различия [29]. Таким образом, применительно к результатам оценки темперамента у изученной группы больных эндогеноморфной депрессией в виде значительной частоты сангвиникохолерического типа темперамента, возможно, речь идет о своеобразной «биполярности» в виде обращения от преморбидного темперамента к эпизоду «противоположной» полярности аффекта, что представляет собой фундаментальный аспект дезрегуляции, характеризующий биполярное расстройство [23].
При сангвинико-холерическом типе темперамента отмечаютсмя высокие значения эргично-сти, пластичности, скорости в психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной сферах поведения, показатели общей эмоциональности в пределах нормы. Наряду с определением типа темперамента, психопатологический анализ преморбидных особенностей личности у большинства пациентов (n=35, 66,04 %) выявил пре-морбидную акцентуацию по аффективному типу. В противоположность больным 1-й группы во 2-й группе преморбидная акцентуация личности по аффективному типу достоверно чаще представлена депрессивным вариантом (n=9, 56,3 % против n=7, 18,9 %; р=0,02). И напротив, у больных 1-й группы в сравнении со 2-й группой достоверно чаще выявляли гипертимический тип премор-бидной акцентуации (n=17, 45,9 % против n=2, 12,5 %; р=0,03). У лиц с депрессивным вариантом преморбидной акцентуации в обеих клинических группах тревога носила адресный характер и возникала в разные возрастные периоды в ответ на конкретные обстоятельства жизни.
К примеру, это была эпизодическая форма психопатологического диатеза в виде заикания в дошкольном и раннем школьном периодах с чувством тревоги, скованностью во время устного ответа («все будут меня слушать, много народа»). У молодой женщины в период беременности возникали тревожные опасения за ее течение и состояние здоровья будущего ребенка. Ещё в одном случае это было расстройство адаптации по типу тревожно-субдепрессивной реакции в ответ на преходящую неблагоприятную семейную ситуацию. Либо это были тревожные переживания за состояние здоровья малолетних детей («не заболели бы, не упали бы, не сломали бы себе что-нибудь»). В остальных сферах своей жизнедеятельности эти лица отличались активностью, общительностью, коммуникабельностью. Успешно обучались в школе и вузе, проявляли способности к математике или гуманитарным предметам; активно участвовали во внеклассных мероприятиях. Охотно занимались в спортивных секциях по легкой атлетике и лыжам, участвовали в школьных и межшкольных соревнованиях, занимали призовые места. Увлекались вокалом, рисованием, дополнительно занимались в изобразительной студии. В зрелом возрасте стремились к получению высшего или среднего профессионального образования, т. е. обнаруживали гипертимические особенности личности. Вполне зрелый возраст пациентов к моменту исследования (47±10,2 года), скрупулезное изучение анамнеза позволило исключить наличие в прошлом проявлений гипоманиа-кального состояния, в том числе провоцированного предшествующей антидепрессивной терапией.
Заключение. Среди больных депрессией, провоцированной личностно значимым психотравмирующим фактором (эндогеноморфная депрессия) выделены 2 различных группы в соответствии с терапевтической тактикой: монотерапия антидепрессантами различных классов (ТЦА, СИОЗС, агомелатин) и терапия антидепрессантами (ТЦА, СИОЗС, агомелатин) в комбинации с атипичным антипсихотиком (се-роквель). В обеих клинических группах достигнут положительный терапевтический эффект (респондеры, реже ремиттеры).
Клиническими предикторами положительного ответа на монотерапию антидепрессантами в сравнении с комбинированной терапией были статистически значимый больший удельный вес в структуре актуальной депрессии симптома «сниженной самооценки и чувства уверенности в себе» (из перечня «а-ж» рубрики F32 МКБ-10); достоверно большая частота ассоциированной с депрессией перманентной тревоги в виде ГТР. Среди больных с комбинированной терапией достоверно чаще в сравнении с группой пациентов, получавших монотерапию, в структуре актуальной депрессии отмечено наличие идей или действий по самоповреждению или суициду. В проявлениях ГТР ведущим был симптом мышечного напряжения, при вегетативной тревоге преобладали жалобы на головокружение и затруднение при глотании.
Исследование типа темперамента по классификации В. М. Русалова (2004) выявило достоверно большое число в обеих клинических группах лиц с сангвинико-холерическим или смешанным высоко активным типом темперамента, однако с представленностью в ряде случаев астенического радикала, проявляющегося в анамнезе тревожными реакциями в ответ на адресные психотравмирующие ситуации. Именно в этой группе больных с эндогено-морфной депрессией оказалось эффективным проведение комбинированной терапии антидепрессантами в сочетании с атипичным антипсихотиком (кветиапин).
Список литературы Клинико-биологические предикторы терапевтического ответа у больных эндогеноморфной депрессией
- Алфимов П.В., Костюкова Е.Г., Мосолов С.Н. Современные методы преодоления терапевтической резистентности при рекуррентной депрессии /Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина в клинической практике)/под ред. С.Н. Мосолова -М.: «Социально-политическая мысль», 2012. -С. 438-473.
- Бобров А.С. К формально-динамическим преморбидным особенностям личности (темперамент) у больных с поздним манифестом эндогенной депрессии//Эндогенная депрессия (клиника, патогенез): тез. докл. науч. конф. -Иркутск, 1992. -С. 20-22.
- Бобров А.С., Ворсина О.П. К особенностям темперамента у больных с поздним манифестом эндогенной депрессии//Актуальные проблемы клинической медицины. -Иркутск: РИО ИГИУВа, 1994. -С. 94-98.
- Бобров А.С., Линчук А.Д., Павлова О.Н. и др. Эффективность сероквеля при лечении шизофрении и аффективных расстройств//Психическое здоровье и безопасность в обществе: научные материалы Первого национального конгресса по социальной психиатрии. -М., 2004. -С. 14-15.
- Бобров А.С., Магонова Е.Г. Депрессия, связанная со стрессом в амбулаторной психиатрической практике//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2010. -Вып. 7. -С. 9-15.
- Вельтищев Д.Ю., Ковалевская О. Б., Серавина О.Ф. Стресс и модус предрасположения в патогенезе расстройств депрессивного спектра//Психические расстройства в общей медицине. -2008. -№ 2. -С. 34-37.
- Гаранян Н.Г. Депрессия и личность: обзор зарубежных исследований. Часть 1//Социальная и клиническая психиатрия. -2009. -№ 1. -С. 79-89.
- Гаранян Н.Г., Юдеева Т.Ю., Васильева М.В. Личностные установки больных депрессией как контртерапевтические факторы лечебного процесса//Современные тенденции организации психиатрической помощи: клин. и соц. асп.: тез. докл. -М.: Медпрактика, 2004. -С. 137.
- Головизнина О.Л. Клинико-психологическая дифференциация больных психогенными (непсихотическими) депрессиями//Российский психиатрический журнал. -2004. -№ 4. -С. 4-8.
- Дубницкая Э.Б., Андрющенко А.В. Выбор психофармакотерапии депрессии в свете коморбидных соотношений//Человек и лекарство: сборник тезисов VIII конгресса. -М., 1991. -С. 91.
- Зорин В.Ю. Формирующиеся в условиях стрессогенных ситуаций затяжные депрессивные состояния//Журн. неврологии и психиатрии. -1996. -Вып. 6. -С. 23-27.
- Краснов В.Н. Расстройства аффективного спектра. -М.: Практическая медицина, 2011. -432 с.
- Корнетов Н.А. Психогенная депрессия (клиника, патогенез). -Томск: Изд-во ТГУ, 1993. -240 с.
- Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику. -М.: Лаборатория знаний, 2012. -498 с.
- Психические расстройства в клинической практике/под ред. акад. РАМН А.Б. Смулевича. -М.: МЕДпресс-информ, 2011. -720 с.
- Счастный Е.Д. Клинические особенности монопо-лярной эндогенной депрессии в зависимости от конституционально-морфологического типа: автореф. дис.. к.м.н. -Томск, 1994. -26 с.
- Русалов В.М. Формально-динамические свойства индивидуальности человека (темперамент): метод. пособие. -М.: ИП РАН, 2004. -136 с.
- Семке В.Я. Клиническая персонология. -М.: Академический Проект, 2001. -476 с.
- Симуткин Г.Г., Яковлева А.Л., Бохан Н.А. Проблема коморбидности аффективных расстройств и расстройств личности//Социальная и клиническая психиатрия. -2014. -№ 2. -С. 92-98.
- Смулевич А.Б., Ротштейн В.Г. Психогенные заболевания. -M., 2001. -38 с.
- Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Б. Многофакторная модель депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств//Социальная и клиническая психиатрия. -1998. -№ 1. -С. 94-102.
- Корнетов Н.А., Ветлугина Т.П., Языков К. Г., Счастный Е.Д., Иванова С.А., Симуткин Г.Г. Распространенность и клиникоконституциональные закономерности клинического полиморфизма депрессивных расстройств и суицидального поведения//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -1999. -№ 4. -С. 19.
- Akiskal H.S. Developmental pathways to bipolarity: are juvenile-onset depressions prebipolar?//J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. -1995. -№ 34. -P. 754-763.
- Alsen V. Das Körnsyndrom der endogenen Depression//Der Nervenarzt. -1961. -№ 32. -P. 470-473.
- Soskin D. P. et al. Antidepressant effects on emotional temperament: toward a biobehavioral research paradigm for major depressive disorder//CNS Neurosci Ther. -2012. -V. 18 (6). -P. 441 -451.
- Bartolomucci A., Leopardi R. Stress and Depression. Preclinical Research and Clinical Implications//PLoS ONE. -2009. -V. 4, № 1. -P. 4265.
- Baune B. Conceptual Challenges of a Tentative Model of Stress Induced Depression//PLoS ONE. -2009. -V. 4, № 1. -P. 4266.
- Ekinci O., Albayrak Y., Ekinci A.E. Temperament and character in euthymic major depressive disorder patients: the effect of previous suicide attempts and psychotic mood episodes//Psychiatry Investig. -2012. -V. 9, № 2. -Р. 119-126.
- Hirschfeld P. M.A., Klerman G.L. Tracie Shea M. Personality//Handbook of affective disorders/edited by E.S. Paykel. -Churchill Livingstone, 1992. -P. 185-194.
- Gois C., Akiskal H., Akiskal K., Figueira M.L. The relationship between temperament, diabetes and depression//J. Affect. Disord. -2012. -№ 142. -P. 67-71.
- Klein D.F. Endogenomorphic Depression: A Conceptual and Terminological Revision//Arch. Gen. Psychiatry. -1974. -№ 31. -P. 447-454.
- Tellenbach H. Melancholie. Problemgeschichte, Endogenitat, Typologie, Pathogenese, Klinik. -Heidelberg, New York, Berlin: Springer Verlag, 1961. -280 S.
- Kitamura Т. et al. Temperament and Character Domains of Personality and Depression 2012//Depression Research and Treatment. -2012. -V. 2012. -Р. 2.
- Van Houdenhove B. Prevalence and psychodynamic interpretation of premorbid hyperactivity in patients with chronic pain//Psychother. psychosom. -1986. -Р. 195-200.