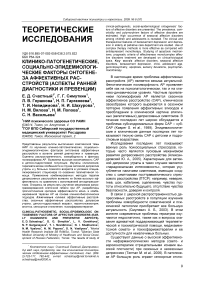Клинико-патогенетические, социально-эпидемиологические факторы онтогенеза аффективных расстройств (аспекты ранней диагностики и превенции)
Автор: Счастный Евгений Дмитриевич, Симуткин Г.Г., Горшкова Л.В., Гарганеева Н.П., Невидимова Т.И., Шахурова Н.И., Вялова Н.М., Попова Н.М., Васильева С.Н.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Теоретические исследования
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты выполнения комплексной темы НИР по изучению клинико-патогенетических, социально-эпидемиологических факторов онтогенеза аффективных расстройств в аспекте ранней диагностики и превенции. Оценены распространенность, коморбидность и факторы полиморфизма АР. Выявлена высокая встречаемость САР в детско-подростковой популяции. Изучены клинические, терапевтические особенности в случае затяжной депрессии утраты и у больных пожилого возраста в условиях специализированного стационара по оказанию паллиативной помощи. Применение комбинированных методов терапии депрессивных расстройств выявило их более высокую эффективность по сравнению с монотерапией антидепрессантами. Опираясь на результаты изучения механизмов запрограммированной клеточной гибели при АР, разработаны прогностические критерии эффективности моно- и комбинированной терапии АР на основе клинико-биологических подходов.
Аффективные расстройства, сезонные аффективные расстройства, депрессии утраты, детско-подростковый возраст, геронтопсихиатрия, апоптоз, сенсорные отклонения, психофармакотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/142100768
IDR: 142100768 | УДК: 616.895-07-092-058-036.2:575.822
Текст научной статьи Клинико-патогенетические, социально-эпидемиологические факторы онтогенеза аффективных расстройств (аспекты ранней диагностики и превенции)
В настоящее время проблема аффективных расстройств (АР) является весьма актуальной. Фенотипическая полиморфность АР проявляет себя как на психопатологическом, так и на клинико-динамическом уровнях. Частным проявлением полиморфизма АР является сезонное аффективное расстройство (САР), клиническое своеобразие которого выражается в сезонном паттерне появления аффективных эпизодов и преобладании в клинической картине атипичных (вегетативных) депрессивных симптомов. В течение последних лет широко обсуждается и проблема субсиндромальных форм САР – суб-САР (Kasper S. et al., 1989). Эпидемиологические и клинические данные последних лет показывают тесную связь САР с детским и подростковым возрастами.
Исследования последних лет показывают важную роль психосоциальных стрессоров, которые часто являются пусковым механизмом развития депрессивного расстройства (Александровский Ю. А., 2005). Характерным для затяжной депрессии утраты в таких случаях является «парадоксальная интенсивность», которая усугубляется наличием симптомов, имеющих сходство с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР): например, неверие, гнев, шок, избегание, оцепенение, чувство пустоты относительно будущего, отсутствие чувства безопасности, доверия и контроля.
В связи с широкой распространенностью депрессивных расстройств в популяции изучение проблемы коморбидности соматической и психической патологии приобретает все большую актуальность (Смулевич А. Б., 2003). В этом аспекте современные проблемы гериатрии изучаются недостаточно, также как и вопросы оказания адекватной поддерживающей терапевтической и психиатрической помощи, медикаментозной сомато- и психофармакотерапии и ее доступности для неизлечимых больных.
Существуют данные о высокой эффективности нефармакологических методов (свето- и аэроионотерапии отрицательными ионами высокой плотности) при сезонных и несезонных депрессиях (Terman M. et al., 2006). В патогенезе АР большую роль играют сенсорные откло- нения. В современной литературе к сенсорным системам часто причисляют иммунную систему, активно участвующую в патогенезе депрессии. Недостаточность афферентации при депрессии обычно оценивают по работе зрительного анализатора; малоизученными каналами информации представляются обоняние, вкус, ноцицепция (Irwin M. R., 2007).
В последние годы в литературе представлены данные об участии и возможной роли нарушений процессов апоптоза в этиологии и патогенезе депрессии (Lucassen P. J. et al., 2001). Особое внимание уделяется исследованию антидепрессантов различных классов на процессы клеточной гибели (Szuster-Ciesielska A. et al., 2003). Серотонин и СИОЗС активно участвуют в модуляции апоптоза (Lee H. J., 2001; Lista Varela A., 2003).
Для изучения частоты встречаемости САР и степени выраженности проблемы сезонных колебаний было обследовано 242 учащихся средней школы и лицея г. Томска, из которых 88 мальчиков (36,4 %) и 154 девочки (63,6 %). Средний возраст обследованных мальчиков и девочек составлял соответственно 14,9±1,3 года (М±SD) и 15,4±1,6 года.
В соответствии с данными, полученными в ходе скринингового обследования школьников с помощью опросника SPAQ-CA (Swedo S. E. et al., 1995), частота встречаемости САР в обследуемой выборке составляла 6,6 %. Часть опрошенных учащихся (7,4 %) соответствовала критериям суб-САР. Оценка ритма сезонной чувствительности обследуемых выявила «сезонный профиль» этих показателей в исследуемой выборке. Наиболее часто в качестве первого месяца, когда школьники чувствовали себя «наименее энергично», указывались январь (18,6 %), февраль (8,7 %) и апрель (8,3 %). Следует отметить, что 30,6 % школьников не жаловались на колебания уровня своей энергичности в течение года. Первый месяц в году, который обследуемые школьники чаще всего соотносили с месяцем «наибольшей раздражительности», – март (11,6 %), сентябрь (9,5 %) и январь (7,4 %), но 44,6 % школьников не выделяли сезонных колебаний уровня своей раздражительности. Первый месяц в году, который обследуемые школьники чаще всего соотносили с месяцем «наихудшего самочувствия», – январь (11,6 %), март (7,4 %) сентябрь (7,9 %) и февраль (6,6 %), но 49,6 % школьников не отмечали колебаний уровня своего самочувствия в течение года. То есть ритм сезонной чувствительности у обследуемых школьников (особенно у девочек) наиболее нестабилен по вектору «энергетического баланса» (три пика в течение года – январь-февраль, апрель и сентябрь), кривые частот встречаемости месяцев «наихудшего самочувствия» и «наибольшей раз- дражительности» имеют волнообразный профиль с двумя пиками (соответственно в январе, сентябре и в марте, сентябре). В случае признания сезонных колебаний самочувствия проблемой степень выраженности данной проблемы варьировала от «небольшой» (70,9 %), «довольно серьезной» (19,8 %), «очень серьезной» (3,5 %) и до «выводящей из строя» (5,8 %).
Корреляционный анализ по Пирсону показывает, что из 11 параметров (длительность сна, злость и конфликтность, общительность, потребление сигарет, алкоголя, наркотических средств, настроение, учебные проблемы, школьные оценки, вес тела, раздражительность, уровень энергии и аппетит), включенных во второй раздел опросника SPAQ-CA и позволяющих оценить степень сезонной чувствительности у обследуемых школьников, наиболее тесная взаимосвязь выявляется между сезонными изменениями раздражительности (r=0,74, p<0,01), уровнем энергии (r=0,73, p<0,01), настроением (r=0,69, p<0,01), учебными проблемами (r=0,67, p<0,01) и суммарным показателем степени сезонной чувствительности.
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о достаточно высокой частоте встречаемости САР (6,6 %), а также так называемого субсиндромального САР (7,4 %) у школьников. Анализ ритма сезонных изменений у школьников таких характеристик, как энергичность, раздражительность и общее самочувствие, показывает наличие у них своеобразного «сезонного профиля» вышеуказанных характеристик.
В период с 2005 по 2008 г. на базе отделения аффективных состояний НИИПЗ СО РАМН было обследовано 140 больных, перенесших потерю близкого человека. Основную клиническую группу составили 70 пациентов с затяжными психическими расстройствами (более 2 месяцев) после потери близкого человека, удельный вес женщин – 84,3 % (59 чел.), мужчин – 15,7 % (11 чел.), средний возраст – 48,8±9,8 года. Средняя продолжительность времени, прошедшего после утраты, в основной группе составила 12±9,5 месяца. В качестве базисной психофармакотерапии подавляющее большинство пациентов (60 %) получали антидепрессанты группы СИОЗС.
Объективная оценка степени выраженности депрессии, тревоги, тяжести заболевания, а также динамики психического состояния проводилась при помощи шкалы депрессии Гамильтона (HDRS-17), шкалы тревоги Гамильтона (HARS) и шкалы глобальной клинической оценки (CGI). Для оценки выраженности травматических симптомов использовалась шкала оценки влияния травматического события – ШОВТС (Marmar С. R. et al., 1996).
Средний балл на фоне терапии СИОЗС че- рез 14 дней составил 8,9±4,0 балла, через 28 дней показатели составили 3,1±2,4 балла и 2,9±2,4 балла соответственно. Измерение тревожных симптомов с помощью шкалы HARS показало следующие результаты: при поступлении, через 14 дней и к 28-му дню терапии уровень тревоги был 12,1±6,2, 7,5±3,9 и 2,9±2 балла соответственно (p>0,05). Анализ выраженности травматических симптомов при помощи самоопросника ШОВТС показал следующие результаты: при поступлении средний суммарный балл был 73±10,7 балла, через 28 дней терапии – 41,6±11,0 балла (p<0,01). Исходный и через 14 дней терапии средний суммарный балл по шкале CGI составил 3,7±0,5 и 2,8±0,6 балла. Через 28 дней терапии суммарный балл по соответствующей шкале был 1,8±0,6 балла (p<0,01).
Ключевыми составляющими, влияющими на терапевтическое респондирование, являются травматические и тревожные (а не депрессивные) симптомы, причем при затяжных депрессиях утраты прослеживается тенденция к менее выраженному терапевтическому респонди-рованию.
В условиях специализированного стационара по оказанию паллиативной помощи изучались клинические особенности ассоциированных с инкурабельными соматическими заболеваниями АР у больных позднего возраста с последующим обоснованием интегративного подхода к тактике ведения пациентов с коморбид-ной патологией. АР у 49 пациентов хосписа, имеющих злокачественные новообразования, встречаются в 69,4 % случаев, что значительно превышает распространенность депрессий у больных, находящихся на этапе специализированного лечения в профильном онкологическом отделении. У 101 больного позднего возраста отделения сестринского ухода ассоциированные с соматическими заболеваниями расстройства депрессивного спектра выявляются в 65,4 % случаев.
Анализ взаимосвязи АР и локализации злокачественных новообразований у больных хосписа обнаружил статистически значимые различия в группах, обусловленные как локализацией онкологического процесса, так и наличием или отсутствием ранее проведенного противоопухолевого лечения. Среди больных хосписа АР достоверно чаще (в 38,2 % случаев) выявлялись у пациентов со злокачественными новообразованиями системы органов пищеварения (p<0,05). В 20,6 % случаев АР встречались при раке бронхолегочной системы; в 17,7 % – женской репродуктивной системы; у 11,8 % – при сочетанной форме рака. Обнаруженные взаимосвязи имели статистически значимые различия по полу (p<0,01).
Анализ нозологических форм АР в зависи- мости от заболеваний внутренних органов обнаружил наличие значимых связей (p<0,05). У больных отделения сестринского ухода достоверно чаще диагностировалось органическое АР (в 53,0 %), максимальная частота встречаемости которого наблюдалась в группе пациентов с последствиями цереброваскулярных болезней в виде остаточных явлений острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) (66,7 %), у больных с заболеваниями сердечнососудистой системы (48,6 %), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата травматического генеза (44,4 %). Текущий эпизод рекуррентного депрессивного расстройства был наиболее значимым у больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (44,5 %), кар-дио- и цереброваскулярными заболеваниями (20,0 %). Дистимия в равной степени выявлялась у больных с последствиями ОНМК (28,57 %) и сердечно-сосудистой патологией (11,43 %). Депрессивный эпизод – у 20 % больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у 11,11 % с патологией опорно-двигательной системы и у 4,76 % пациентов с последствиями цереброваскулярных осложнений. Оценка эффективности психофармакотерапии депрессивных расстройств у пациентов при использовании антидепрессантов с разными механизмами действия показала достоверное снижение степени выраженности депрессии (p<0,01).
Предложенная схема интегративной помощи направлена на своевременное распознавание АР у больных с инкурабельными злокачественными новообразованиями и соматическими заболеваниями, что позволяет оптимизировать оказание паллиативной помощи с учетом медицинских, психосоциальных, духовных потребностей неизлечимого пациента.
В следующем блоке исследования представлены результаты оценки эффективности комбинированных методов терапии депрессивных расстройств. Вся группа обследуемых состояла из трех равных подгрупп по 15 человек («СИОЗС» – пациенты, получавшие только СИОЗС; «СИОЗС+Свет» – пациенты, получавшие СИОЗС в сочетании со светотерапией, и «СИОЗС+Свет+Ион» – пациенты, получавшие СИОЗС в сочетании со свето- и аэроионотерапией), статистически не различавшихся по половому, нозологическому составу, степени тяжести депрессивных проявлений (во всех подгруппах пациентов преобладали случаи депрессии умеренной тяжести: до 67 %) и возрасту (р>0,05). Для оценки эффективности терапии в трех временных точках (0-й, 7-й и 14-й дни) использовались шкала SIGH-SAD (Williams J. et al., 1991). Протокол исследования в группе «СИОЗС+Свет+Ион» включал в себя ежедневную экспозицию яркого флуоресцентного «дневного света» (2500 люкс), а также аэроио- нотерапию (более 1х105/см3 отрицательных ионов) в утренние и вечерние часы по 1,5 часа в течение 2 недель.
Количество респондеров на 7-й и 14-й дни терапии в подгруппе «СИОЗС+Свет+Ион» соответственно составило 33,3 и 75,0 %, в подгруппе «СИОЗС+Свет» – 13,3 и 73,3 %, а в подгруппе «СИОЗС» – 6,7 и 60,0 %. Наибольший клинический эффект в первую неделю терапии депрессии был получен при использовании схемы лечения «СИОЗС+светотерапия+аэроионотерапия» по сравнению с группами «СИОЗС+светотерапия» и «СИОЗС», что может объясняться дополнительным синергическим серотонинергическим действием отрицательных аэроионов, яркого искусственного света и СИОЗС.
Как упоминалось выше, в патогенезе АР большую роль играют сенсорные отклонения, поэтому нами было предпринято иммунологическое обследование 32 пациентов отделения аффективных состояний с тестированием вкусовой, обонятельной, болевой чувствительности в процессе их лечения с использованием СИОЗС. Несмотря на то что тяжесть депрессии по шкале депрессии Гамильтона уменьшилась в процессе лечения с 17 до 4 баллов, высокий уровень кортизола снизился несущественно, превышая норму на всех этапах обследования. Динамика иммунологических параметров также не была выраженной, хотя и обнаруживала благоприятные изменения в виде стимуляции субпопуляции CD2+-клеток и снижения уровня HLA-DR+-лимфоцитов.
Обонятельные и вкусовые нарушения наблюдались у большинства обследованных. Острый период депрессивного состояния сопровождался сниженной чувствительностью к сладкому и горькому вкусу, которая повышалась в процессе лечения. При иммунофизиоло-гическом анализе данных была определена степень взаимосвязи уровня иммунных комплексов с чувствительностью пациентов к боли, горькому и сладкому веществам.
При исследовании обонятельной чувствительности при депрессии было установлено, что реакция на феромон андростенон связана с особенностями полового поведения и уровнем тревожности и является более стабильной характеристикой, чем чувствительность к другим запахам. При обследовании пациентов с ко-морбидными сексуальными, депрессивными и аддиктивными расстройствами в процессе лечения препаратом андрогель установлено, что, несмотря на существенный рост уровня тестостерона, обонятельная реакция на андростенон не меняется на протяжении 3 недель лечения. Возможно, это связано с нестойкостью эффекта заместительной терапии.
Представления о коморбидности депрессии, аддикции и сексуальных расстройств могут быть существенно модифицированы с учетом психонейроиммунологических закономерностей. Кроме того, динамика вкусовой, обонятельной, болевой чувствительности может свидетельствовать о степени эффективности ан-тидепрессивной терапии.
В следующем блоке исследования представлены результаты комплексного исследования запрограммированной клеточной гибели и его регуляции при АР и расстройствах адаптации депрессивного спектра. В ходе исследования были изучены процессы апоптоза лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови у лиц с депрессивными расстройствами в динамике терапии антидепрессантами различных классов с применением светотерапии.
Обследовано 60 лиц с депрессивными расстройствами: 56 женщин и 4 мужчины. Средний возраст пациентов составил 41,91 ± 2,05 года. Структура обследованных лиц с депрессивными расстройствами представлена легким и умеренным эпизодами депрессии. В качестве контрольной группы были обследованы 59 психически и соматически здоровых лиц. Для изучения влияния психотропных препаратов на показатели апоптоза лиц с депрессивной симптоматикой были сформированы группы из обследованных лиц, получающих следующую терапию 36 пациентов, получающих монотерапию СИОЗС: флуоксетин (26 пациентов) и пароксетин (10 пациентов); 15 пациентов, получающих растительный антидепрессант на основе экстракта травы зверобоя; 26 пациентов, получающих сочетанную фармакотерапию и свето-терапию.
Проводили оценку содержания клеток с маркером апоптоза непрямым иммунофлуорес-центным методом с использованием моноклональных антител к антигену CD95 (ТОО «Сорбент», Москва), морфологические изменения нейтрофилов и лимфоцитов, характерные для апоптоза, оценивали методом световой микроскопии в мазках крови. Определение концентрации кортизола и дегидроэпиандростерона сульфата проводили в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.
Исследование процессов апоптоза у лиц с депрессивными расстройствами показало статистически значимое по сравнению со здоровыми лицами повышение экспрессии рецептора CD95 (19,47±1,02 %, в контроле – 11,64±0,31 %, p<0,05), а также увеличение содержания лимфоцитов и нейтрофилов с морфологическими признаками апоптоза на фоне гиперкортизоле-мии (табл.).
Сравнительная оценка процессов апоптоза лейкоцитов периферической крови лиц с депрессивной симптоматикой, получающих фармакотерапию флуоксетином, пароксетином, растительным антидепрессантом негрустином, а также сочетанную фармако- и светотерапию, показала, что для лиц с депрессивными расстройствами всех исследованных групп характерно усиление процессов апоптоза лимфоцитов и нейтрофилов на рецепторном (CD95) и клеточном уровнях (морфологическая картина изменений ядерного вещества).
Таблица
Характеристика процессов апоптоза лейкоцитов и гормональных показателей в крови здоровых лиц и лиц с депрессивными расстройствами
|
Показатели |
Здоровые лица |
Лица с ДР |
|
СD95, % |
11,64±0,31 |
17,16±0,75* |
|
СD95 абс., ×109/Л |
0,34±0,03 |
0,71±0,02* |
|
% лимфоцитов с фрагментацией ядра |
0,88±0,18 |
1,83±0,29* |
|
Абс. число лимфоцитов с фрагментацией ядра, ×109/Л |
0,026±0,007 |
0,04±0,008* |
|
% нейтрофилов с признаками апоптоза |
0,40±0,15 |
1,01±0,23* |
|
Абс. число нейтрофилов с признаками апоптоза, ×109/Л |
0,026±0,007 |
0,02±0,005 |
|
Индекс реализации апоптоза лимфоцитов, % |
7,74±1,65 |
11,50±1,92 |
|
Кортизол, нмоль/л |
434,13±23,00 |
490,33±16,27 |
|
ДГЭАС, пкг/мл |
2,44±0,24 |
1,89±0,20 |
|
ДГЭАС/кортизол, % |
0,60±0,07 |
0,47±0,05 |
Примечание. ДР – депрессивное расстройство; * – p<0,05 по сравнению со здоровыми лицами.
Терапия антидепрессантами способствовала нормализации изучаемых показателей. При этом применение растительного антидепрессанта давало сравнимые результаты с флуоксетином и пароксетином. Применение светоте-рапии в сочетании с медикаментозной терапией позволило повысить эффективность лечения, что было объективизировано характерной динамикой выраженности апоптоза: в группах пациентов, получающих флуоксетин и экстракт зверобоя со светотерапией, выявлено снижение экспрессии рецептора CD95 и содержания нейтрофилов и лимфоцитов с морфологическими признаками апоптоза.
Полученные результаты показывают усиление апоптоза клеток периферической крови при депрессивных расстройствах. Индукция апоптоза иммунокомпетентных клеток может объяснить полученные многими исследователями снижение активности лимфоцитов у лиц под воздействием психоэмоционального стресса и повышенный риск развития заболеваний с иммунологической недостаточностью. Стресс способствует усилению активности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси с повышенным выделением глюкокортикоидов, которые являются физиологическими индукторами апоптоза. При клиническом улучшении состояния пациентов наблюдается нормализация показателей клеточной гибели на фоне восстановления состояния основных гомеостатических систем организма. Индукция апоптоза клеток перифери- ческой крови у лиц с депрессивными расстройствами, по нашему мнению, является адекватной временной преходящей реакцией целостного организма в ответ на стрессовую психотравмирующую ситуацию.
Таким образом, проведенные исследования позволили оценить распространенность, ко-морбидность и факторы полиморфизма АР. Выявлена высокая встречаемость САР в детско-подростковой популяции. Изучены клинические, терапевтические особенности в случае затяжной депрессии утраты и у больных пожилого возраста в условиях специализированного стационара по оказанию паллиативной помощи. Применение комбинированных методов терапии депрессивных расстройств выявило их более высокую эффективность по сравнению с монотерапией антидепрессантами. Опираясь на результаты изучения механизмов запрограммированной клеточной гибели при АР, разработаны прогностические критерии эффективности моно- и комбинированной терапии АР на основе клинико-биологических подходов.