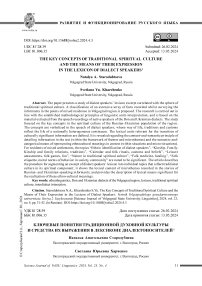Ключевые понятия традиционной духовной культуры и средства их выражения в лексиконе диалектоносителей
Автор: Стародубцева Наталья Анатольевна, Харченко Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены результаты исследования фрагмента лексикона диалектоносителей, соотносимого со сферой традиционной духовной культуры. В русле сложившихся методологических принципов интерпретации языковых фактов на материале, извлеченном из записей речи носителей донских и украинских говоров, охарактеризованы лексические средства, зафиксированные при опросе информантов в пунктах смешанного проживания населения Волгоградской области. Предметом исследования послужили вербализованные в речи диалектоносителей ключевые понятия духовной культуры русско-украинского населения региона, быт, традиции и обычаи которого отражают жизнь национально неоднородного континуума. Определены релевантные лексические единицы, с помощью которых передается культурно значимая информация, выявляемая с учетом содержательно-смыслового принципа ее детализации в тексте (в рамках тем и микротем) и семантико-категориального способа репрезентации этнокультурных смыслов в контексте (в рамках ситуаций и микроситуаций). Установлено, что для жителей поселений со смешанным составом значимы «Этническая идентификация диалектоносителей», «Родство. Семья. Родственные и семейные отношения, традиции», «Календарная и народная обрядность, обычаи и верования», «Досуговые увеселения, народные игры, забавы», «Природа в традиционной духовной культуре», «Народная медицина, врачевание», «Народный этикет, нормы нравственного поведения в социуме, общине». Приведено описание процедуры сегментации фрагмента лексикона диалектоносителей по отдельным темам, отражающим традиционную культуру в ее духовной составляющей; показано лексическое наполнение микротем, зафиксированных в рассказах русско- и украиноговорящих информантов, дана инвентаризация лексических средств, используемых для реализации названных этнокультурных смыслов.
Этнолингвистика, донские и украинские говоры волгоградской области, лексикон, традиционная духовная культура, междиалектное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/149146848
IDR: 149146848 | УДК: 81’28:39 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.4.3
Текст научной статьи Ключевые понятия традиционной духовной культуры и средства их выражения в лексиконе диалектоносителей
DOI:
Исследования сферы «языкового отражения (выражения) этнического миросозерцания» [Виноградов, 1997, с. 647] в последние три десятилетия проводятся весьма часто, что обусловлено экстралингвистическими факторами (прежде всего, социально-демографическими и миграционными процессами) и продолжающей возрастать необходимостью сохранения этнической самобытности. Идея глобализации, распространившаяся на вопросы развития языковых систем, постепенно вытесняется идеей сбережения национальной культуры традиционного типа.
Наблюдения над процессом постижения тем или иным этносом реалий окружающего мира и создания его вербальных интерпретаций проводились учеными с конца XIX в. и послужили основой для выделения как самостоятельного направления в языкознании нео-гумбольдтианства, одна из ветвей которого (этнолингвистика) занималась изучением взаимоотношений языка и культуры. Опираясь на работы ряда исследователей (см., например: [Сводеш, 1960; Сепир, 1993; Уорф, 1960;
Thomas, 1985]), этнолингвисты не только описывали вещный мир, воспринимаемый представителями определенного этноса, но и выявляли этнокультурные коннотации, влияющие на номинативные процессы. Цель нашей работы – установление на основе языковых данных тех понятий духовной культуры, которые продолжают оставаться актуальными для ди-алектоносителей, проживающих на полиэтнических территориях.
Как отмечает Н.И. Толстой, до начала ХХ в. ученые-слависты исходили из положения о том, что «народная духовная культура вкупе с элементами включенной в нее материальной культуры представляют собой единое целое» [Толстой, 2013, с. 12], позже в этнолингвистике традиционно стали выделять две сферы: материальной культуры (описание предметов, их признаков, совершаемых действий) и духовной культуры (описание межличностных отношений, устройства миропорядка в определенных человеческих общинах, результатов «деятельности человеческого духа... передающихся от поколения к поколению ценностей, посредством которых... обозначаются приоритеты» (Баранов, с. 865)).
С позиции этнолингвистики разграничение материальной и духовной культуры представляется нам не вполне четким, так как словесное описание, например, того или иного обряда включает номинации предметов, вещей, используемых в обряде; места, территории, на которых совершается обряд; природных явлений, сопутствующих обряду, и т. д. Некоторые исследователи выделяют в обрядовой лексике группы слов и словосочетаний, характеризующих духовную культуру: названия заговоров, молитв, причитаний и др.; наименования обрядовых блюд, одежды, культовых предметов; обозначение природных реалий, связанных с конкретным обрядом [Филатова, 1994, с. 81]. Н.И. Толстой считает обряд «текстом, выраженным семиотическим языком культуры» [Толстой, 2013, с. 14] и выделяет в нем три кодовые структуры – вербальную, реальную и акциональную, понимая под ними слова, предметы и действия.
В целом принимая разграничение сфер материальной и духовной культуры, отметим их тесную взаимосвязь, которая особенно отчетливо обнаруживается при описании феноменов, относящихся к духовной культуре. На наш взгляд, при этнолингвистическом подходе фрагменты материальной культуры совмещаются с фрагментами культуры духовной, рассматриваются вкупе с ними, в некоторых случаях обретают функциональную значимость.
Различия в динамике материальной и духовной культуры заключаются в том, что в развитии первой из них наблюдается смена, замещение форм (например, меняются типы построек, утварь и т. д.), а вторая при изменении «в значительной мере сохраняет старое, устанавливает формы сосуществования нового со старым, наслаивает одно на другое» [Толстой, 1999, с. 37], в чем и проявляется системная память культуры [Венди-на, 2016, с. 17].
Самым чувствительным индикатором культуры, по образному выражению Т.И. Вен-диной, выступает лексика, с помощью которой передаются «глубинные смыслы» каждого конкретного языка. Понимание той или иной культуры возможно только при обращении к языковым средствам, выражающим основные понятия духовной сферы [Вендина, 2016, с. 12–13].
Составители Программы собирания сведений для «Лексического атласа русских народных говоров» еще три десятилетия назад отмечали, что «понятия, образы, лексические средства, связанные с темой традиционной народной культуры, во многом уже вышли из употребления» [Программа..., 1994, с. 101], тем не менее созданная культурой предков среда чрезвычайно важна для последующих поколений, необходима для их нравственной жизни, «духовной оседлости», привязанности к родному дому, нравственной самодисциплины и социальности [Лихачев, 1984, с. 54].
Исследование ключевых понятий духовной культуры, находящих отражение в лексиконе диалектоносителей, позволяет выявить восприятие этносом материального мира и осознание своего места в нем, что говорит об актуальности рассматриваемого в статье вопроса.
Материал и методы
Источниками для выборки эмпирического материала послужили записи речи донских казаков и потомков украинских переселенцев, осуществленные во время проведения полевых диалектологических экспедиций с 2009 по 2023 г. в Волгоградской области. Корпус фиксированных аудиоматериалов (общее время звучания составляет около 5000 минут) включает автобиографические рассказы информантов, неформальные беседы с носителями говоров на бытовые темы, воспоминания о значимых событиях в истории страны, региона, семьи. К числу обследуемых относятся села, станицы и хутора Киквидзенского, Иловлин-ского, Михайловского и Урюпинского районов Волгоградской области, которые отличаются неоднородным этническим составом. На этих территориях можно наблюдать тесное переплетение материальной и духовной культуры донских казаков и потомков украинских переселенцев, что находит отражение в их лексиконе [Брысина, Супрун, 2021; Стародубцева, 2015; Супрун, 2017; Тупикова, 2013; Харченко, 2014].
Лексикон диалектоносителей, с учетом этнолингвистического аспекта проводимого исследования, понимается как «динамическая подсистема, реализуемая в текстах, зафикси- ровавших функционирование языка в его региональном варианте, включающая лексику и фразеологию общенародного национального языка, в том числе элементы традиционных диалектов, обиходно-разговорной сферы общения, индивидуальное словоупотребление, подверженная изменению под влиянием литературной речи и в условиях межъязыковых (междиалектных) контактов, опосредованно отражающая этнокультурную информацию при обозначении реалий окружающей действительности (лиц, предметов, явлений, процессов, признаков)» [Тупикова, Стародубцева, 2023, с. 51].
Материалом для исследования послужил фрагмент лексикона диалектоносителей, фиксирующий средства выражения понятий и образов традиционной духовной культуры.
На основе содержательно-смысловой сегментации эмпирического материала тематической области «духовная культура» выявляются темы и микротемы, соотнесенные с этнокультурной информацией в лексиконе ди-алектоносителей (см. об этом: [Тупикова, Стародубцева, 2023, с. 52–53]). В темах отражается инвариантность взаимосвязанных «отрезков действительности» или представлений о них в сознании носителей языка, а микротемы содержат дифференциальные признаки того или иного фрагмента темы, то есть обозначают то или иное звено предметного или духовного мира и соответствующих этому звену наименований лиц, предметов, их признаков и совершаемых ими действий. Микротемы могут быть связаны с набором ситуаций, репрезентирующих типовые модели употребления языковых единиц, которые характеризуют лица, обстоятельства, условия, отношения и т. п. Ситуации, как правило, реализуются в микроситуациях, фиксирующих тот или иной этап ситуации, ее результаты, различия в участниках, разную трактовку символов и ритуальных действий и т. д.
Например, тема «Родство. Семья. Родственные и семейные отношения, традиции» представлена микротемами ‘кровное родство, родственные отношения в казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной русско-украинской семье’; ‘родство / статус по браку / супружеству, супружеские отношения в казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной русско-украин- ской семье’; ‘родство по брачной связи (свойство), отношения между свойственниками в казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной семье’; ‘духовное (искусственное) родство, статус по ритуальному родству, отношения духовного (искусственного) родства в казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной семье’; ‘семейные традиции донских казаков, украинцев / хохлов’; ‘семейные взаимоотношения в казачьей, украинской / хохлацкой, смешанной семье’. Последняя из названных микротем проявляется, в частности, в ситуациях «взаимоотношения супругов», «отношение детей к родителям», «отношение родителей к детям», «взаимоотношения детей» и др. Ситуация «отношение детей к родителям» реализуется в исследуемом материале, например, в микроситуациях: «почитать родителей» (1), «исполнять родительскую волю» (2) и др.; а ситуация «отношение родителей к детям» – в микроситуации «воспитывать детей тем или иным способом» (3):
-
(1) Нужна с децтва всё эта приучать, а ни када он вырастит, начинаит то атца пасылать куда-та, драца, кидаца. Нужна фсигда пачитать (ст-ца Преображенская, Киквидзенский р-н);
-
(2) И Боже избавь чё-эт ни нарушить. Если вот приказали с утра зделать там-вот: аγарот палить, ди-ревья насажали, яблань, – палить их нада (х. Калачёв-ский, Киквидзенский р-н);
-
(3) Ну, мать мая никада на миня руку ни пад-нимала. А дефкам даставалась... (пос. Реконструкция, Михайловский р-н).
Изучение языковых средств, связанных с понятиями традиционной духовной культуры, позволяет установить способы фиксации значений и смыслов, указывающих на сохранение и закрепление многовекового опыта конкретного этноса в используемых элементах.
Результаты и обсуждение
Понятие «духовная культура» объединяет в себе представления о системе организации общества, о ценностно-важных результатах жизнедеятельности человека, о совокупности передающихся от поколения к поколению аксиологических приоритетов (Баранов, с. 865). Для донских казаков и украинских переселенцев (их потомков) в пунктах совмест- ного проживания значимыми оказываются темы «Этническая идентификация диалекто-носителей», «Родство. Семья. Родственные и семейные отношения, традиции», «Календарная и народная обрядность, обычаи и верования», «Свадьба. Свадебные обряд, традиции», «Родильно-крестильный обряд», «Досуговые увеселения, народные игры, забавы», «Природа в традиционной духовной культуре», «Народная медицина, врачевание», «Народный этикет, нормы нравственного поведения в социуме, общине».
Лексикон диалектоносителей в части отражения явлений традиционной духовной культуры характеризует понятия, соотносящиеся с ценностными ориентирами жителей обследованных населенных пунктов. Разные варианты этнокультурных представлений, как показано Е.Л. Березович на другом материале, «могут существовать в социуме параллельно друг другу и даже уживаться в сознании одного носителя» [Березович, 2007, с. 9].
Календарная обрядность для носителей донских и русско-украинских говоров остается актуальной и в настоящее время, так как сохранение веками сложившихся исторических традиций, связанных с годовым циклом, и в русской, и в украинской культурах всегда было значимо. Прежде всего, структурирование календарного года ориентировалось на православные праздники, что нашло отражение в языковых единицах, соотносящихся в лексиконе диалектоносителей с микротемой ‘христианский календарь, обрядовые функции и символика’. Применение компонентного анализа позволяет на семантическом уровне разграничить ситуации и микроситуации. Например, ситуация «празднование Рождества Христова» вербализуется при выражении типового значения ‘торжественное отмечание кем-либо где-либо согласно установленным церковным канонам религиозного праздника в честь рождения Иисуса Христа’, которое представлено интегральными признаками (характер празднования, субъект(-ы) празднования, место, соответствие канонам, причина) и набором дифференциальных признаков. В анализируемых контекстах рассматриваемая ситуация воплощается в ряде микроситуаций, например «посещать церковь», «славить Христа»:
-
(4) Атец былó как начнёт рассказывать, у няво на глазах слёзы фсеγгда, как жили. Ну, абычаи какие у казакоф? Празники... Справляли фсе! Праваслав-ныи... Начинай как Раждиство Христова, и пашло, и пашло... Фсе празники хадили ф церькафь, эта была так завидино, шли семьями, и дитей вили, и фсех приучали Боγу малица и Боγу веравать (х. Казарин-ский, Киквидзенский р-н);
-
(5) Мы у нас ф Казарни там христаславили, Ражиство читали, эт я помню... как вайдёшь ф хату, христаславишь, дадут чё... Кутью эт перит Ражди-ством (х. Песчановка, Киквидзенский р-н).
Названная выше микротема тесно связана с микротемой ‘обрядовая пища, пищевая символика, ритуальные функции пищи’, которая реализуется в ситуациях «приготовление обрядовой пищи» (микроситуация «готовить рождественские блюда»), «ритуальные действия с обрядовой пищей» (микроситуация «угощать рождественскими блюдами») и др.:
-
(6) Ну, ушник у нас был самый казачий яда, лишь мы ели на Ражаство и на Пасху. Курицу рубят самую харошую, жирную, атваривают её харашо, густа атваривают и делают лапшу на адном яйце. Ни капли вады ни падливаеть, на адном яйце, вот эта у нас называлась ушник. Очинь фкусный (х. Ка-лачёвский, Киквидзенский р-н);
-
(7) Празники – Раждиство, кутью носят: «Бать-кó и матэ прислали вам вечéря». Каша с пшеницы с яравой, талчёная, там изюм, мёт, всё. Прихадили, пели, Христа славили (с. Сидоры, Михайловский р-н).
Языковыми средствами выражения значимых для жителей региона культурных смыслов духовной сферы в приведенных высказываниях выступают как литературные слова с религиозной семантикой (кутья, церковь, православный, молиться, веровать), так и лексические единицы с этнокультурным компонентом, например диалектное донское ушник ‘суп из курицы, утки или гуся с домашней лапшой’ (СДГВО, с. 619); представленные в диалектных словарях донских говоров обрядовые глаголы славить ‘ходить по дворам с рождественским песнопением, колядовать’ (СДГВО, с. 550) / христославить ‘ходить по дворам с рождественским песнопением; то же, что славить’ (СДГВО, с. 635); а также фразеологические сочетания, например Христа славить ‘в дни Рождества: ходить по домам с пением церковных песен, прославляя Хрис- та, поздравляя хозяев’, фиксируемое в словаре с пометой устар. (ТСРЯ, с. 894), читать Рождество, носить кутью; фонетические диалектизмы: Рожество, Рожаство (СДГВО, с. 519). В речи потомков украинских переселенцев отмечено употребление слова вечéря ‘ужин’, используемого информантом для обозначения рождественской кутьи, которую дети разносят по домам родственников и соседей в рождественский сочельник. В лексикографических источниках оно дается как диалектное донское (БТСДК, с. 75) или как украинизм (РУУРС, с. 297).
Актуализации транслируемых аксиологических понятий в речи носителей говоров способствуют прием лексического повтора глаголов и союзов ( и пошло, и пошло ), употребление определительного местоимения все с семантикой интенсивности, использование оценочных прилагательных и наречий ( очень вкусный , самый казачий , самая хорошая ), глагольные цепочки ( приходили – пели – Христа славили ).
Ситуации, связанные с описанием религиозных праздников и обрядов – Пасхи, Троицы, Покрова, Успения и др. – отражают значимость для диалектоносителей особого пласта лексики, включающего обозначения участников обрядов, ритуальных предметов, праздничных блюд, особых признаков или свойств субъектов действа / используемых предметов, описание действий и отношений:
-
(8) А на Пасху... Борщ варю всигда, штоб гости ж прийидуть. З курицей или з уткой. Ну ще якэ мясо есть. Блинцив напичу. Барща наварю. Ну а тоди розаньцев до чаю наварю. Як приедуть гости, так хорошо поядять. А, пасху печу, яичко красю... Мы в цэркву ходыли, а типерь я туды не дойду. Так я утром встаю, отрижу паскы, яйичек покладу, сальца там покладу, яки есть, и выношу солички, и вынесу на улицу на постое. Вроде яки посвятуться. Ну, кажуть же, што всэ кругом святиться, як свя-туть пасхи (с. Семёновка, Киквидзенский р-н);
-
(9) Рядам жил у нас сасед, дедушка, и он с вайны пришёл биз наги, хадил на диривянной. И у них рос бальшой-бальшой вязок. И вот на Троицу, на народный празник, фсе хадили к ним, и вот он ветки атрубал нам, дитваре, атрубал и давал, што-бы украсить дома. На Троицу наряжали (ст-ца Преображенская, Киквидзенский р-н);
-
(10) И кагда Троица. Ой, как я любила этот праздник! Щас пачему-та так ни делают. Троица – над окнами фсигда клён, палки мы наламаим, ве-
- тачки-ветачки, и павесим над окнами. И сходим в балку, нарвём чёбр. Ой, растелишь, в доме чёбром памоишь, пахнит так всё, зайдёшь, вот чуда, так чуда! (пос. Реконструкция, Михайловский р-н);
-
(11) До Пакрова за красивава, багатава, а по-сли Пакрова хоть за старца, тильки в дефках ни ас-тацца. На Пакрова зариве дифка, как карова. На Пак-ров до обид лито, а посли обид зима (с. Сидоры, Михайловский р-н);
-
(12) Успение кагда была, пристольный праз-ник, ф калхози резали быка и па бригадам раздавали (с. Сидоры, Михайловский р-н).
В результате анализа лексики, зафиксированной в рамках микротемы ‘народный календарь, обрядовые функции и символика’, выявлены группы понятий, указывающие на значимые для жителей исследуемых территорий реалии: 1) названия календарных праздников и периодов ( Новый год , Щедрец / Щедрый вечер , Масленица / Маслин , Жа-ворóнки / Сóроки , Красная горка , Иван Купала и др.); 2) наименования обрядовых действий ( колядовать , щедровать , кидать / подбрасывать ( жаворонков ), пускать ( венки по воде ), обходить ( поля с иконой ), жечь ( костры ), прыгать ( через костры ) и др.); 3) названия обрядовых атрибутов / символов ( костёр , венок , чучело ( Масленицы ), жа-ворóнки , блины , палочки из теста и др.) (см. об этом: [Архипенко, 2009, с. 440–441]):
-
(13) Жаварóнки. Да. Празник такой есть, зна-ите? ... Жаварóнки. Кагда их бапки испякаит, прям пахоже на жаварóнку, эта встреча зимы с висной. И кидаит их: «Жаваронок, жаваронок, приняси нам вёсну, зима надаела, фсю сену паела, ўот салому даедай» (х. Ширяевский, Иловлинский р-н);
-
(14) Как же раньше ни апыляли хлеп?! Вот претки маи вон сколька хлеба, батюня γаварил, сеяли, триста круγоф, а скольки в круγу, я ни знаю, и фсё вручную убирали, и ничем ни апыляли. Хади-ли па палям с иконами, с малитвами, прасили Гос-пада Боγа, и фсё эта паγибало, фся тварь, а хлеб ра-дилси – и хлеба сколька былó в Рассии, а? (х. Каза-ринский, Киквидзенский р-н);
-
(15) А тут у них щедравать хадили, я ни хадила, канешна, а ани тут: «Щедрый вечир, добрый вечир, вам защедруим». Тут так. Эт на старый новый гот. Щедрый вечир, добрый вечир (х. Песчановка, Кик-видзенский р-н).
Исследуемый эмпирический материал подтверждает слова Т.И. Вендиной о том, что
«русская традиционная культура – это культура, прежде всего, хозяйственной деятельности, основой созидательных ценностей которой является труд» [Вендина, 2022, с. 75], поэтому мы полагаем правомерным отнесение ситуации «отношение к труду, работе» к микротеме, выделяемой в рамках темы «Народный этикет, нормы нравственного поведения в социуме, общине».
Анализ высказываний как донских казаков, так и потомков украинских переселенцев, проживающих на территории Волгоградской области, показывает, что умение усердно работать считалось важнейшей составляющей социальной и личностной характеристики человека – и мужчины, и женщины. В речи диа-лектоносителей нередко подчеркивается, что при выборе жены всегда ориентировались на способность девушки не только вести домашнее хозяйство, но и на ее пригодность к изнурительным полевым работам:
-
(16) Ну, што тут, у ацца на γлазах слёзы были, дюжэ яму мать мая панравилась, ана была бальшая такая, стройная и рабатяγа была (х. Казаринский, Киквидзенский р-н);
-
(17) А матэ така была сераγлазынька, нивз-рачнынька, но вэсэла и мастеровата, всэ умила, всэ дилала (с. Мачеха, Киквидзенский р-н).
Для жителей поселений со смешанным составом актуальными лексическими единицами и словосочетаниями, соотносящимися с микротемой ‘нормы нравственности, поведения донских казаков, украинцев / хохлов в общине, социуме’, являются следующие имена существительные: труд , разг.-прост. трудяги , работяга , антонимичные им лентяй , разг. лодырь ; имена прилагательные: трудолюбивый , разг. работящий , ленивый , мастеровитый ; глаголы: делать , прост. ишачить , приучать ( к труду ), обрабатывать , работать , трудиться , уметь и др.; наречия: целиком , полностью .
-
(18) Аγарод был, сат. Да, абрабатывала я цы-ликом и полнастью фсё сама. И сено сама каси-ла, па-казачьи фсё. А он варонишскай мужик был. Я сама абрабатывала (х. Казаринский, Киквидзен-ский р-н);
-
(19) Дефки адбирают на падушки, приданнае сибе γатовить. Вот убирём эти пёрышки. Шылуша-ем. Бывало, сидишь, аш пальцы фсе стёрты. И вот и
- фсё, лазила агародничать. И вот так вот. Трудились. Трудились люди раньше. Не то, што сена заγатафь, друγое заγатофь. Фсё эта руками, фсё эта сваим трудом. Трудяги (пос. Иловля, Иловлинский р-н);
-
(20) Вот люди, да и маи претки, и тут зажитач-ных мноγа былó, ани работали как быки, хлеп сеили (х. Казаринский, Киквидзенский р-н).
Приведенные выше слова, а также зафиксированные в речи сочетания и сравнительные обороты ( все руками ; все своим трудом ; работали как быки ; сидишь (за работой), аж пальцы стёрты ; целиком и полностью сама и др.) подчеркивают ценностную значимость труда как основы бытия человека, которая не только обеспечивает ему существование, но и служит культурной нормой жизни, формирует его личность и определяет положение в обществе.
В речи носителей донских говоров отмечено также использование окказионального лягáж , соотносимого с диалектными лексемами лягам ‘ленивый человек; лентяй, лежебока’ (СРНГ, с. 254), лягавый ‘Бран. Лентяй’ (СРДГ, с. 126).
Как видим, важными для диалектоноси-телей являются речевые средства, семантика которых указывает на высокую степень вкладываемых индивидом усилий для выполнения каких-либо физических работ или, наоборот, на порицание и в конечном итоге отвержение того, кто этому не следует.
Жители Нижнего Дона чередовали тяжелую работу и различные развлечения. Результаты анализа массива фактов показывают, что глубинные смыслы, связанные с темой «Досуговые увеселения, народные игры, забавы», раскрываются в речи носителей говоров с помощью диалектных слов песнячай(ка) ‘человек, который любит петь, хорошо поет казачьи песни; хороший исполнитель песен, песенник’ (СДГВО, с. 417), улица ‘собрание жителей, гулянье на улице (чаще молодежи)’ (СДГВО, с. 610), вечер ‘вечернее собрание молодежи; то же, что посиделки, сиделки’ (СДГВО, с. 73), клекан / клёк ‘1) игра в «попа», при которой выбивают вертикально поставленную чурку, 2) чурочка, которой пользуются при игре в «попа»’ (БТСДК, с. 218). Отмечено также использование общеупотребительной лексики, входящей в данное тематическое множество, которая характеризует место проведения до- суговых занятий: клуб, площадка, грейдер, дом культуры, улица; работников сферы досуга гармонист, завклубом, избач, киномеханик и др.; исполнителей досуговых развлечений: дети, детвора, молодежь, ребятня; формы досуга и сопутствующие инструменты: игра, кино, песня, танец, фильм, балалайка, гармоня и др.; действия, связанные с досугом и развлечением: гулять, играть, петь, перепеть, припевать, плясать, танцевать, а также окказиональное клековать и др.
-
(21) Не была клуба. Был, но плоханький. А ма-ладёжи в эта время была не то, што сичас.. Страсть было... Фсе на улице были. Я ходила-та сама па этим улицам, припевали... И мы патом, после этава чая идём па улице и казачьи песни паём, вичирами... И вот улица сходица: Хамутофская, вот эта называлась адна... Эта улица, эти к этаму клубу. Вот я прям тут, помню, на сиридинке схадились и кто больше пирипаёт, чья улица. И пели да утра (с. Завязка, Кик-видзенский р-н);
-
(22) Пашли, там γармоня, там ноγи намазали от так γрязью в виде тапачик и пашли. На дароγе пляшим, танцуим, таγда висилей былó, чем сичас. Сичас жэ ў клуб, там плащатка, а таγда γармоня была, вышли на γредере, там ни асфальта, ничо, ўбили землю и пришли деўки. «Ой, деўки, какие у вас тапач-ки!» А мы γрязью панамажим, абуваца ш не ва што была, а на улицу хочеца фсё равно, малады ш были (х. Дьяконовский, Урюпинский р-н).
Названные лексические средства играют ключевую роль в ситуациях, когда информанты вспоминают свои детские годы и молодость. При этом песенная традиция была особенно значима и для донского казачества, и для украинских переселенцев и их потомков.
-
(23) Я чистая казачка. У вас пражила пидсят лет. Никто мине ни тронул, ничаγо. И паю вашим голасам. Вот песни я паю па-хахлячьи. Но гаварю па-казачьи. А вот па-хахлячьи не магу разгавари-вать! (с. Сидоры, Михайловский р-н);
-
(24) Я люблю украинские песни, я тибе магу па-какому сказать. [А дома папанька разговаривал по-украински?] Нимношка. А песни любил петь – што ты! (с. Большая Ивановка, Иловлинский р-н).
Исследуемый материал позволяет получить развернутое описание различных культурных реалий духовной сферы, которые постепенно уходят в прошлое. Например, в лексиконе диалектоносителей отме- чены варианты названия детской игры кле-кан и клёк, в которую играли и казаки, и хохлы. Житель украинского поселения дает следующее пояснение:
-
(25) [А во что в детстве играли?] Клёк. В клёка. Эта палки вот такой талщины, длины такой. Трое в линии устраиваютца. Клёк ставица. Эта выпиленый из дерива. Ну, патоньше, паменьше такой. Ну, палка. И рисуеца вот так вот квадрат, а ат квадрата усы в разные стораны. И вот сначала брасают, кто же кли-кавать будет, на клёку стаять будит здесь. На ноги каждый палку сваю берёть и кто дальше бросить, ближе, вирнее, бросит, тот начинаит кликавать. Первый раз брасают фсе с третьей линии. Кто па-пал, на фтарую линию пириходит. А кто кликуит, должен этат клёк выбить. Он и на метр, и на 5 мет-раф может, схватить ево назат. Астальныи тоже, ударил – бигут за сваими палками, вазвращаюца назад. Да фтарой, да первай линии, вот так вот (с. Сидоры, Михайловский р-н).
Высказывания информантов свидетельствуют о том, что традиционные народные развлечения (гуляния, игры, забавы), которые ранее проводились, как правило, на открытом пространстве в кругу односельчан, постепенно уступали место иным досуговым формам (посещение клуба, просмотр кинофильмов и т. п.), однако воспоминания о первых еще сохраняются в народном сознании и служат значимым элементом, маркирующим этнокультурные границы.
Специфика духовно-культурной картины мира жителей региона заключается в том, что важными этноидентифицирующими признаками донских казаков и украинских переселенцев (их потомков) являются уклад жизни, система народных и религиозных воззрений, а также соотносимые с ними обычаи, традиции, обряды. В исследуемом лексиконе диа-лектоносителей наблюдается аккумулирование средств, вербализующих результаты практической деятельности человека, связанной с духовной составляющей его жизни.
Заключение
Интерес к изучению гуманистических возможностей традиционной духовной культуры различных этнических общностей обусловлен в настоящее время активно происходящими в современном мире процессами глобали- зации и урбанизации сельского населения, социально-демографическими изменениями, в том числе в области миграционной политики.
Результаты анализа фрагмента лексикона диалектоносителей, отражающего смыслоорганизующие ценности и идеалы донских казаков и украинских переселенцев (их потомков), позволили выявить релевантные понятия народной духовной культуры различных этнических групп, длительное время проживающих на одной территории и сохраняющих свои традиционные аксиологические установки, которые служат средством нравственной ориентации этноса, с одной стороны, определяя его духовную уникальность, а с другой – обеспечивая консолидацию внутри социума, что в конечном итоге способствует сохранению культурной преемственности и национальнокультурной идентификации индивида.
Использование приемов содержательносмысловой сегментации массива фактов дало возможность определить границы тематической области «духовная культура», разграничить в ней темы и микротемы, установить признаки релевантных для них ситуаций и микроситуаций, соотнесенных с этнокультурной информацией в данных сегментах лексикона диалектоносителей.
Рассмотренные в исследовании основополагающие константы традиционной духовной культуры и средства их выражения, воплощенные в устной речи носителей донских и украинских (хохлацких) говоров, выступают инструментом, определяющим специфику лексикона, выявляющим доминантные черты мировоззренческих установок, традиций, обычаев, ценностных приоритетов, раскрывающим этнокультурную идентичность в сформировавшемся поликультурном социуме. Характеристика ключевых нравственных понятий и идеалов не только обнаруживает вертикальные связи, отражающие преемственность поколений внутри одного этноса, но и расширяет границы исследования в горизонтальном плане за счет обращения к процессам взаи-мообогащения и взаимовлияния соседствующих культур.
Изучение языкового материала с указанных позиций стимулирует поиск новых мотивационных признаков в слове, где культурная семантика переплетается с языковой, что способ-
Ключевые понятия традиционной духовной культуры ствует выражению самобытности и культурноязыковой уникальности и маркирует в речевом континууме принадлежность к традиционной народной культуре определенного этноса.
Список литературы Ключевые понятия традиционной духовной культуры и средства их выражения в лексиконе диалектоносителей
- Архипенко Н. А., 2009. Традиции и новации в обрядности и терминологии донского народного календаря // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. С. 438-445.
- Березович Е. Л., 2007. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: Индрик. 599 с.
- Брысина Е. В., Супрун В. И., 2021. Духовная культура казачества: язык и образы. Волгоград: ПринТерра-Дизайн. 336 с.
- Вендина Т. И., 2016. Слово в языке русской традиционной духовной культуры // Мир русского слова. № 4. С. 12-18.
- Вендина Т. И., 2022. Диалектное слово в культурно-языковом контексте // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 2022 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: ИЛИ РАН. С. 72-94.
- Виноградов В. А., 1997. Этнолингвистика // Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Большая Рос. энцикл.: Дрофа. С. 647-649.
- Лихачев Д. С., 1984. Заметки о русском. 2-е изд., доп. М.: Сов. Россия. 64 с.
- Программа собирания сведений для лексического атласа русских народных говоров / отв. ред. И. А. Попов. СПб.: НеГА, 1994. 336 с.
- Сводеш М., 1960. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов (На материале племен эскимосов и северо-американских индейцев) // Новое в лингвистике. М.: Изд-во иностр. лит. Вып. 1. С. 23-53.
- Сепир Э., 1993. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс: Универс, 1993. 656 с.
- Стародубцева Н. А., 2015. Субстантивные средства выражения родства в лексиконе диалектоно-сителей (на материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. J№ 4 (28). С. 16-24. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/ jvolsu2.2015.4.2
- Супрун В. И., 2017. Украинцы Волгоградской области // Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград: Изд-во ВолГУ С. 335-337.
- Толстой Н. И., 1999. Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры // Избранные труды. Т. 3. М.: Яз. рус. культуры. С. 31-39.
- Толстой Н. И., 2013. Язык и культура // Толстые Н. И. и С. М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. М.: Ин-т славяноведения РАН. С. 7-19.
- Туликова Н. А., 2013. Основные подходы к структурированию лексикона диалектоносителей в пунктах смешанного проживания населения // Известия Южного федерального университета. Серия «Филологические науки». № 4. С. 36-42.
- Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2023. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте: проблемы, задачи, методы исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 22, № 4. С. 48-61. DOI: https://doi.org/ 10.15688/jvolsu2.2023.4.4
- Уорф Б., 1960. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. М.: Изд-во иностр. лит. Вып. 1. С. 169-183.
- Филатова В. Ф., 1994. Семантика предметной обрядовой лексики // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 1993 / ред. А. С. Герд, А. И. Попов. СПб.: НеГА. С. 81-91.
- Харченко С. Ю., 2014. Ядерные и периферийные ЛСГ прилагательных в лексиконе диалектоно-сителей (на материале речи жителей поселений со смешанным составом) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. № 4 (23). C. 37-45. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu2.2014.4.4
- Thomas J., 1985. Linguistique, ethnologie, ethnolinguistique (la pratique de l'Anthropologie Aujourd'hui). Louvain: Peeters. 252 p.