Ключи от темницы
Автор: Голенко Жанна Анатольевна
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: В культурном измерении
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается антропологическая роль автобиографического измерения в культуре. Предлагается свой оригинальный подход к анализу новейшей прозы, реализуемый благодаря автобиографическому измерению как новому внелитературному фактору.
Антропологическая школа, эстетическое измерение, автобиографическое измерение
Короткий адрес: https://sciup.org/148320634
IDR: 148320634
Текст научной статьи Ключи от темницы
ca «Эстетическое измерение: триумф и/или скандал?» [1].
Скандала (как и триумфа), по-моему, не получилось. Зато получилось практически по Зедльмай-ру: «После того, как абстрактное ограничение формальной стороной привело к изгнанию духа из художественного произведения, возникло желание снова механически привнести его в произведение из других сфер» [2, с. 116].
Правда, если один сказал это пол века назад, то желание другого вернуть «эстетическое переживание» антропологам на самом деле датировано 1996 годом. Для научной парадигмы, обновляющейся каждые десять-пятнадцать лет, это, конечно, много. Но российское пространство - культурное вообще и научно-гуманитарное в частности - особое.
Возможно, семнадцать лет назад грабесовское обоснование антропологической роли эстетического измерения в культуре было и исчерпывающим. Однако сегодня и в решении данного вопроса, и в переопределении роли эстетики в культуре вообще опираться лишь на «эстетическую эмоцию» (измерение, переживание), как на двигатель прогресса, - не достаточно. А значит, малоубедительно. Впрочем, не только сегодня: тот же Айвор Ричард, на которого Грабес делает ссылку, еще в 1936 году отверг аналогичные попытки К. Белла: «То, что мы делаем, идя в картинную галерею или одеваясь по утрам, в принципе ничем не отличается от рассматривания картины, чтения стихов или прослушивания музыки. В последнем случае мы просто “лучше организуем обычный опыт”» [3, р. 16].
Как правило, сбежать от подобного безотличия с его последствиями и в эпоху модернизма, и теперь (что общего между этими эпохами - вопрос другой) «помогал» дифференцированный, конкретный анализ. В данном случае поиск внутри самого подхода и «переживания» новых (или хорошо забытых старых), возможно, на первый взгляд и чужеродных маркеров-измерений как основы актуальных методик анализа литературы. В частности, новейшей. Кроме того, нужна более широкая понятийная карта.
С другой стороны, и сама семантика «эстетического переживания» требует уточнения. В зависимости от решения антино мии истины/неистинны искусства (подлинного art двигателя и новых форм), от философских, научных или культурологических ветров, понятия, подобные «произведению искусства», «художественности», «гармонии», «эстетике» итак далее, претерпевали всевозможные изменения не раз. И каковы они сегодня - в атмосфере afterpostmodernism, ориентированного на воскрешение субъекта, подлинность субъективного, а не истину объективного?
Конечно, в основе «эстетической эмоции» - изумление (удивление, остранение и т.д.). Но и изумление, и чувственное восприятие имеют свою природу, чем-то обусловлены. Ребенок изумляется практически всему, дикарь -бусам, другому - скучно.
Прежде всего - ментальностью (что, кстати, не противоречит и природе антропологической школы). Результатом автобиографического и эстетического опыта, единственно, сформированного не без участия той самой культуры и социума. И здесь для антропологов круг снова, казалось бы, замыкается, обрекая многострадальную культуру на стагнацию. Однако отклик «сознательной памяти» - автобиографическое измерение (просьба не путать с автобиографическим опытом) как импульс, имманентная первооснова измерения эстетического, превращающаяся в него через категорию воображения, - не дает это сделать. Конкретный человек, его биография становятся тем опосредующим пространством/ самодостаточной процессуаль-ностью, в которой слово (мелодия, линия и т.д.) овеществляется, обретая каждый раз иное уни-кальное/индивидуальное смысловое измерение, разрывающее, по идее, «культурный» плен.
Однако несмотря ни на какую дистанцию между созерцателем и объектом, происходит не просто случайная флуктуация.
Происходит метафоризация текста на месте столкновения/ сращения двух интенций, сознаний, биографий - авторской и читательской. Точнее, опосредованного текстом авто/биографи-ческого измерения автора (реакции на себя и действительность), с одной стороны, и авто/биогра-фического измерения читателя («информированного») как реакции на подобную «реакцию» - с другой. «Метафорический фокус» - «референт». Само измерение выступает универсальным «кодом» адресата («м.ф.») и адресанта («р.»), а значит, решением проблемы энтропии вследствие неуспешной коммуникации. Оно становится «странствующей точкой зрения», гиперсе-мой дефиниций «синтетического кода» и автора, и читателя. Благодаря ей означающее обретает точку пересечения с означаемым, ограничивающим ему, таким образом, пространство для движения. С одной стороны,это способствует успеху коммуникации/диа-лога и даже обретению реальности текста и «идеального читателя», а не только «информированного». (Отсюда и не случайность случайности.) Но с другой - мешает символизации материала. В итоге текст, уже вещь для нас, выступает неким новым, открытым множественности третьим, в идеале (зависит от богатства опыта и воображения, информированности, познающего) и обладающим трансформационным материалом, достаточным, чтобы ощутить антропологическую само-значимость, потенцию символа и стать тем самым ключом от темницы.
Правда, в период тотальной глобализации (которую в конкретном, а не умозрительном разговоре не учитывать нельзя) для современной «культуры экстаза коммуникации» та ких ключей, как автобиографическое измерение - внутренних «источников внутреннего изменения», - опять же маловато. Поэтому, разумеется, учитывая устойчивость отдельных «цивилизаций» к воздействию извне, сбрасывать со счета внешние вне-литературные факторы (внешние «источники внутреннего изменения»), обусловившиетеориизаим-ствования/влияния компаративистики, все же не стоит. Наоборот, в атмосфере междисциплинарности, культурной гибридизации сближение глобализующейся антропологии и компаративистской рефлексии следует рассматривать более внимательно. Прежде всего как расширение «компаративных горизонтов» и развитие теории практик. Кстати, творчество приведенных Грабе-сом авторов (заявленных им гениальными бунтарями-одиночками), закономерность появления их материалов, как правило, объясняются «заимствованием» или «влиянием», а не исключительно
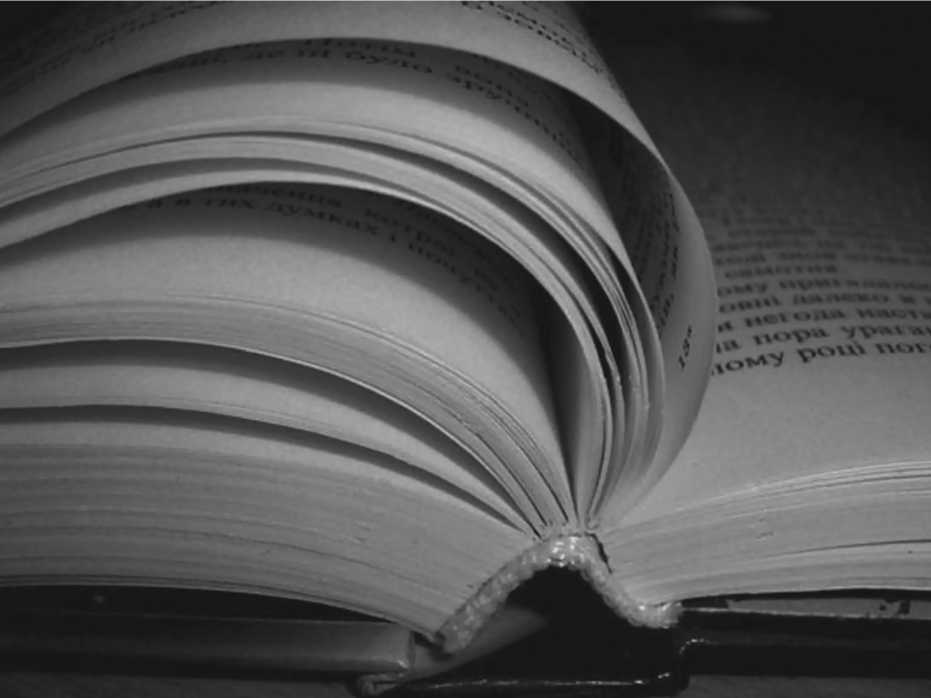
«самозарождением». Возможен ли был «Улисс», если бы перед ним, в рамках «довоенной» куль-туры/эпохи, не было работ Рёскина, Ницше, Уайльда, Форда, Пруста, Паунда?
Разумеется, мы не собираемся специально примерять костюм персонажа (хотя в новейшей, проавторской, прозе на стыке fiction и non fiction отстраниться, как и испытать interesselosen Wohlgefallens1, затруднительно) или читать то или иное «произведение» как историю болезни/жизни (просьба не путать автобиографическое измерение с подходами психологической школы или биографическим методом). И не потому, что наше читательское восприятие в силу автобиография ности/п реобл а дания субъективности способно «увести» в сторону в плане адекват-ной/объективной оценки материала. Авторские приемы, как известно, могут быть заведомо обманками: автор может испо-

ведоваться, а может изображать (играть) исповедь; он сам ограничивает визионарный акт, интуитивизм и бессознательность своего творчества, вводя, таким образом, «сознательные» элементы (как приемы). В частности, поэтому в новейшей прозе автобиографическое измерение подчас элемент не только «пред-произведенческого переживания», но и конструктивный.
С другой стороны, апперцепцию, благодаря которой автор-субъект содержится и в форме, и в содержании, мы тоже не можем отменить. Даже Барт говорил: субъект не бывает экстерриториальным по отношению к своему дискурсу. Поэтому, анализируя прозу (объект и продукт среды и культуры пост-постмодернизма), вступая в субъектно-субъектный, авторско-читательский, диалог, нам следует, учитывая авто/био-графическое измерение (автора и читателя) как новый внелитера-турный фактор, вид речевой деятельности, перформативный извод антропологического поворота, идти прежде всего не от эстетических эмоций - этих разбуженных текстом аффектов, -а от упорядочения опыта. Эстетического и художественного. То есть формы, носителей сти ля, синергии способов и приемов литературного опосредования, с одной стороны, и ментального, познающего, а не аффектированного поведения - с другой. Именно стилевые, формальные маркеры объективного (истинного - ложного) и автобиографического (субъективного - неистинного - правдивого), нерастворимые ни в каком эмпиризме, «должны» указать (насколько это вообще возможно), как реализована интенция. А благодаря сравнительно-историческому методу - и почему. Что это за книга. Что за «биография», за культурное построение. Чтобы в итоге ответить на главный эстетический вопрос: является ли (по новейшим меркам) истинным и освобождающим то, что объективно содержится в духе данного произведения-явления культуры, обретшего данную специфическую форму? Или предпочтительнее та гармония, что влечет за собой обман и плен?
Предлагая подобный подход осмысления одного из ключевых вопросов теории литературы, мы должны еще раз подчеркнуть: российское пространство культурное вообще и научногуманитарное в частности - особое. Десятилетия железного за навеса сделали свое дело. Наше отставание от, в частности, новейшей филологической теоретической мысли и в плане науки, и в плане ее преподавания огромно. Последнее относительно субъектно-объектных отношений, соотношения автор -герой - читатель до сих пор зиждется на концепциях Тынянова и Кормана. Порой, как нечто в высшей степени прогрессивное с кафедры упоминаются Скаф-тымов или Бахтин. И все это без учета и понимания того контекста - временного, литературного, - который их выводы обусловил.
Но, к счастью, XXI век за окном не отменить. Западная теория литературы давно поправила и Элиота, и Барта, и Дерриду. Поскольку шла за новейшей литературой. А не наоборот - навязывая новому старое. Как до сих пор делается в нашей теории.
Возможно, когда-нибудь российская филология найдет ключи от своей темницы, найдет в себе смелость жить с открытым сознанием, приспустит флаг традиции. Поскольку он давно превратился в похоронный штандарт, а подобная традиция из «особенности» -в регресс. В лучшем случае в стагнацию.
«Какой день за окном? И что требуется новейшей литературе?» - вот вопросы, с которыми отечественным филологам нужно садиться за рабочий стол или подниматься на кафедру.


