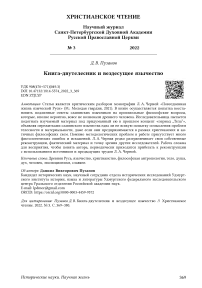Книга-двутелесник и вездесущее язычество
Автор: Пузанов Даниил Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Научная жизнь
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья является критическим разбором монографии Л. А. Черной «Повседневная жизнь языческой Руси» (М.: Молодая гвардия, 2021). В книге осуществляется попытка восста- новить подлинные ответы славянских язычников на произвольные философские вопросы, которые, вполне вероятно, вовсе не волновали древнего человека. Исследовательница пытается подогнать изучаемый материал под придуманный ею в прошлом концепт «период „Тела“», объявляя пережитками славянского язычества едва ли не всякую попытку осмысления проблем телесности и материальности, даже если они предпринимаются в рамках христианских и ан- тичных философских схем. Помимо методологических проблем в работе присутствует много фактологических ошибок и искажений. Л. А. Черная редко разграничивает свои собственные реконструкции, фактический материал и точку зрения других исследователей. Работа сложна для восприятия, чтобы понять автора, периодически приходится прибегать к реконструкции с использованием источников и предыдущих трудов Л. А. Черной.
Древняя русь, язычество, христианство, философская антропология, тело, душа, дух, человек, эволюционизм, славяне
Короткий адрес: https://sciup.org/140295651
IDR: 140295651 | УДК: 908(470+571)(049.3) | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_369
Текст научной статьи Книга-двутелесник и вездесущее язычество
Однажды, отдыхая в одном из баров своего города, я поспорил со знакомым. Он утверждал, что в бытовой сфере Древняя Русь превосходила Запад своего времени. В пример мой оппонент привел некое «Письмо Анны»1, в котором утверждалось превосходство древнерусских печей над французскими. Как именно мой собеседник передавал детали письма, я не помню, но из его рассказа явно выходило, что у древнерусских печей должна была быть как минимум труба. Моему замечанию о том, что труб в древнерусских печах не было, мой собеседник удивился. Удивило его и то, что я, специализируясь по Древней Руси, ничего не слышал о таком важном источнике, как «Письмо Анны».
Надо сказать, что мой оппонент не был чужим для истфака, он обучался по специальности «политология». Придя домой, я все-таки нашел так называемое «Письмо Анны». Моим глазам предстала явная, написанная в современной стилистике и исходя из современного мировоззрения, фальсификация. И тот факт, что скомпонованный из современных стереотипов текст пользуется популярностью в интернете и даже вызывает доверие у некоторых не лишенных исторического образования людей, — прискорбный признак провала популяризации древнерусской истории быта. Люди могут представить себе то, как жили крестьяне в XIX в., но раннее Средневековье для них в этом отношении — тьма кромешная. Вот и замещают образовавшуюся дыру сведения поздних веков. Ведь мало кто представляет войско какого-нибудь князя домонгольской Руси с пищалями, при этом лежащий на печи в просторной избе киевлянин IX в. многими будет воспринят как вполне себе достоверный образ.
В таких условиях, казалось бы, надо радоваться любой попытке восполнить возникший пробел. И вот в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Живая история: Повседневная жизнь человечества» выходит книга с провокационным названием «Повседневная жизнь языческой Руси». Автор книги — доктор исторических наук Людмила Алексеевна Черная. У этой монографии есть двойник. В то же самое время в том же самом издательстве вышла «другая» книга автора: «Языческая Русь». Как можно судить по открытым данным, обе работы имеют одинаковое число страниц (249), общую аннотацию, идентичное предисловие, одинаковое оглавление2. Отличаются, видимо, только название, оформление, качество обложки и, соответственно, цена. Я встречал онлайн-магазин, в котором честно представили эти новинки как два варианта одной и той же книги. Но обычно до истины приходится докапываться самому. На официальном сайте издательства об идентичности двух произведений тоже приходится судить, только сравнивая их бесплатные фрагменты. Впрочем, это замечание следует адресовать скорее к издательству. К автору возникают вопросы совсем другого характера.
Что, вы думаете, должно содержаться в книге, посвященной повседневности «языческой Руси»? Наверное, какие-то данные о жизни восточнославянского населения в период становления власти Рюриковичей? В каких домах жили, что ели, что пили, как насыпали курганы, какие идолы вырезали из дерева, как обустраивали капища и т. д. В такой работе главными источниками были бы археологические. Но, как видно уже из аннотации, автор пытается «восстановить в подробностях повседневную жизнь обитателей русских земель дохристианской эпохи… отыскивая отголоски языческих воззрений в народном мировосприятии, в обычаях, обрядах, сохранявшихся у русских вплоть до XX столетия, а также привлекая другие, в том числе и археологические материалы». Археологические материалы, надо сказать, в работе используются крайне скупо. А вот поставленная автором задача — восстановить по материалам позднего времени повседневную жизнь тех самых язычников, живших до 988 г. (С. 6), — требует разработки определенной методологии, которой можно было бы пренебречь, если бы речь велась просто о «религии восточных славян» или «традиционных верованиях». Но, постоянно говоря об отголосках язычества, Л. А. Черная не сообщает, как она отличает явления древние от поздних. Многие ее суждения о древности того или иного феномена сделаны «по наитию». Хотя местами можно проследить и некоторые методологические принципы. Но их невозможно понять, не читая прежние работы автора, прежде всего «Антропологический код древнерусской культуры».
В «Антропологическом коде» исследовательница изобретает свою периодизацию мировой культуры. Культура, по ее мнению, «это система связей и отношений, выстраиваемая тем или иным обществом вокруг того или иного решения проблемы человека» [Черная, 2008, 49]. Исходя из этого вольного определения, Л. А. Черная выводит и стержневой вопрос любой культуры — «проблема человека» [Черная, 2008, 49]. В другом месте исследовательница пишет, что культура — это все, что отличает человека от животного [Черная, 2008, 61]. Из такого подхода следует, что пение и рисование — процессы менее культурные, чем болезненные роды, состав крови человека или количество извилин в его мозгу. Впрочем, Л. А. Черная так глубоко не рассуждает. По ее мнению, культура — это не только все сугубо человеческое, но и одновременно все, что существует у человека «поверх инстинктов» [Черная, 2008, 60–61]. В данной работе нет возможности рассматривать вопросы о том, что считать инстинктом, имеются ли они у людей и имеет ли смысл употребление этого термина в современных науках. Отметим лишь, что животные не являются рабами жестко заданных врожденных поведенческих схем, многие из них способны учиться и действовать, исходя из своего жизненного опыта. Противопоставление «культуры» «инстинкту» в этом отношении приводит к тому, что биологи говорят о культурных различиях в коллективах животных одного вида [Whiten et al., 1999]. Не во всех науках целесообразно использовать такое широкое определение культуры. В существенно отличающихся по своей тематике и методологии работах можно встретить представление о человеческой культуре как системе, которая организуется посредством символических коммуникаций3 [Deacon, 1997, 369, 377, 401–402, 436–437; Уайт, 2004а, 154; Жирар, 2016, 107; Кон, 2018, 91]. Подобное определение культуры возвращает уникальность человеку и действительно позволяет говорить о культуре как о направленной «на поддержание жизни» деятельности людей [Уайт, 2004а, 51]. Но, в отличие от определения Л. А. Черной, оно позволяет четко провести границу между животным и человеком.
Хотя человек издавна переносил на животные коллективы признаки культуры, пока не найдено ни одного животного, которое пользовалось бы символической референцией в естественной среде обитания [Кон, 2018, 68]. Для понимания социальных особенностей культурного мира остроумной представляется догадка талантливого отечественного лингвиста Ю. В. Кнорозова, согласно которой «Составляющей единицей ассоциации у людей (не совпадающей с обществом) является не особь, а коллектив. В связи с этим сигнализация в человеческой ассоциации относится к высшему типу, по сравнению с сигнализацией в объединениях животных, и приобретает качественно иные свойства и функции» [Кнорозов, 2018, 30].
Не обнаружив ответа на вопрос «Что есть человек?», Л. А. Черная заставила искать это определение все существующие общества, которые должны были вести свои поиски в одном направлении и проходить на этом пути четыре стадии: период «Тела», период «Души», период «Разума», период «Экзистенции» [Черная, 2008, 57]. Такой однолинейный эволюционизм соответствует скорее представлениям об эволюционизме его критиков, чем представлениям серьезных эволюционистов (см.: [Уайт, 2004б, 512]). Симптоматично, что смену периодов Л. А. Черная выводит не из кропотливого анализа эволюции мировой мысли, а просто подгоняя свои догадки под уже существующую периодизацию: период «Тела»-де соответствует Древнему миру, период «Души» Средневековью, период «Разума» Новому времени, а период «Экзистенции» — Новейшему. В этой системе древнерусское язычество оказывается априори обречено выражать собою период «Тела». Подтвердить данный тезис исследовательнице не составляет труда, ведь под отражение телесной идеологии она может подогнать все что угодно: понятие целостности, формы, материалистичности души, локализации ее в определенной части тела и т. п. Неудивительно, что многие черты «телесной» идеологии Л. А. Черная находит и в христианских сочинениях. Эти казусы исследовательница объясняет неким «переходным периодом», язычество, мол, не сразу уступило место новой идеологии «души». При этом в своем анализе Л. А. Черная не различает оригинальные и переводные произведения4, отражение реальных представлений и аллегории, устойчивые речевые обороты, язык иносказания.
Анализируя «языческие пережитки» в древнерусской культуре, исследовательница дошла до того, что объявила признаком переходной эпохи провозглашение тела человека жилищем Бога [Черная, 2008, 147]. Однако последний христианский концепт напрямую восходит к апостольским Посланиям (1 Кор 6:19). «Материалистичное» изображение души и духов, на котором часто спекулирует Л. А. Черная, тоже свойственно христианам, причем в неменьшей степени, чем язычникам. Представление о «телесности» ангелов опирается в христианской традиции на авторитет некоторых отцов Церкви и участников VII Вселенского Собора (Деяния, 1909, 188). Даже в современном православном богословии, когда от «периода „Тела“», исходя из концепции самой Л. А. Черной, не могло остаться никаких пережитков, вопрос о материальности ангельского естества признается спорным [Сильвестр Стойчев, 2016, 210–211]. Не менее популярно в современном христианстве и массовой культуре представление о человеческой душе как о «тонком двойнике» тела, которое исследовательница относит к явным признакам периода «Тела». Многие явления, выделяемые Л. А. Черной в качестве особенностей языческого мировоззрения, отражают скорее представления о мире современных людей. Это, с их точки зрения, процесс самоосознания человека должен начаться непременно с выделения уникальной телесности из окружающего мира, после чего должна следовать постановка вопроса о человеке как субъекте. Когда мы задаем вопросы о душе и духе представителям альтернативных культурных традиций, ответ может удивить. Во всяком случае, в 1920-е гг. католический миссионер в Новой Каледонии Морис Леенхардт, желая определить «уровень умственного прогресса канаков», спросил у своего ученика Бусоу: «Мы привнесли понятие духа в ваш образ мышления?». В ответ он получил: «Духа? Да что вы! Дух вы нам не привнесли. Мы и так знали, что он существует. Мы всегда действовали в соответствии с духом. Вы привнесли нам идею тела» (цит. по: [Гребер, 2015, 249]). Д. Гребер, комментируя эту ситуацию, отмечал, что существование души было очевидным для Бусоу, а вот представления о теле как наборе «нервов и тканей» или христианские воззрения на тело как на темницу души казались аборигенному населению экзотичными. Этот пример исследователь использовал для обоснования своего тезиса о материалистичности идеологий, возникших в «Осевое время»5.
Как бы исследователи ни представляли эволюцию воззрений на дух и плоть, на практике можно встретить много альтернативных решений этой проблемы. Например, с точки зрения некоторых обитателей Амазонии (идеология перспективиз-ма), человеком видит себя каждое живое существо, и наше видение себя как людей не совпадает с тем, как нас видит, например, ягуар (для которого люди — тапиры или белобородые пекари) [Castro, 2015, 251]. С подобных позиций пекари — вполне себе человек [Castro, 2015, 28–34]. Древнерусские язычники, конечно, вряд ли были перспективистами, но и черноистами они быть не могли. Так как языческая культура в нашей стране не дозрела до потребности в философии, отраженной в письменных текстах, собственно, надеяться восстановить способы решения философских проблем древнерусскими политеистами было бы крайне наивно. Какие тут могут быть источники? Разве что семантика русских слов могла бы дать нам небольшой и ненадежный материал для подобных реконструкций. Но, говоря так много о «душе» и «теле», Л. А. Черная не обращается к семантике этих слов. Даже при описании восприятия данных категорий в русском фольклоре исследовательница скорее навязывает источникам свои представления, нежели пытается извлечь из них аутентичные сведения.
Период «Тела», по мысли Л. А. Черной, не довольствовался сохранением своего влияния на протяжении плавного перехода к следующей формации. Он не до конца в нашей стране раскрыл свой потенциал и поэтому продолжил существовать в виде народной культуры Средних веков и Нового времени [Черная, 2008, 128]. Интересно, способна ли исследовательница привести пример, когда культура «Тела» реализовала себя и исчезла вместе с распространением христианства или ислама?
Понимание эволюционизма Л. А. Черной будет неполным, если не учесть того факта, что она исповедует примитивную форму идеализма. По мнению исследовательницы, «древнерусская культура формировала не только человека с его мировосприятием, но и соответствующее его представлениям государство, социальный порядок, уровень развития экономики, торговли и т.д. и т.п.»6 [Черная, 2008, 61]. Обоснование первичности духовной сферы у Л. А. Черной абсурдно: «и при низком социально-экономическом уровне развития народы обладают мощной и богатой культурой и, соответственно, наоборот — при сильной материальной базе культура оказывается бедной и слабой» [Черная, 2008, 61]. Замечу, что эта фраза каким-то образом должна подтверждать детерминированность материальной культуры духовной, а не отрицать всякий детерминизм.
Я не случайно посвятил так много времени разбору работы Л. А. Черной, вышедшей много лет назад. Именно в этой работе детально раскрывается мировоззрение автора, без которого не понять ее последней книги о язычестве. Хотя новая монография воспроизводит некоторые старые положения почти дословно, она является самостоятельным произведением. В ней уже не встретить концептуальных схем псевдофилософского характера, которые ярко отличали «Антропологический код». Обосновывая свое предположение о взгляде древнерусских людей на душу как на телесное существо, исследовательница уже ссылается на устаревшую работу психолога В. Вунда, согласно которой первоначально душа представлялась неотделимой от человеческого тела, а затем она стала мыслиться как физический двойник человека (С. 63).
Но в целом Л. А. Черная в «Повседневной жизни языческой Руси» не излагает своих философских и методологических предпосылок. Многочисленные заявления о языческих воззрениях на телесность сделаны без всякой отсылки к первоисточнику. Читатель не имеет никакой возможности оценить, насколько можно доверять подобной информации. Это общепризнанные факты, данные, полученные из уст информаторов, или все-таки вольные реконструкции? Доходит до того, что существ, которые не без оснований называют в отечественной фольклористике «двоедушни-ками»7, Л. А. Черная именует «двутелесниками» (С. 65). Такое определение раскрывается в «Антропологическом коде» [Черная, 2008, 76–77], но в «Повседневной жизни» эта сугубо исследовательская конструкция употребляется без всяких разъяснений. «Я» в сочинении появляется в неуместных контекстах. Например, объясняя наличие в летописном перечне богов пантеона, составленного князем Владимиром в 980 г., двух солнечных божеств, автор пишет: «На мой взгляд, слова „Хорс“ и „Даждьбог“ могли быть просто синонимами» (С. 40). Но о тождестве Хорса и Даждьбога давно пишут исследователи [Васильев, 1998, 27], о чем Л. А. Черная умалчивает. Описывая точку зрения В. Л. Янина, согласно которой в вечевых собраниях принимала участие только знать, Л. А. Черная вступает с ней в диспут (С. 78–79). Но коли был упомянут В. Л. Янин, не следовало ли упомянуть тех, кто имел противоположную точку зрения задолго до труда Л. А. Черной?
Авторство исследовательницы гораздо больше оснований искать в маскируемом под фактический материал описании мировоззрения «язычников». При этом сам последний термин в работе не имеет никакого строгого определения. Он может возникать как при описании людей, живших до крещения Руси (С. 6), так и при передаче особенностей позднего крестьянского быта (С. 109–110). Но стоит ли этому удивляться, если язычество для Л. А. Черной — это прежде всего русский национальный вариант ее собственного концепта «период „Тела“»? Данным обстоятельством и объясняются многие странности рецензируемой работы. Некоторые явления в поздней русской культуре исследовательница объявляет древними только на том основании, что они подходят под ее представление о том, что язычник будто бы все вокруг измерял телесными категориями. При этом Л. А. Черную не волнует ни тот факт, что некоторые такие мировоззренческие установки тесно связаны с официальной христианской обрядностью, а иные не могли возникнуть до появления поздних элементов быта. Часто исследовательница напрямую додумывает за представителей чужой культуры.
Например, маловероятным выглядит утверждение Л. А. Черной, согласно которому малейшее повреждение человеческого тела вело его носителя, в представлениях язычников, к полной потере своей прежней личности (С. 58). Изменение в социальном статусе язычницы, вышедшей замуж, исследовательница также сводит к трансформации тела — дефлорации (С. 201). Однако мы не знаем, ценилась ли так сильно девственность до христианизации. Ведь даже после крещения народный бытоставлял мало места для длительного хранения девства [Пушкарева, 1996, 48–50; Гура, 2011, 23]. Имеющую явно христианское происхождение традицию хоронить покойника днем Л. А. Черная искусственно подгоняет под другие запреты ночных действий, объясняя такое поведение боязнью «столкнуться с „тем“ светом» (С. 27). Проблема в том, что мы имеем свидетельства по крайней мере двух независимых источников, согласно которым русы хоронили своих сородичей вечером-ночью. Вечерние похороны знатного Руса описаны Ибн Фадланом (Ковалевский, 1956, 144–145). Ночью, согласно сообщению Льва Диакона, совершали обряд похорон воины Святослава во время их болгарской кампании (Лев Диакон, 1988, 78). Конечно, «русы» Ибн Фадлана — это северные германцы, а войско Святослава вынуждено было хоронить своих умерших в условиях военного конфликта. Тем не менее христианские правила похорон никак не могли восходить к славянскому языческому мировоззрению.
Описывая жилища древних славян, Л. А. Черная скупо пишет: «По свидетельству археологов, восточные славяне в языческий период строили в лесной зоне наземные срубные избы с каменными печами, а в лесостепной зоне — полуземлянки с глиняными печами» (С. 103). При этом автор забывает упомянуть, что эти печи не были печами в современном смысле слова. Читатель серии «Повседневная жизнь» может и не знать, что у древнерусских печей не было труб8. Эта недомолвка приобретает особый смысл в связи с тем, что строками ниже Л. А. Черная реконструирует мировоззрение язычников (С. 106, 108, 109–110), в котором-де особую роль играет печная труба. К русской печи исследовательница явно неравнодушна. Она встречается в иллюстрациях книги и даже на обратной стороне обложки. Такой вот важный артефакт «языческой» эпохи.
Превратное понимание Л. А. Черной «славянского язычества» ведет к поиску артефактов древнего славянского мировоззрения не только в поздних формах народного быта и положениях христианской догматики, но даже в античных философских концепциях. Так, состав богов в пантеоне Владимира, описанный под 980 г., исследовательница объясняет исходя из концепции четырех стихий (С. 40). Впрочем, Си-маргл никак не подгоняется под эту теорию, что заставляет Л. А. Черную говорить, что он «попал в пантеон каким-то невообразимым путем» (С. 41). По правде говоря, можно реконструировать более удачное объяснение состава Владимирского пантеона, где и Симаргл найдет себе место9. Например, В. Я. Петрухин предположил, что это божество, названное предпоследним, связывало небесных богов с богиней земли Мокошью10 [Петрухин, 2019, 327]. В любом случае концепция четырех стихий — плод греческой философии. В «Антропологическом коде» Л. А. Черная еще признавала иностранное происхождение концепции, «но многое», по ее никак не обоснованному мнению, «шло исключительно от праславянских корневых языческих взглядов» [Черная, 2008, 87]. В «Повседневной жизни» концепция уже без всяких объяснений рассматривается как часть языческого мировоззрения славян.
Исследовательница обладает странной для профессионального историка способностью кардинально искажать историческую информацию. При этом «правке» подвергаются как данные исторических источников, так и сведения историков и филологов. Например, известную вставку из «Хроники Малалы» в Ипатьевской летописи, в которой названия греческих богов заменены славянскими, Л. А. Черная назвала вставкой «в славянский перевод греческой „Хроники Иоанна Малалы“ под 1144 годом» (С. 43). Неужели Малала (V–VI вв.) был «футуристом»? Легенду о совместном сотворении человека дьяволом и Богом, содержащуюся в «Повести временных лет», исследовательница считает указанием на то, «что человек был создан волхвами» (С. 59). Сообщение летописца под 996 г. о том, как после неудачной реформы права князь Владимир по совету высшего христианского духовенства вернулся к «оустроенью отьню и дѣдню» (ПСРЛ. Т. 1, 127), Л. А. Черная тоже прочитала весьма своеобразно. Оказывается, «еще до Крещения Руси» князь Владимир провозгласил принцип: «жить „по устроенью отню и дедню…“» (С. 116). Таких случаев, когда источникам приписывается то, чего в них нет, в рецензируемой работе немало. Кроме того, отношение автора к письменным источникам поражает своей наивностью. Даже появление греческих богов в славянских церковных поучениях Л. А. Черная принимает за свидетельство того, что славянские язычники знали греческих богов и иногда поклонялись им (С. 46–47).
Не лучше у исследовательницы и с фольклорным материалом. Например, Л. А. Черная не видит разницы между «навьями» как нечистыми, злыми покойниками, и «навьями» — благополучными предками, в честь которых устраивался культ (С. 48)11. Иногда, ссылаясь на фольклорные данные, исследовательница и вовсе пишет нелепицу. Как, например, стоит понимать эту фразу: «некоторые славянские народы трактовали грибной дождь (слепой дождь. — Д. П.) иначе: как маловероятное или вовсе не бываемое явление: „черт бьет свою жену“, „ведьма сбивает масло“, „волк женит-ся“…» (С. 154)? Л. А. Черная не оставляет ссылки на первоисточник, и читателю остается гадать, в каком контексте слепой дождь приравнивался к черту, бьющему жену, сбивающей масло ведьме и волку-жениху. И почему ведьма не может сбивать масло? Впрочем, первоисточник отыскать не так сложно. Цитаты явно восходят к полевым материалам Л. Н. Виноградовой. А «некоторые славянские народы» — это обитатели Полесья. Интересно, что в одной из своих работ Л. Н. Виноградова действительно пишет о представлении, согласно которому слепой дождь воспринимают как аномалию. Но при этом такой дождь сближается с категориями этнически-чуждого: его называют: «цыганьский дошч, жыдоўски дощ» [Виноградова, 2016, 375]. То же, что цитировала Л. А. Черная, — более редкие трактовки, которые Л. Н. Виноградова связывает с мифологическим объяснением явления [Виноградова, 2016, 375]. Интересно, что волк у Л. Н. Виноградовой не женится, а его трясет лихорадка, ведьма же во время слепого дождя может не только сбивать масло, но и отбирать молоко12 [Виноградова, 2015, 24–25].
В настоящей работе перечислена лишь часть ошибок, обнаруженных в книге Л. А. Черной. Серьезные ошибки совершают и именитые ученые. Но когда эти ошибки постоянны, когда первоисточники искажаются регулярно, возникает вопрос о компетентности исследователя. Любая реконструкция славянского язычества в настоящий момент сильно гипотетична. При этом строгие методы не гарантируют достоверность результата. И в то же время, какой бы условно-научной ни была эта область, мы не можем превратить ее в чистые фантазии. Чтобы сохранить хоть какую-то достоверность в своем изложении, исследователю мало отказаться от очевидных фальсификаций вроде «Велесовой книги» и «Славянских вед». Информация реальных источников тоже должна быть защищена от фальсификации, очевидного искажения и перевирания.
Л. А. Черная понимает гипотетичность построений о славянском язычестве. Но рассуждения об условности языческих реконструкций, которые существуют в работе, скорее вводят читателя в заблуждение, придают работе вид той научности, которой в книге нет. В заключении автор пишет, что не претендовал «на восстановление до мелочей подлинной картины повседневной жизни язычников Древней Руси, потому что это невозможно из-за отсутствия исторических источников» (С. 241). Задача Л. А. Черной была, по ее словам, «в научно обоснованном воссоздании общих и характерных черт этой картины». Для чего исследовательница «попыталась разобраться, как они воспринимали окружающий мир и как на него реагировали, каким был их менталитет, какую систему ценностей они для себя выстроили, что было для них главным, а что менее значимым». Но ведь восстановить детали подлинной жизни русских язычников гораздо проще, чем их общую картину мира. Была ли у них вообще эта общая картина — сам по себе спорный вопрос. Строгой догматики в дописьменном коллективе не могло существовать, в каждом сообществе верования должны были иметь свои особенности.
Мы достоверно знаем, что славянские язычники насыпали курганы определенным образом, делали идолы определенной формы, питались определенной пищей. Мифологи пытаются реконструировать конкретные представления о богах, духах, героях. Но как найти аутентичные ответы древнерусских язычников на интересующие нас философские вопросы, когда мы даже не знаем, интересовали ли их те же самые вопросы вообще? Что касается целостной обобщенной мировоззренческой картины людей прошлого, то она всегда — плод творчества ученого. Как справедливо писал С. А. Митчелл, случайность дошедшей до нас информации сама по себе способна создавать своеобразные зарисовки. Исследователь задается вопросом: если в распоряжение ученых будущего попадут отрывочные, разрозненные сведения о современном христианстве13, не будут ли они испытывать соблазн навязать этим разнообразным и эклектичным материалам надуманную интерпретацию, которая, казалось бы, согласуется с данными и имеет смысл, но покажется абсурдной любому современному непосредственному наблюдателю? [Mitchell, 2011, 16].
Именно роль историка в воссоздании корректной картины прошлого совершенно не осознается Л. А. Черной. В заключении работы исследовательница даже находит общую для славянских язычников парадигму — они-де «не трепетали и не прятались» от обожествляемых ими природных стихий, «а вырабатывали приемы выживания радом с божествами всех рангов». Не слепое поклонение и страх будто бы руководили ими, а некий «кодекс „мирного сосуществования“ на равных» (С. 242). О доминировании принципа равенства в отношениях язычников, который будто бы опирался на представления о всеобщей телесности, Л. А. Черная писала еще в «Антропологическом коде»14. Но не свойства ли поздней народной культуры дают иллюзию отсутствия поклонения и трепета перед могущественными богами? Ведь их роли частично были переняты Богом христианским и святыми, которые уже не ассоциировались с природной стихией. Могли ли быть равными отношения с богами, которым, по мнению самой же Л. А. Черной (С. 47), приносились человеческие жертвоприношения? Религиозные системы, в которых существует то или иное поклонение богам и культ предков, вообще сложно считать неиерархичными. Земледельческий же коллектив восточных славян должен был познакомиться с «неравноправным» взаимодействием с разными существами окружающего мира уже в силу собственнических отношений к доместицированным растениям и животным.
Реконструкция «философии» «Другого» — безусловно, перспективная и интересная задача для исследований. Но отправной точкой для таких исследований должно стать осознание, что мы ищем то, чего еще не знаем: как люди классифицировали и осмысляли мир. Л. А. Черная же сама придумала свои базовые категории, сама их свела в систему, сама же и навязала их изучаемому материалу. Но если «Антропологический код» при всем своем философском дилетантизме отражал так или иначе способы мышления и творчества его автора, то назначение «Повседневной жизни» непонятно. К кому обращена эта работа? Профессионал не найдет в ней ничего, кроме многочисленных ошибок. Массовый читатель15 далеко не все поймет в этой книге, а «цельная картина», сложившаяся после ее прочтения, едва ли будет способствовать формированию адекватных представлений о древнерусском язычестве. И мне приходилось видеть комментарии недовольных читателей, которые жалуются, что книга слишком научна и потому плохо читается. Но книга плохо читается не оттого, что она научна, просто язык произведения оставляет желать лучшего. Куски текста не всегда связаны между собой, логику автора понять зачастую бывает очень сложно. Иногда, чтобы докопаться до смысла, надлежит прибегнуть к дешифровке с использованием источников работы и предыдущих сочинений автора.
Впрочем, антропологический код самой Л. А. Черной позволяет воспринимать эту книгу как весьма едкую иронию. Напомню, что исследовательница называет двоедушников двутелесниками. В «Повседневной жизни», правда, это наименование приобрело поистине космический масштаб. Недаром, видимо, и исчезла ссылка на фольклорный источник философских интенций Л. А. Черной. Двумя телами (С. 73), по мысли исследовательницы, обладают и «представители нечистой силы, того света». Удвоение тел, по мнению Л. А. Черной, — вообще недобрый знак. Так она объясняет страх перед рождением близнецов, негативное отношение к числу «2», представления о ритуальной нечистоте беременной16. Парадокс состоит в том, что больше всего под наименование «двутелесник» подходит последняя книга самого автора. В противоположность двоедушникам, у которых одно тело и две сущности, — у труда Л. А. Черной идентичная «душа» умещается в двух разных «телесных» оболочках. Может ли, исходя из реконструкций самой исследовательницы, такое сочетание не нести опасных, разрушительных, злых потенций? Если бы мы всерьез могли допустить столь тонкую игру символами, то труд Л. А. Черной был бы гениальной шуткой над очень многими негативными явлениями. Над недобросовестными издательствами, которые без предупреждений дважды издают одно и то же. Над без- основательными и шаткими фантазиями, которыми, так или иначе, заражены все исследования славянского язычества. Над философской антропологией и историей философии, которые никогда не стеснялись грубо навязывать современные методы мышления далеким эпохам. Наконец, над непрофессионализмом некоторых остепененных историков и ужасным научпопом. Короче говоря, почти над всеми язвами и изъянами отечественной науки и околонауки.
Список литературы Книга-двутелесник и вездесущее язычество
- Деяния (1909) — Деяния Вселенских Соборов, изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. Т. 7: Собор Никейский 2-й, Вселенский Седьмой. Казань: Центральная типография, 1909. 332, V с.
- Ковалевский (1956) — Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков: Изд-во Харьковского гос. ун-та имени А. М. Горького, 1956. 350 с.
- Лев Диакон (1988) — Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко. М.: Наука, 1988. 237 с.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М.: Языки славянской культуры, 1997. 496 с.
- Агапкина (1999) — Агапкина Т. А. О тодорцах, русалках и прочих навях (мертвецы-демоны и «нечистые покойники» в весеннем календаре славянских народов) // Studia туШо^ка Slavica. 1999. № 2. С. 145-160.
- Васильев (1998) — Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М.: Индрик, 1998. 328 с.
- Виноградова (2016) — Виноградова Л.Н. Дождь при солнце (мифологические толкования природного явления) // Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX века. Т. 3: Мифологизация природных явлений и человеческих состояний / Сост. Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. М.: Языки славянской культуры, 2016. С. 375-394.
- Виноградова (2015) — Виноградова Л. Н. Почему дождь при солнце называется «слепой дождь»? // Живая старина. 2015. № 4 (88). С. 23-27.
- Гребер (2015) — Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 528 с.
- Гура (2011) — Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М.: Индрик, 2011. 936 с.
- Жирар (2016) — Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М.: Изд-во ББИ, 2016. хгу, 518 с.
- Кнорозов (2018) — Кнорозов Ю. В. Избранные труды. СПб.: МАЭ РАН, 2018. 594 с.
- Кон (2018) — Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 344 с.
- Левкиевская, Плотникова (1999) — Левкиевская Е.Е., Плотникова А.А. Двоедушни-ки // Славянские древности / Под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2: Д — Крошки. С. 29-31.
- Петрухин (2019) — Петрухин В.Я. Русь христианская и языческая: Историко-археологические очерки. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2019. 608 с.
- Пушкарева (1996) — Пушкарева Н.Л. Сексуальная этика в частной жизни древних русов и московитов (X-XVII вв.) // Секс и эротика в русской традиционной культуре / Сост. А. Л. Топорков. М.: Ладомир, 1996. С. 44-91.
- Раппопорт (1975) — Раппопорт П.А. Древнерусское жилище. Л.: Наука, 1975. 179 с.
- Сильвестр Стойчев (2016) — Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие: учебное пособие для 2-го класса духовной семинарии. Киев: Изд. отдел Украинской Православной Церкви, 2016. 240 с.
- Уайт (2004а) — Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. 960 с.
- Уайт (2004б) — Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М.: РОССПЭН, 2004. 1064 с.
- Черная (2008) — Черная Л.А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славянских культур, 2008. 464 с.
- Castro (2015) — CastroE.V. de. The Relative Native. Essays on Indigenous Conceptual Worlds. Chicago: Hau Books, 2015. 360 p.
- Deacon (1997) — Deacon T.W. The Symbolic Species. The Co-Evolution of Language and the Brain. New York; London: W. W. Norton & Company, 1997. 530 p.
- Mitchell (2011) — Mitchell S.A. Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages. Philadelphia; Oxford: University of Pennsylvania Press, 2011. xiii, 368p.
- Whiten et al. (1999) — Whiten A., Goodall J., McGrew W.C., Nishida T, Reynoldsk V, Sugiyama Y., Tutin C.E.G., Wrangham R..W., Boesch C. Cultures in chimpanzees // Nature. 1999. Vol. 399. P. 682-685. DOI: 10.1038/21415.