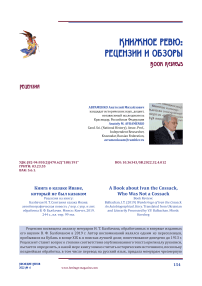Книга о казаке Иване, который не был казаком. Рецензия на книгу: Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиографическая повесть / Пер. с укр. и лит. Обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019. 244 с., ил. 99 экз.)
Автор: Авраменко Анатолий Михайлович
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Книжное ревю: рецензии и обзоры
Статья в выпуске: 4 (32), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рецензия посвящена анализу мемуаров И. Т. Балбачана, обработанных и впервые изданных его внуком В. Ф. Балбачаном в 2019 г. Автор воспоминаний являлся одним из переселенцев, прибывших на Кубань в конце XIX в. в поисках лучшей доли; повествование доведено до 1913 г. Рецензент ставит вопрос о степени соответствия опубликованного текста оригиналу рукописи, пытается определить, в какой мере книгу можно считать историческим источником, поскольку позднейшая обработка, в том числе перевод на русский язык, придала мемуарам чрезмерную художественность, возможно, подразумевающую и элементы вымысла. Характеризуется география описанных в книге событий, охватывающая Кубанскую и Терскую области, Казахстан, Приморье и Санкт-Петербург. Дается оценка стилю мемуариста, выделяются особенности его мировоззрения. Указано на наличие в книге этнографического материала, относящегося к обычаям различных народов, проживавших на Северо-Западном Кавказе и в Казахстане. Производится подробный критический анализ ошибок и неточностей, допущенных мемуаристом.
И. т. балбачан, кубань, кубанская область, терская область, казахстан, мемуары, источниковедение, анализ содержания источника
Короткий адрес: https://sciup.org/170197333
IDR: 170197333 | УДК: [82-94:930.2](470.62)”188/191” | DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.012
Текст научной статьи Книга о казаке Иване, который не был казаком. Рецензия на книгу: Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиографическая повесть / Пер. с укр. и лит. Обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019. 244 с., ил. 99 экз.)
Трудно в огромном книжном мире заметить публикацию по истории Кубани, изданную ничтожно малым тиражом в далеком Минске. Но такая книга есть, и она представляет интерес для тех, кто стремится больше узнать о жизни в Кубанской области в конце XIX — начале XX вв. К тому же здесь встречаются интересные эпизоды, характеризующие и другие части Российской империи: Бессарабию, Терскую и Акмолинскую области, Приморье (Дальний Восток) и даже Петербург, где автор проходил солдатскую службу. Текст был написан более ста лет назад, но опубликован только недавно внуком мемуариста — Владимиром Филипповичем Балбачаном.
Книга написана интересно, читается на одном дыхании, литературных погрешностей практически нет. Стиль автора оценить сложно, потому что текст подвергался обработке перед публикацией. В предисловии сказано, что данная книга — «особый художественный документ, в основу которого положены воспоминания» [2, с. 3]. Именно поэтому возникает вопрос: мемуары ли это, имеющие ценность как исторический источник, или все-таки художественное произведение, созданное на основе мемуаров? Сам В. Ф. Бал-бачан пишет, что издал книгу воспоминаний своего деда, подвергнув ее литературной обработке [2, с. 4]. Нам неизвестно, насколько точно текст соответствует оригиналу, нет ли искажений фактов и первоначального смысла, то есть, в какой мере книгу можно считать историческим источником (если это мемуары) или следует относиться к ней только как к литературному произведению, публикатор которого внес в текст свои изменения, не оговаривая их. Для внесения ясности не обходима будет работа с оригиналом рукописи, написанной на украинском языке, в частности, для сопоставления названия оригинала и современной публикации, в которой рассказчик Иван назван казаком, хотя таковым не являлся.
Уже в начале книги содержатся описания, которые не могли отложиться в памяти младенца и, несомненно, являются художественным вымыслом. Подобные лирические отступления и диалоги иногда занимают целые страницы (например [2, с. 76, 214–215] и др.), они не могут считаться полноценным историческим свидетельством, хотя эмоционально вполне достоверны.
Главное достоинство книги — подробное описание трудностей жизни семьи иногородних бедняков, пытавшихся выжить в Кубанской и Терской областях, в казахской степи и даже на Дальнем Востоке. Многие страницы существенно дополняют то, что известно из иных подобных источников. Семейство мемуариста часто переселялось на новые места, арендуя землю и нанимаясь на работу. Повествуется о ряде населенных пунктов (станиц, хуторов, аулов) Закубанья и степной Чер-номории, немного говорится о Новороссийске и Екатеринодаре. Представляют интерес трудности адаптации кубанца к незнакомым природным условиям Казахстана и Приморья. Насыщено подробностями повествование об особенностях четырехлетней службы автора в гвардейском полку в Петербурге. Уже поэтому книга будет интересна читателям, особенно кубанским.
Большую ценность представляют характеристики некоторых личностей, с которыми приходилось встречаться автору книги. Среди них — командир лейб-гвардии Резервного пехотного полка генерал-майор В. М. Кашерининов [2, с. 173], штабс-капитан В.К. Шенк (1869-1947), командовавший ротой в том же полку [2, с. 163-164], а в дальнейшем принимавший участие в составлении ряда ценных справочников по военной истории ([3] [4] [5] [8] и др.), которыми до сих пор пользуются историки. Весьма колоритно, со всеми странностями и причудами, описан землевладелец Николай Фёдорович Коссович [2, с. 128–138], считавший себя вправе издеваться над своими работниками и арендаторами. Он владел хутором в 20 верстах от станицы Ильской. На карте Кубанского округа 1926 г. «хутор Косович» показан восточнее села Фёдоровского, на пути к станице Марьянской. Очень впечатляюще даны психологические портреты богачей, стремившихся отнять последнее у людей, испытывавших крайнюю нужду.
Отдельные страницы содержат наблюдения, имеющие ценность для этнологов,—когда речь идет о некоторых обычаях, особенностях поведения населявших описываемые земли народностей, отношении к людям иной национальности у молдаван, адыгейцев (особенно [2, с. 89–98]), кабардинцев, армян, чеченцев, казахов, греков. О взаимоотношениях с кубанскими казаками говорится немного, но автор явно показывает, что они находятся в гораздо лучшихусловиях—у них есть своя земля, на их стороне местная администрация. Омерзительное ощущение возникает при описании явного произвола, когда у несовершеннолетнего подростка казачий патруль потребовал документ, которого задержанный явно иметь не мог, при этом казаки вымогали деньги на выпивку, обещая отпустить. Но денег не было, и подростка держали среди арестованных, в условиях антисанитарии, не давая никакой еды и нормального ночлега, перегоняя из одного населенного пункта в другой [2, с. 99–103]. Не менее омерзительны события, связанные с мнимой борьбой против эпизоотии, когда под предлогом борьбы с чумой скота ветеринары вымогали деньги у населения, иначе скот безжалостно уничтожался [2, с. 66–67]. Подобные эпизоды известны и в недавней истории в Краснодарском крае и Ростовской области.
Весьма интересно описана военная служба мемуариста в Петербургском гвардейском полку. Ему пришлось лично убедиться, что и здесь нет справедливости. Фельдфебель издевался над солдатами при попустительстве некоторых офицеров, под надуманными предлогами вымогал у них деньги из весьма скудного жалования. Много времени уделялось бессмысленной муштре, цель которой сводилась к превращению солдата в исполняющий любые команды бессловесный механизм, некоторые становились калеками или погибали. Унижение человеческого достоинства происходило даже в гвардии [2, с. 152–157, 164, 166–167]. Но мемуарист сумел приспособиться к трудностям службы и даже обрести полезные навыки, в частности обучился сапожному ремеслу. Также автор книги, четыре года прослуживший в гвардии, ярко показал, как легко солдаты превращаются в агрессивную неуправляемую массу, если возникает обоснованный протест и резко падает дисциплина [2, с. 182-185]. Хотя данный эпизод относится к 1905 г., в нем можно увидеть психологические основы того, что происходило с армией в 1917 г.
Рассуждения автора, описанные в книге, очень интересны. Они показывают как наивность и доверчивость мемуариста и его отца (следствием чего были различные бедствия) [2, с. 209-211, 214-216], так и приобретенный жизненный опыт (не приводивший, однако, к ожидаемому успеху) [2, с. 191-194, 200-212]. Несмотря на неоднократно проявляемые окружающими подлость и жестокость, скитавшиеся бедняки (автор книги и его семья) не ожесточились, не стали преступниками, а сохранили лучшие душевные качества. Не желая терпеть обиды и унижения, они уходили снова и снова в поисках места, где можно своим трудом кормить семью и создать успешное хозяйство. Но все многочисленные перемещения не дали желаемого результата. Удивляет, как быстро под воздействием слухов о возможной удаче в казахских степях и на Дальнем Востоке люди от отчаяния отправлялись в далекие неизведанные края и, конечно, терпели лишения и убытки, обнищавшими возвращались на Кубань.
Ярко описанные подлости, откровенный грабеж, жертвами которого становились бедные арендаторы и работники, объясняют читателю ту накопившуюся у людей ненависть, которая обрушилась на угнетателей в 1917 и последующие годы. Мемуары заканчиваются 1913 годом, но можно не сомневаться в том, что революцию 1917 года семья автора книги восприняла с восторгом — для нее появился шанс радикально изменить свою жизнь. Однако удивляет, что мемуарист, сам испытавший жестокие удары судьбы, прочитав революционную прокламацию в 1905 г., мудро заметил: «Возможно, все это и правильно и когда-то можно было бы сделать. Но будет ли простым людям от этого лучшая жизнь? Ведь люди — есть люди, они очень быстро все забывают, когда оказываются на вершине власти. Становятся точно такими, какими были их предшественники, а то и еще хуже» [2, с. 190–191]. Эти слова оказались пророческими.
Революционные события в книге даже не упоминаются. Но, описывая происходившее в 1900 г., автор указывает, что это было 17 лет назад [2, с. 143], значит, текст датируется 1917 г.
Мемуары И. Т. Балбачана полезно было бы издать для кубанского читателя, но простая перепечатка литературной версии рассматриваемой книги не имеет смысла — требуется предварительное исправление многочисленных погрешностей. Уже в аннотации допущены существенные ошибки: дважды говорится о Екатеринодарской губернии (никогда не существовавшей), трижды — о Северном Кавказе (надо заменить на Терскую область, тем более что к Северному Кавказу относилась и Кубанская область), о ВосточноКазахстанской области, которая не имеет отношения к тексту, так как речь идет об Акмолинской области [2, с. 105], а это не Восточный Казахстан. Надо убрать указание на Дальний Восток, так как упоминается лишь Приморье, либо написать: «в Приморье (на Дальнем Востоке)». В перечне административных единиц пропущена Черноморская губерния (Новороссийск), ныне относящаяся к Краснодарскому краю.
В предисловии, написанном В. Ф. Бал-бачаном, также есть существенные ошибки. Уже первая фраза вызывает возражения («Конец XIX — начало XX века в России — сложнейший период в жизни русского крестьянства и казачества») — в истории страны были намного более сложные и даже страшные периоды, а в указанное время, несмотря на известные трагические эпизоды, в целом происходило динамичное развитие, быстро росло население, осваивались новые территории, повсеместно строились предприятия, железные дороги, распахивались земли, уровень общего благосостояния населения понемногу возрастал, хотя были отдельные голодные годы и бедствующие группы людей. Даже в XX в. можно назвать несколько гораздо более сложных периодов — коллективизацию, массовую смертность от голода в 1921, 1932–1933 гг., бедствия Гражданской войны и т. д. Но внук мемуариста пишет о скитаниях и трудностях жизни своего деда в 1880–1913 гг. Последний год был лучшим по экономическим показателям за весь период императорской России.
При этом автор предисловия уравнивает жизнь «казака-землепашца Ивана» и «сотен тысяч таких же безземельных крестьян» [2, с. 3], очевидно, не понимая огромную разницу между казаками, которым тогда был гарантирован земельный надел, и безземельными крестьянами, к которым казаки демонстративно относились с презрением (примеры этого есть и в данной книге). Абсолютно неверно, что у казака, возвращавшегося домой после четырехлетней службы, «не было особых прав в получении хотя бы небольшого участка собственной земли в своем родимом краю» [2, с. 3]. Казаку был гарантирован пай из станичной юртовой земли, хотя некоторые из-за своей бедности сдавали в аренду этот пай и нанимались на работу. Но к автору мемуаров это не имеет отношения — он был не казаком, а «иногородним», родившимся и выросшим в Кубанской области. Но внук о своем деде-мемуаристе пишет: «наблюдательный глаз казака…» [2, с. 3].
Из текста видно, что отец автора (наполовину молдаванин) прибыл на Кубань из Бессарабии [2, с. 30], но в семье разговор- ным языком был украинский [2, с. 50]. Мать мемуариста была украинкой из Херсонской губернии [2, с. 18, 50, 88]. Интересно, что дед его «по речи был настоящий харьковский хохол» [2, с. 30], но молился по-молдавски, выучив текст в Бессарабии и не зная перевода [2, с. 27, 30]. На Кубани семья мемуариста оказалась случайно — под воздействием слухов о прекрасных условиях жизни для всех переселенцев [2, с. 85-87]. Из Бессарабии они морем прибыли в Новороссийск, где были зарегистрированы как мещане [2, с. 138], но в дальнейшем вели привычный крестьянский образ жизни, скитаясь по Кубанской области. Несмотря на то, что автор книги родился на Кубани, он плохо представлял себе ее региональные особенности, о чем, например, свидетельствует фраза: «расклеены бумажки, которые присылались в волость из губернии» [2, с. 80], хотя подразумеваемая территориальная единица не являлась губернией.
Ошибки в географических названиях встречаются по всему тексту книги, и они должны были быть исправлены в подстрочных примечаниях. Мемуарист писал эти названия по памяти, а публикатор не проверил. Употребляя термин «Черноморье» [2, с. 5], автор текста явно имел в виду Черноморию — территорию бывшего Черноморского казачьего войска, что следовало указать, так как несведущий читатель может подумать о Черноморском побережье Кавказа либо о Черноморской губернии, которая не имела никакого отношения к жизни мемуариста.
В примечаниях необходимо было отметить, что Стебликовская (Стебливка, Стебли-евская) станица [2, с. 5, 88] — на самом деле Старонижестеблиевская, а также дать правильные варианты в прочих подобных случаях. Станицы: Джерелевская [2, с. 66] — Но-воджерелиевская; Калуженская [2, с. 104, 197, 218] или Калужеская [2, с. 194] — Калужская; Ново-Мышастинская [2, с. 79] — Новомыша-стовская; Рогиевская [2, с. 67] — Роговская; Сызерская [2, с. 101] — Северская (возможно, в оригинале было неразборчиво написано); Старовелесковская [2, с. 61] — Старовелич-ковская; хутора: Ново-Мышастьевский [2, с. 69] — Новомышастовский; Старовеликов- ский [2, с. 69] — Старовеличковский; Ушед [2, с. 19, 20, 57] — Аушед (он же — хутор Попова); города: Устьмань [2, с. 108,116] — Усмань; Никольск [2, с. 234] официально назывался Никольск-Уссурийский (ныне — Уссурийск); аулы: Новобжегокаивский [2, с. 99] — Новобже-гокай; Сенжиевский между станицей Пензенской и Екатеринодаром [2, с. 196] — Шенджий; Тохтомукаевский [2, с. 207] — Тахтамукай; «деревушка» Томашинка [2, с. 49, 52, 56, 57] — селение Тхамахинское; реки: Ушед [2, с. 19, 20, 57] — Аушед; Шебша [2, с. 49] — Шебш; Кар-пыль [2, с. 63,88] — Кирпили; Хабля [2, с. 71] — Хабль; гора Бештава [2, с. 122] — Бештау.
Монахи «Дрантовского монастыря» [2, с. 133], которых приглашал землевладелец Н. Ф. Коссович, на самом деле относились к Драндскому монастырю в честь Успения Божией Матери. Этот православный монастырь Сухумской епархии в селе Дранды (современное название — Дранда) находился в Абхазии. Для пропитания братии монастырь имел в своем распоряжении несколько подворий на территории Кубанской области, в том числе на хуторе Тарабанова (ныне хутор Новоивановский) Екатеринодарского отдела (пожертвованное в 1903 г. владельцем хутора мещанином Захарием Евфимовичем Тарабановым). Но описываемые в книге события на хуторе Коссовича происходили до 1900 г., то есть монахи приходили в эти места еще до появления подворья. Надо также пояснить в примечаниях, что упоминаемый женский монастырь [2, с. 62] — это Марие - Магдалинская женская пустынь близ станицы Роговской, а Лебяжий монастырь [2, с. 65] — Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская пустынь — самый старый казачий монастырь на Кубани.
Упоминаемая автором станица Дмитриевская [2, с. 213, 219, 221] на самом деле именовалась Ново-Дмитриевская (Дмитриевская находится на северо-востоке края). Казачья станица Синдиктав [2, с. 112], оказавшаяся больше города Кустаная и находившаяся южнее его, в действительности называлась Сан-дыктавская и входила в состав территории Сибирского казачьего войска [1, л. 34, 37]. Упомянутое в связи с историей семьи «местечко Тамань» [2, с. 85], по-видимому, не имеет отношения к кубанской Тамани, так как речь идет о бегстве из Херсонской губернии в Бессарабию. Наиболее вероятно, что в памяти деда автора отложилось название Тавань (Та-ванск) в Низовьях Днепра. Сомнительно, что правильно он вспомнил село и речку Сыпсын [2, с. 88] — кроме р. Супс предположить что-то похожее сложно, но там нет одноименного села. Пан Бурмос [2, с. 88], хозяин «поместья» у р. Кирпили в юрте станицы Тимошевской, скорее всего — Бурнос. Но самый неожиданный курьез — станица «Юртыхолмская» [2, с. 71], что должно означать — «в юрте станицы Холмской».
В книге упоминаются имеющие отношение к происхождению семьи автора село Балбоки [2, с. 85] (по-видимому, известное также под названием Котловина гагаузское село в южной части современной Одесской области, находящееся к северо-западу от Измаила, на берегу озера Ялпуг) и село Феште-лицы [2, с. 85] в Бессарабии — ныне село Феш-телица в Штефан-Водском районе Республики Молдова.
Некоторые мелкие населенные пункты не удалось идентифицировать (вероятно, были названы по фамилиям владельцев): хутор Красноченков [2, с. 59] на р. Аушед, хутор Колин (Колино [2, с. 79, 128]), хутор Чубарёв [2, с. 75, 78] близ станицы Мингрельской (где было всего 6 хат и жители были конокрадами и грабителями), а также хутор Армянский [2, с. 99–103], находившийся на дороге из Екатеринодара в станицу Новодмитриев-скую (в юрте последней), в 7 верстах от аула Новобжегокай.
Из книги мы узнаем, что станицу Мингрельскую местные жители называли также Малогреченской [2, с. 31, 58, 75] и Малогреческой [2, с. 57]. В тексте названо солдатское село Якоревское [2, с. 48], не упоминающееся в справочнике, составленном краснодарскими архивистами [7]. Мемуарист сообщает, что семья от станицы Северской проехала в Смоленскую, затем в это солдатское село, после чего, свернув к горам, попала в небольшую станицу Ставропольскую [2, с. 48]. Судя по карте Н. С. Иваненко 1902 года [6], это могла быть только Григорьевская слобода (ныне стани- ца Григорьевская). Следовательно, в тексте зафиксировано местное, а не официальное наименование населенного пункта, что является ценным свидетельством. Не менее важно для историков сообщение о том, что село Притычка, находившееся чуть севернее города Атбасара, было основано крестьянами-переселенцами из Полтавской губернии [2, с. 112].
Интересно, что в 1889 г. известная кубанцам Шабановка (ныне — село в Северском районе) была молдавской деревней [2, с. 47– 56]. Ее описание, содержащее колоритные подробности, несомненно, представляет этнографический интерес. То же можно сказать об эпизодах, где автор рассказывает о бытовых особенностях, формах проведения досуга (например, игра в «свинку», [2, с. 23]). Весьма впечатляюще повествуется об эпидемии холеры в 1893 г. на Кубани [2, с. 80-81], о нашествии саранчи.
Изредка встречаются слова, которые надо прокомментировать в примечаниях, например, слово «чёботы» [2, с. 69] следует писать как «чоботы» (сапоги). Явной опиской является слово «острог» во фразе: «Лучше всех зданий в городе [Екатеринодаре] был виден издалека белый острог» [2, с. 106],— несомненно, речь идет о войсковом Александро-Невском соборе. Названные Крутийскими казармы в Москве [2, с. 141, 144] на самом деле именовались Крутицкими.
Скорее всего, искажена фамилия бывшего офицера «помещика Молокорова» [2, с. 130–131], хутор которого непосредственно примыкал к хутору Коссовича. Наиболее вероятно, что это был Могукоров.
Прочитав фразу «на вкус, как кислые щи или квас» [2, с. 119], современный читатель вряд ли поймет, что в то время кислыми щами называли напиток, являвшийся разновидностью хлебного кваса, на основе которого также готовили одноименный суп — кислые щи. Это надо было пояснить в примечании.
Есть упоминание «чёрноклинового хвороста», который рос по всем станицам [2, с. 48]. Возможно, это название будет интересно для исследователей местной флоры.
Три фотографии в конце книги не имеют подписей.
Если представится возможность опубликовать книгу на Кубани, желательно обратиться к оригиналу мемуаров, написанному на украинском языке. Это позволило бы уточнить, что является подлинным текстом, а что художественной переработкой. Название книги следует изменить, так как автор не был казаком (вариант: «Скитания кубанца Ивана»). В книге необходимы примечания.
Anatoly M. AVRAMENKO
Список литературы Книга о казаке Иване, который не был казаком. Рецензия на книгу: Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиографическая повесть / Пер. с укр. и лит. Обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019. 244 с., ил. 99 экз.)
- Атлас Азиатской России. СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, 1914.
- Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиографическая повесть / пер. с укр. и лит. обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019.
- Императорская Гвардия: Справочная книжка Императорской Главной Квартиры: По 1-е мая 1910 года. 2-е изд. / под ред. В. К. Шенка. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1910.
- Инженерные и железнодорожные войска: Справочная книжка Императорской Главной квартиры: По 20 мая 1909 г. / под ред. В. К. Шенка. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Императорская Главная квартира, 1909.
- Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих частей помещены в книге Императорская гвардия: По 1-е апр. 1912 г. / сост. В. Х. Казин; под ред. В. К. Шенка. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1912.
- Карта Кубанской области и близких к ней Черноморской губернии и части Сухумского округа / сост. Н. С. Иваненков (1900-1902). Екатеринодар: [Б. и.], [191?].
- Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793-1985 гг.). Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1986.
- Таблицы форм обмундирования русской армии (24 наглядных таблицы новых форм) / сост. В. К. Шенк. Сост. по 10 мая 1910 г. СПб.: [Б. и.], 1910.