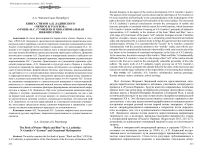Книга стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое»: «уроки» Н.С. Гумилева и окказиональная мифопоэтика
Автор: Чевтаев Аркадий Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается первая книга стихов «Черное и голубое» (1930) А.П. Ладинского, представителя парижской ветви первой волны литературы русского зарубежья, в аспекте творческого освоения гумилевской поэтики. Анализ стихотворений поэта-эмигранта показывает, что наследование Н.С. Гумилеву в его лирике проявляется прежде всего в концептуализации мифологемы пути как основы бытийного самоосуществления лирического субъекта. Движение поэтического сознания А.П. Ладинского к конвергенции земного и небесного начал соотносимо с поисками мировой гармонии, определяющими художественное миропонимание Н.С. Гумилева. Ориентируясь на гумилевские принципы субъектной репрезентации, А.П. Ладинский в структуре книги «Черное и голубое» использует широкий ряд лирических масок поэтического «я» (адмирал, европейский путешественник, флорентийские беглецы, крестоносцы, масоны-каменщики, аргонавты и т.п.), актуализирующих определенные историко-культурные коды и характеризующихся общим стремлением преодолеть разрыв между материальным и духовным аспектами бытия. Делается вывод, что что «уроки» Н.С. Гумилева, связанные одновременно и с акмеистическим вниманием к «посюсторонней» реальности, и с неоромантической жаждой постичь небесно-потусторонней мир, оказываются одним из ключевых факторов формирования окказиональной мифопоэтики в лирике А.П. Ладинского. При этом художественная концепция мира в «Черном и голубом» принципиально отличается от гумилевской, так как в ней на первый план выходит не столько волевое «я» воина-путешественника, сколько онтологически уязвимая личность страдальца-изгнанника. Поэтический миф А.П. Ладинского, во многом вырастающий из гумилевской концепции универсума, постулирует предельную жажду единения микрокосма и макрокосма и трагичное осознание невозможности преодолеть их антиномичность.
А.п. ладинский, н.с. гумилев, мифопоэтика, поэтическая генеалогия, русское зарубежье, творческая преемственность, художественная аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/149139975
IDR: 149139975
Текст научной статьи Книга стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое»: «уроки» Н.С. Гумилева и окказиональная мифопоэтика
Поэт Антонин Петрович Ладинский является представителем литературы первой волны эмиграции и активным участником литературного процесса в «Русском Париже». Будучи известен современным читателям прежде всего как автор ряда исторических романов, философски осмысляющих жизнь в Римской Империи, Византии и Киевской Руси, в своей поэтической ипостаси он все еще остается terra incognita истории русской литературы XX в. Это обстоятельство видится довольно странным и свидетельствует о все еще недостаточной разработанности концептуального построения истории русской поэзии первой волны эмиграции. «Странность» литературоведческого невнимания к творчеству поэта определяется, во-первых, тем, что в художественном становлении и самосознании А.П. Ладинского именно поэзия является первостепенным выражением творческого «я», а во-вторых, предельно высокими оценками его стихов в литературной критике «Русского Парижа» [Коростелев 2013, 224-227], по-разному, но единодушно отмечавшей масштаб и силу его поэтического таланта.
Войдя в эмигрантский литературный процесс в середине 1920-х гг. и оставаясь его активным деятелем до 1950-х гг, А.П. Ладинский на протяжении всего поэтического пути демонстрирует принципиальную творческую самостоятельность. Стихи поэта, регулярно публиковавшиеся в парижских периодических изданиях и выходившие отдельными автор-

скими поэтическими книгами, раскрывают явную оригинальность его художественного мировидения, затрудняющую определение литературной позиции А.П. Ладинского относительно поэтических течений и групп парижской эмиграции. Лирику поэта, связанного личными и творческими отношениями и с «парижской нотой», и с группой «Перекресток», невозможно встроить в систему художественных ориентиров ни того, ни другого течения, хотя их представители предельно комплементарно воспринимали поэтику и идеологию А.П. Ладинского. Так, показательно, что его поэтическим произведениям давали высокую оценку оппозиционно настроенные по отношению друг к другу и к утверждаемым ими творческим постулатам теоретик-творец «парижской ноты» Г.В. Адамович [Адамович 2002, 433-437] и вдохновитель «Перекрестка» В.Ф. Ходасевич [Ходасевич 1932, 4]. Признание художественного дарования поэта со стороны этих весьма взыскательных и принципиально различных по своим эстетическим представлениям критиков свидетельствует о безусловной самобытности поэтического мира А.П. Ладинского.
Вопрос о месте поэта в истории русской литературы XX в. и о сущностных чертах его художественного универсума, как уже было отмечено, все еще остается открытым и требующим детального осмысления. Отметим, что в современном литературоведении уже наблюдаются первые шаги в этом направлении: появляются работы, нацеленные на постижение особенностей поэтики А.П. Ладинского [Горобец 2010; Арустамова, Расторгуева 2015; Коростелев 2013; Хадынская 2019], однако, несмотря на явленную в них глубину погружения в созданный поэтом мир, пока это только «пропедевтические» обозначения его творческих констант, демонстрирующие необходимость литературоведческой рецепции творчества А.П. Ладинского и подробной аналитики его стихотворного наследия.
Представляется, что одним из первостепенных аспектов осмысления поэзии А.П. Ладинского является уяснение ее отношений с литературными традициями и постижение точек притяжения и отталкивания в контексте русской лирики конца XVIII - начала XX вв. Данная проблема требует последовательного решения, так как творческая генеалогия поэта оказывается разветвленной и неоднозначной. В своей лирике А.П. Ладинский ориентируется на различные поэтические практики предшественников и так их преломляет в процессе конструирования собственного художественного универсума, что переосмысление «чужого» творческого опыта в его стихах нуждается в особенно внимательном изучении в силу его частой неочевидности и интегрированности в созидаемую индивидуальноавторскую мифопоэтическую систему.
Выявление поэтической «родословной» А.П. Ладинского видится уместным начинать с «ближнего» контекста - с рецепции поэтом художественных результатов Серебряного века, очевидным наследником которого он, как и большинство литераторов первой волны русской эмиграции, является. В этом отношении первостепенное значение получают поэтические «уроки» Н.С. Гумилева, художественный опыт и теоретико-эстети- ческие воззрения которого определяют один из магистральных векторов развития поэзии русского зарубежья. Укажем, что колоссальное влияние творчества творца и идеолога акмеизма характеризует поэзию первой волны русской эмиграции в целом, в той или иной степени проявляясь в творческих системах таких поэтов, как ГВ. Адамович, ГВ. Иванов, В.А. Смоленский, Н.А. Оцуп, А.С. Штейгер, И.В. Чиннов, В. Перелешин и многих других.
В предлагаемой статье мы обратимся к рецепции А.П. Ладинским гумилевской поэтики в аспекте ее творческого преображения и построения окказионального творческого мифа. Думается, что наиболее отчетливо «ученичество» поэта по отношению к Н.С. Гумилеву проявляет себя в его первой книге стихов «Черное и голубое», изданной в Париже в 1930 г. и обозначившей ключевые мотивы и константные образные репрезентации лирической концепции мира в творчестве А.П. Ладинского.
Поэтическая книга «Черное и голубое» демонстрирует отчетливую ценностно-смысловую целостность и концептуальное единство всех включенных в ее состав стихотворений. ГВ. Адамович, рецензируя дебютную книгу поэта, указывал, что ей свойственно «присутствие единой, основной темы» и что «по-разному и разными словами стихи в этой книге говорят об одном и том же» [Адамович 2002, 434]. Критик не сформулировал обозначенную им тематическую целостность «Черного и голубого», однако со всей очевидностью такой концептуальной магистралью является тема онтологического пути человека в мироздании, и это, безусловно, роднит художественную концепцию А.П. Ладинского с гумилевским творческим самоопределением, для которого телеология движения человеческого «я» в универсуме является центральным объектом поэтической рефлексии.
Конечно, воздействие Н.С. Гумилева на поэтику книги «Черное и голубое» отмечалось многими ее рецензентами в контексте литературы русского зарубежья. Так, В.В. Вейдле указывал, что в стихах А.П. Ладинского «кое-что <...> отзывается ранними символистами; но сочетается это с совершенно противоположным влиянием Гумилева», при котором «конкретные, точные гумилевские слова окутываются какой-то нежной дымкой» [Вейдле 1931, 4]. ГП. Струве, в свою очередь, считал, что «Ладинский вслед за Гумилевым продолжает в русской поэзии линию мужественности: его муза “не жалуется на невзгоды” и “бредит о войне”, его стихи “под призрачный галоп копыт” шевелит “ветерок с полей сражений”» [Струве 1931, 4]. Впоследствии, обобщая творческий опыт русской эмиграции и размышляя о поэтических истоках лирики А.П. Ладинского, он отмечал, что, помимо «мужественности», с гумилевской поэтикой ее роднят «любовь к экзотике (Восток, Африка) и тема странствий» [Струве 1996, 229]. Суждения литературных критиков-современников показывают, что творческие искания и решения Н.С. Гумилева являются для А.П. Ладинского предельно актуальным основанием собственной художественной рефлексии. Наследуя гумилевской поэтике и вступая с ней в смысловой диалог, поэт-эмигрант конструирует свой универсум, в котором практика
мифопоэтического структурирования бытия, предложенная Н.С. Гумилевым, посредством творческих «принятий» и «возражений» способствует индивидуально-авторской концептуализации представлений о человеке и его месте в миропорядке.
Попытаемся определить и описать те параметры поэтики книги «Черное и голубое», которые указывают на «ученичество» А.П. Ладинского у Н.С. Гумилева. Прежде всего, отметим сходство биографического порядка: оба поэта обладали военным опытом и принимали участие в боевых действиях. При этом гумилевское участие в Первой мировой войне можно воспринимать как определенный результат изначально жизнестроительных стратегий, вошедших в ценностный резонанс с историческими обстоятельствами страны, нации и личности. Для А.П. Ладинского же, напротив, Первая мировая и последовавшая за ней Гражданская войны, ветераном которых он был [Зобнин 2020, 545], становятся жизненной и поэтической точкой отсчета. Младший поэт, так же, как и старший, имел опыт жизни в Африке. В частности, эмигрировав из большевистской России, А.П. Ладинский четыре года проживал в египетском Каире.
Родственный биографический опыт двух поэтов обнаруживает одновременно их близость и разность в понимании героики и подвига. Безусловно, А.П. Ладинский наследует гумилевскому героическому стоицизму и понимает мужественность как основание человеческого поведения. Это актуализируется во 2-м стихотворении книги «Черное и голубое» «Муза», в котором, объективируя идеальную ипостась своего «я» в «женственный» образ музы, лирический субъект подчеркивает «мужественное» принятие жизненного пути военных невзгод:
Но под дырявым голубым плащом Не жалуется муза на невзгоды -Так рядовым солдатом переходы Ты с мушкетерским делала полком [Ладинский 2008, 26].
Заданная здесь тема войны и военного быта, с одной стороны, сближается с гумилевским утверждением мужского «я» в мире, а с другой -оказывается ему антиномичным. Если для Н.С. Гумилева война, битва, столкновение с врагом всегда маркируются как положительно-необходимое условие мужского самоопределения в мире (ср. стихотворения 1914 г, осмысляющие опыт начала Первой мировой войны: «Новорожденному», «Наступление», «Война», «Солнце духа»), то у А.П. Ладинского они - залог трагедии, причем не только человеческой, но и всеобще онтологической. Такое мировидение репрезентируется в «Эпилоге» - единственном стихотворении «Черного и голубого», в котором прямо явлены реалии войны: «В слезах от гнева и бессилья, / Еще в пороховом дыму, / Богиня складывала крылья - / Разбитым крылья ни к чему» [Ладинский 2008, 44]. Изображение войны здесь дается посредством изображения гибели боевой лошади, которая символизирует и предвосхищает смерть человека:
Свинцовой пули не жалея, Тебя из жалости добьем, В дождливый полдень водолея, А к вечеру и мы умрем:
Нас рядышком палаш положит У хладных пушек под горой -Мы встретимся в раю, быть может, С твоей лохматою душой [Ладинский 2008, 45].
Война в восприятии А.П. Ладинского лишена романтического ореола, свойственного гумилевским «военным» стихам (ср.: «Как могли мы прежде жить в покое / И не ждать ни радостей, ни бед, / Не мечтать об огне-зарном бое, / О рокочущей трубе побед» [Гумилев 1998-2007, III, 59]). Но при этом его лирический субъект посредством смерти в бою стремится прозреть иную (божественно-духовную) реальность, и это сближает его с воинственно-героическим «я» Н.С. Гумилева, предвосхищающим смысловое «оцельнение» человеческого бытия: «Чувствую, что скоро осень будет, / Солнечные кончатся труды / И от древа духа снимут люди / Золотые, зрелые плоды» [Гумилев 1998-2007, III, 59].
Отмеченная «военная» параллель между творческими системами А.П. Ладинского и Н.С. Гумилева, конечно, является весьма приблизительной и отнюдь не свидетельствует о влиянии старшего поэта на младшего: здесь, скорее, можно говорить о преемственности воинского (мужского) стоицизма, который для А.П. Ладинского становится первостепенным.
Следует задаться принципиальными вопросами: что являет собой «мужественность» в поэтике А.П. Ладинского и как она сопряжена с гумилевским миропониманием? Пытаясь осмыслить эти проблемные узлы «Черного и голубого», необходимо обозначить магистральный вектор смысло-порождения в книге А.П. Ладинского - онтологический путь человека в мироздании, нацеленный на конвергенцию микрокосма и макрокосма и способствующий бытийной инициации личности в мифопоэтическом универсуме.
Именно в идеологическом построении книги «Черное и голубое» нам видится равнение А.П. Ладинского на гумилевскую поэтику, причем не только и не столько на акмеистическую, сколько на отмеченную флером символизма. М.В. Смелова, описывая принципы концептуализации мифологемы пути в творчестве Н.С. Гумилева, справедливо отмечает, что поворотным этапом предстает третья (еще символистская) книга стихов поэта «Жемчуга» (1910), в структуре которой на первый план выдвигается «метасюжет инициации (посвящения) Поэта - “романтика” в иную мифоструктурирующую реальность”», нацеленную на «трансформацию прежних “ценностей” <...> в ценности надындивидуальные, интегрированные в социокультурных практиках» [Смелова 2004, 37]. Думается, что именно

гумилевский опыт мифологизации «я» в его многомерных отношениях с макромиром становится для А.П. Ладинского исходной точкой собственной художественной рефлексии.
В «Черном и голубом» отчетливо обозначено онтологическое направление движения лирического субъекта - от земного к небесному, от материального к духовному, что является центром и гумилевских бытийных исканий. В поэтике книги А.П. Ладинского «черное» и «голубое» - это знаки разности микрокосма и макрокосма в их «нераздельности и неслиянности» и взаимообратимости, что раскрывается в постоянном варьировании и повторе данной цветовой символики: «Не черные ли небеса над нами, / Не голубая ли земля?» [Ладинский 2008, 25]; «Только земля, земное, / Черная, дорогая мать, / Научила любить голубое / И за небесное умирать» [Ладинский 2008, 35]; «Земля, то черная, то голубая, / Скользит и уплывает из-под ног» [Ладинский 2008, 39]; «В огромном мире / Мы живем, / В его эфире / Голубом <.. .> // Чем выше, ближе, / Тем больней, / Тем небо ниже / И черней» [Ладинский 2008, 52-53]. Здесь важно то, что лирический субъект, сополагая разные измерения бытия и взыскуя их единства, остается стоически уравновешенным и принимает возможность любви и умирания во имя гармонии мира как равноценные деяния. Думается, что этот «урок смерти» восходит к гумилевскому доакмеистическому стихотворению «Выбор» (1908), в котором утверждается мужественное право на гибель: «Но молчи: несравненное право - / Самому выбирать свою смерть» [Гумилев 1998-2007,1, 183]. Лирический субъект А.П. Ладинского, не формулируя прямо, имплицитно постоянно являет необходимость и возможность выбора между экзистенцией и небытием.
Так же, как и в гумилевской поэтике, в «Черном и голубом» развертывается мифопоэтическая реальность пути к единству внутреннего и внешнего, земного и божественного, телесного и духовного. При этом для А.П. Ладинского символистская и акмеистическая составляющая поэтики Н.С. Гумилева оказываются уравновешенными. В «Черном и голубом» поэт очевидно ориентируется на раннюю гумилевскую практику репрезентации субъекта посредством лирических масок. При этом если в лирике Н.С. Гумилева бытийные ипостаси лирического «я» поддаются отчетливой типологизации (воин, путник, любовник, жрец, поэт), то у А.П. Ладинского они принципиально синтезированы и представлены в качестве экзистенциального субстрата скрывающейся за ними личности. Так, прямолинейность гумилевских поэтических масок, явленных в «Жемчугах» (например, в стихотворениях «Одержимый», «Царица», «Товарищ», «В пути», «Старый конквистадор», «Воин Агамемнона», «Рыцарь с цепью»), прежде всего призвана мифопоэтически утвердить волевую многомерность «я» в его столкновении с инобытием и раскрыть ценностный спектр архаики в освоении извечного онтологического конфликта. А.П. Ладинский, ориентируясь на гумилевскую практику использования лирической маски, меняет ее смысловое назначение. В его стихах сокрытие «я» под некоей социокультурной или мифологической маской сопря- гается не столько с раскрытием эмпирической динамики освоения мира, сколько с ментальной попыткой преодолеть разрывы между «черным» и «голубым», земным и небесным, телесным и духовным. Поэт, очевидно, помнит заветы символизма, сакральный смысл которых состоит в необходимости постижения потусторонней области универсума, но при этом мировидение А.П. Ладинского определяется уже не символистским, а акмеистическим модусом восприятия существования. Это обусловливает значимый в поэтике «Черного и голубого» мотив искания духовного Храма - не столько религиозно-мистический, сколько экзистенциальный. В этом отношении видится существенным именно опыт Н.С. Гумилева, предложившего в стихотворении «Родос» (1912) свою версию движения к конвергенции внутреннего и внешнего аспектов бытия: «Мы идем сквозь туманные годы, / Смутно чувствуя веянья роз, / У веков, у пространств, у природы / Отвоевывать древний Родос» [Гумилев 1998-2007, II, 103]. «Нераздельность и неслиянность» гумилевского лирического «я» с рыцарями-госпитальерами мыслится как «точка зрения» на мир в его возможной и чаемой гармонии.
Жажда и поиск духовной гармонизации универсума предельно акцентированы и в поэтике «Черного и голубого» А.П. Ладинского. При этом именно «масочный» принцип презентации лирического «я» здесь оказывается первостепенным. В стихотворениях «Адмирал», «Стихи о Московии», «Крестоносцы», «Каменщики», «Аргонавты» поиск и ментальное сотворение Храма, типологически родственного гумилевским «Индии Духа» или «Зеленому Храму», выходит на первый план сюжетостроения. Так, в «Каменщиках» образная детализация эмпирически-природного измерения мира становится основой художественной идеологии:
Да, самое прекрасное творенье -Вот этот воздух, перекрытий лёт, Вся эта легкость, простота, паренье, Божественный строительный расчет [Ладинский 2008, 37].
Очевидно, что лирический субъект А.П. Ладинского религиозен, но его рефлексия в исканиях духовного центра мира оказывается сопряженной не столько с антропологическим, сколько с природным измерением бытия. В этом также можно видеть диалог поэта с Н.С. Гумилевым. Гумилевский художественный мир, безусловно, конфликтен, но все противоречия между плотью и духом поэт помещает в каркас собственных волевых устремлений, а потому утверждаемая в его поэтике антиномичность предстает прежде всего конфликтом между «я» и «не-я», между подлинной витальностью и неведомым мортальным миром. А.П. Ладинский, напротив, далек от мистической потусторонности, хотя и знает о ней, и потому стремится поймать ее в свои поэтические (явно не символистские, но и не вполне акмеистические) «сети». Конечно, он ориентируется на статью-манифест Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизма» (1913), в ко-
торой определяется новая поэтическая парадигма и декларируется отказ от символистского мистицизма: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками -вот принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя право изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться» [Гумилев 1998-2007, VII, 149]. Исходя из такой акмеистической установки, лирический субъект А.П. Ла-динского актуализирует в изображаемом поэтическом мире именно душу человека в приближении к инобытию. Однако при этом для него первостепенным является балансирование «я» («мы») и его субститутов на грани между «этим» и «тем» мирами, что способствует корректировке гумилевского акмеистического тезиса: о непознаваемом следует не только помнить, но и пытаться его одолеть, даже заведомо зная о бесплодности таких попыток. Поэтому подавляющее большинство стихотворений в книге «Черное и голубое» в той или иной степени индексируют границу между земным и небесным измерениями универсума.
Стремление избыть дихотомию внутреннего и внешнего аспектов человеческого бытия обусловливает еще один «урок» Н.С. Гумилева, освоенный и переосмысленный А.П. Ладинским: акцентирование событийности в структуре лирического высказывания. Как показывает Л.Г. Кихней, «“нераздельность” лирического субъекта и мира привела к формированию в акмеизме квази-повествовательных жанров (“лирической новеллы”, “лирической баллады”)», которые в поэзии Н.С. Гумилева способствуют метафоризации «его внутренних интенций» и превращению «внешнего сюжета» в параболическое иносказание душевных “событий”» [Кихней 2001, 72]. В этом отношении художественный мир Н.С. Гумилева на всех этапах его творческого развития представляет собой нарративно репрезентируемую реальность, которая, с одной стороны, оказывается укорененной в широкий пласт легендарно-мифологической самоактуализации человеческого «я», а с другой - оформляется в поэтические истории с отчетливым фабульным основанием сюжетостроения (ср., например: стихотворения «Маскарад» (1907), «Царица» (1909), «Сон Адама» (1909), «У камина» (1910), «Константинополь» (1911), «Змей» (1916), «У цыган» (1920), «Ольга» (1920)).
В «Черном и голубом» А.П. Ладинского также наблюдается усиление нарративности в построении лирического высказывания. Равнение на гумилевский опыт нарративизации лирики здесь видится первостепенным, так как акцентирование фабулы в сюжетике стихотворений поэта-«ученика», так же, как и у его «учителя», происходит или в ситуации использования лирических масок, или в случае объективации лирического героя в образы внеположных его «я» персонажей. Наличие повествовательных параметров текстостроения в той или иной степени обнаруживается в таких стихотворениях первой книги А.П. Ладинского, как «Муза», «Детство», «Адмирал», «Щелкунчик», «Стихи о Московии», «Бегство», «Любимица», «Крестоносцы», «Аргонавты», «Переселение», «Отплы- тие», «Караван», «В каких слезах ты землю покидала...», «Охота», «Тенета бросил я на счастье...», «Каирский сапожник».
Влияние лирической наррации Н.С. Гумилева на поэтику А.П. Ладин-ского ярко высвечивается при сопоставлении тематических и персонажно родственных произведений - стихотворения поэта-эмигранта «Адмирал» и гумилевского цикла «Капитаны». В обоих текстах изображается путь мореплавателя в земном (морском) пространстве, и нарративное развертывание этого пути раскрывает неоромантическую возвышенность человеческой воли. Волевая способность увлечь за собой к освоению иных горизонтов земного мира определяет «я» и гумилевских «капитанов» (ср.: «Быстрокрылых ведут капитаны - / Открыватели новых земель, / Для кого не страшны ураганы, / Кто изведал мальстремы и мель» [Гумилев 1998-2007, I, 233]), и «адмирала» А.П. Ладинского (ср. «Но на гребень прекрасного вала / Увлекает людей за собой / Бессонница адмирала / Над картою голубой» [Ладинский 2008, 28]). Однако целевые установки морских предводителей оказываются различными: в гумилевском цикле онтологической целью морских странствий оказывается выход в потустороннее инобытие («Но в мире есть иные области, / Луной мучительной томимы / Для высшей силы, высшей доблести / Они навек недостижимы» [Гумилев 1998-2007, I, 240]), тогда как в стихотворении «Адмирал» целью пути лирического персонажа является духовное преображение земной личности человека:
И в пути, в переходах бурливых, Укрощая кипенье валов, Неразумных ведет, нерадивых Средь опасных страстей и грехов [Ладинский 2008, 29].
«Адмирал» А.П. Ладинского оказывается метафорой Поэта, призванного открыть человеческому «я» подлинное бытие, и, соответственно, структура стихотворения предстает своеобразным метафорическим нарративом, что эксплицировано в финальной точке его сюжетостроения: «О, высокое званье поэта, / Твой удел - голубая страна, / Ив бессонную ночь до рассвета / Одиночество и тишина» [Ладинский 2008, 29]. У Н.С. Гумилева же лирическое повествование сосредоточено не столько на духовных, сколько на эмпирических столкновениях «этого» и «того» миров [Чевтаев 2018].
Принципиально важно отметить, что, наследуя гумилевским принципам нарративизации поэтического мира, А.П. Ладинский подчиняет повествование в своих стихах магистральной целевой установке - показать путь от земного к небесному, а точнее - между земным и небесным. Поэтому практически все «ролевые» герои и лирические маски в «Черном и голубом» (матросы, Щелкунчик, посещающий Московию европеец, флорентийские изгнанники, крестоносцы, аргонавты) принципиально вовлечены в динамику бытийного движения в миропорядке. При этом такое движение является предельно телеологичным, представая не странствием,
а путем к ценностно-смысловому центру универсума. Так, в стихотворении «Крестоносцы» лирическое «мы» героя-маски свидетельствует о приближении к сакральной цели своего пути:
Как блудный сын, как нищий, Мы смотрим на райский град, На ангельские жилища, На пальмы и виноград [Ладинский 2008, 35].
Именно абсолютизация пути от телесного измерения бытия к духовному и разветвленное его поэтическое изображение предстает основанием окказионального мифа в поэтике А.П. Ладинского. Согласно изысканиям В.Н. Топорова, в мифопоэтике «конец пути - противоположный началу локус в том отношении, что он всегда - цель движения, его явный или тайный стимул», и поэтому «путь всегда ведет к чаемому центру: независимо от его реальной локализации он выделен как своего рода центр в мифопоэтическом аксиологическом пространстве» [Топоров 1983, 259-260]. Такое искание онтологического итога и убежденность в возможности его достичь опять же роднит творчество двух поэтов: А.П. Ладинский, вслед за Н.С. Гумилевым, стремится отыскать точку совмещения земного и небесного, «посюстороннего» и потустороннего, тварно-конечного и божественно-бесконечного начал в универсуме: «Так покидая пепелище, / Пустой очаг, бумажный сор, / Мы грезим об ином жилище, / О воздухе небесных гор, // Так наши чердаки, подвалы / Нас научили в тесноте / Мечтать о необъятных залах, / О солнце и о чистоте» («Переселение») [Ладинский 2008, 43].
Мифопоэтическая траектория пути, предложенная Н.С. Гумилевым, проявляется и в постулировании А.П. Ладинским его результата, а точнее - его принципиального отсутствия. Как точно указывает А.А. Асоян, характеризуя специфику гумилевского лирического субъекта, «развитие его Я лишено как линеарности, так и вечного возврата; оно с самого начала самоопределения вынуждено бесконечно решать проблему выбора между двумя противоположными ценностями и их субститутами: Зеленым Храмом и “обетованной землей”, душой и телом, Завтра и Вчера, сном и явью, миром и войной, Солнцем и Луной, жизнью и смертью, духом и плотью, удалью и тревогой, Вечностью и Временем» [Асоян 2019, 309]. Данное суждение вполне применимо к мифопоэтике движения лирического субъекта в поэтике «Черного и голубого», так как у А.П. Ладинского в полном соответствии с амбивалентностью гумилевского мировидения искомая точка бытийного пути остается недосягаемой. Его лирическое «я» («мы», «ты», он»), перемещаясь из одного (жизненного) измерения бытия в другое (посмертное), постоянно демонстрирует ментальный жест «оборачивания» (воспоминания, ностальгии, сожаления), свидетельствующий об эмоционально-экзистенциальной привязанности человека к земной реальности.
Так, в стихотворении «Переселение» репрезентируемое лирическим «мы» стремление (переход) к небесному инобытию в структуре лирического сюжета оборачивается углубленной рефлексией над покидаемым земным миром. Перемещение в мортальные области универсума оказывается сопряженным не с постижением посмертного иномирия, а с ностальгическим припоминанием оставляемой «посюсторонней» жизни: «Ползут ладьи по черной Лете / Под роковой уключный скрип, / Влетают невозвратно в сети, / Как стаи студенистых рыб. // Но, слушая снегов косматых / Паденье и летейский сон, / И айсбергов голубоватых / Возвышенный хрустальный звон, // О, смертный, с позднею любовью / Припомни пламя очагов, / Дымок из труб, жилище, кровлю / И розы на столе пиров» [Ла-динский 2008, 44]. Принципиальное значение здесь получает «дымок» как пространственный параметр покидаемого земного мира, так как мифопоэтически «дым» «символизирует связь между нижним и верхним мирами, то есть отношения между землей и небом, указывая на путь спасения», а также - «душу, оставляющую тело» [Кирло 2010, 158]. Этот мотив души, или прямо репрезентируемый, или символически утверждаемый А.П. Ла-динским, свидетельствует о ценностно-смысловых различиях понимания мифологемы пути в его поэтике и в творчестве Н.С. Гумилева.
В гумилевском творчестве, при всей многомерности и разновекторно-сти движения лирического субъекта к единству микрокосма и макрокосма, присутствует превозмогающая его собственные акмеистические теоретико-эстетические установки данность трансгрессии между «этим» и «тем» мирами, которая усиливается и едва ли не абсолютизируется в последней книге стихов поэта «Огненный столп» (1921). Так, именно переход между жизнью и смертью и их бытийная взаимосвязь в аспекте извечного существования эксплицируется в финале стихотворения «Лес» (1919): «Может быть, тот лес - душа твоя, / Может быть, тот лес - любовь моя, / Или, может быть, когда умрем, / Мы в тот лес направимся вдвоем» [Гумилев 1998 2007, IV, 69]. Жизнь и смерть в их дихотомии и амбивалентности смыслов оказываются проницаемыми и доступными взору лирического «я», способного, если не пережить, то хотя бы узреть сущностное состояние инобытия. Поэтому лирический герой Н.С. Гумилева постоянно стремится к полюсу духа, не обретая божественной абсолютности, но идеологически ее предполагая.
Именно в отношении к трансгрессивным возможностям человеческого «я» обнаруживается существенное различие между гумилевским художественным миром и поэтическим универсумом А.П. Ладинского. Если в первом, вырастающем в диалоге с русским символизмом, граница между земным и небесным мыслится проницаемой, то во втором, опирающемся на мировоззренческий каркас акмеизма и иных постсимволистских творческих парадигм, желаемые, культивируемые и телеологически насыщенные «небеса» остаются тотально не доступными для лирического субъекта. Соответственно, в поэтике «Черного и голубого» актуализируется не столько духовная, сколько душевная сторона исканий и стремлений чело-
веческого «я», что явно не совпадает с гумилевской системой поэтического мировидения.
Так, в одном из идеологически и эстетически программных поздних стихотворений Н.С. Гумилева «Душа и тело» (1919) агональный диалог между плотским и ментальным началом лирического «я» преобразуется в бытие духа как явленности божественной сущности мира в человеке: «“<.. .> Я тот, кто спит, и кроет глубина / Его невыразимое призванье, / А вы, вы только слабый отсвет сна, / Бегущего на дне его сознанья!”» [Гумилев 1998-2007, IV, 66]. Этот ответ «духа» «телу» и «душе» является свидетельством приобщения гумилевского лирического «я» к тем основаниям миропорядка, которые открывают онтологический абсолют. Конечно, в целом гумилевский лирический субъект не избывает бытийных конфликтов существования, но тем не менее стремится найти пути к преображению земного в небесное.
В поэтике А.П. Ладинского вектор мифопоэтического пути оказывается совершенно иным. Рефлексия его лирического субъекта принципиально имплицирует идею «духа» и эксплицирует идею и эмпирическую явлен-ность «души». Именно «душа» (как alter ego, муза, возлюбленная, женщина как таковая, представитель инобытия) становится главной героиней стихотворений «Черного и голубого», в которых маркируется граница между «этим» и «тем» мирами. Попытка обрести (построить) Храм духа, то есть понять и принять пространство, в котором телесное и чувственное измерения «я» преобразятся в подлинную духовность, у А.П. Ладинского осложняется привязанностью к земной эмпирике, причем в такой степени, в которой «душа», покидая «тело», неизбывно сожалеет об оставленном (телесно-земном), а не приобщается к новому (божественно-небесному). Такой мотив «тоскующей по земному» души является магистральным в книге стихов поэта, проявляясь во многих стихотворениях: «В каких слезах ты землю покидала, / Когда навзрыд и голосом грудным / Ты голосила, плакала, роптала, / Но таяла земля, как дым» [Ладинский 2008, 49]; «Ты все узнала - скудность пищи, / Солому на полу, чердак, / Но нравилось тебе жилище, / Деревья за окном, очаг, // И, покидая воздух здешний, / За вздохом вздох, за пядью пядь, / Ты плакала все неутешней / И не хотела улетать» [Ладинский 2008, 60]; «Возникла из тумана / Душа - с небес она / И воздухом романа / Дышать осуждена» [Ладинский 2008, 62]. Именно эмоционально-психологическая укорененность лирического субъекта в природно-эмпирический мир, самодостаточность которого не только не отменяется, но и укрепляется за счет ценностного «всматривания» в социокультурные, исторические и мифологические реалии, определяет специфику его взаимоотношений с мирозданием. Художественный мир в лирике А.П. Ладинского в своей образной и мотивно-сюжетной структуре эксплицирует идеологемы и желаемой гармонизации бытия, и стоического принятия невозможности «оцельнения» универсума в силу чрезмерной онтологической многомерности человеческого «я».
В этом отношении вновь можно видеть сближение точки зрения поэта- эмигранта с поэтическим мировоззрением Н.С. Гумилева, онтологические искания которого постоянно сопровождаются сознанием противоречий и неизбывных препятствий. Конечно, Н.С. Гумилев и в символистский, и в акмеистический, и в постакмеистический период своего творчества, интенсивно рефлексирует над возможными вариантами конвергенции микрокосма и макрокосма. Следует согласиться с А.В. Якуниным, утверждающим, что в гумилевской поэтике «стремление к гармонии обусловливает сложную диалектику небесного и демонического, духовного и плотского в структуре образа, выражающую “тоску по целостному бытию” личности и гармоническому мироощущению», в результате чего возникает «синтез несоединимого - высокая гармония заключается в парадоксальном объединении духовного и плотского, небесного и земного, божественного и демонического на качественно новом уровне» [Якунин 2011, 44]. Нам представляется, что это суждение в целом отвечает и художественному миромоделированию в книге стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое». При этом единственной, но принципиально значимой поправкой является то, что гумилевская поэтика никогда не порывает с мистическим ми-ровидением и потому в ней постоянно проступают реалии «демонизма», тогда как в лирике А.П. Ладинского мистицизм практически нивелирован и парадоксы взаимодействия «черного» и «голубого», тела и души, «я» и мира отмечены онтологическим действием именно «посюсторонности», а не инобытийных сил. При всей экстравагантности и провокационности такого суждения, думается возможным высказать мысль, что «Черное и голубое» является более акмеистической книгой стихов, нежели поэтические опыты Н.С. Гумилева - творца акмеизма и проводника его эстетики и идеологии в самоопределении русской словесности.
Итак, подводя итоги изложенному, мы можем констатировать, что первая книга стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое», при всей ее художественной и смысловой уникальности, демонстрирует явное воздействие поэтики Н.С. Гумилева. Наследование гумилевскому творчеству в лирике поэта-эмигранта проявляется прежде всего в концептуализации мифологемы пути как основы бытийного самоосуществления лирического субъекта. Движение поэтического сознания А.П. Ладинского к конвергенции земного и небесного начал соотносимо с поисками мировой гармонии, определяющими художественное миропонимание Н.С. Гумилева.
Ориентируясь на гумилевские принципы субъектной репрезентации, А.П. Ладинский в структуре книги «Черное и голубое» использует широкий ряд лирических масок поэтического «я» (адмирал, европейский путешественник, флорентийские беглецы, крестоносцы, масоны-каменщики, аргонавты и т.п.), актуализирующих определенные историко-культурные коды и характеризующихся общим стремлением преодолеть разрыв между материальным и духовным аспектами бытия. Представляется, что «уроки» Н.С. Гумилева, связанные одновременно и с акмеистическим вниманием к «посюсторонней» реальности, и с неоромантической жаждой постичь небесно-потусторонний мир, оказываются одним из ключевых факторов
формирования окказиональной мифопоэтики в лирике А.П. Ладинского. При этом художественная концепция мира в «Черном и голубом» принципиально отличается от гумилевской, так как в ней на первый план выходит не столько волевое «я» воина-путешественника, сколько онтологически уязвимая личность человека. Поэтический миф А.П. Ладинского, во многом вырастающий из гумилевской концепции универсума, постулирует предельную жажду единения микрокосма и макрокосма и трагичное осознание невозможности преодолеть их антиномичность.
Список литературы Книга стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое»: «уроки» Н.С. Гумилева и окказиональная мифопоэтика
- Адамович Г.В. «Черное и голубое» А. Ладинского. - «Стихи и проза» B. Диксона // Адамович Г.В. Собрание сочинений. Литературные заметки. Кн. 1. («Последние новости» 1928-1931). СПб.: Алетейя, 2002. С. 433-440.
- Арустамова А.А., Расторгуева М.Ю. Африка на поэтической карте А. Ладинского // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 3 (31). С. 68-76.
- Асоян А.А. Семантика антитезы в поэтическом мире Николая Гумилева // Асоян А.А. Семиотика и метафорика художественных форм. СПб.: Алетейя, 2019. C. 307-313.
- Вейдле В.В. Три сборника стихов // Возрождение. 1931. 12 марта. № 2109. С. 4.
- Горобец А.Л. Метаморфоза текста или метаморфоза сознания в творчестве Антонина Ладинского // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 34. P. 243-253.
- Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: Воскресенье, 19982007.
- Зобнин Ю.В. Поэзия белой эмиграции: «Незамеченное поколение» // Зоб-нин Ю.В. Николай Гумилев и поэты русской эмиграции. СПб.: СПбГУП, 2020. С. 463-661.
- Кирло Х. Словарь символов: 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории. М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. 525 с.
- Кихней Л.Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М.: МАКС-Пресс, 2001. 183 с.
- Коростелев О.А. Лирический театр Антонина Ладинского // Коросте-лев О.А. От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать Русского зарубежья. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова; Издательский дом «Галина скрипсит», 2013. С. 221-242.
- Ладинский А.П. Собрание стихотворений. М.: Викмо-М; Русский путь, 2008. 368 с.
- Смелова М.В. Онтологические проблемы в творчестве Н.С. Гумилева. Тверь: ТГУ 2004. 126 с.
- Струве Г.П. Заметки о стихах // Россия и славянство. 1931. 28 марта. № 41. С. 4.
- Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. 448 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
- Хадынская А.А. Северная пастораль Антонина Ладинского // Многоликая пастораль: современные проблемы изучения. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. С. 82-103.
- Ходасевич В.Ф. Люди и книги: «Северное сердце» // Возрождение. 1932. 19 мая. № 2543. С. 4.
- Чевтаев А.А. «Адмирал» А. Ладинского и «Капитаны» Н. Гумилева: родство поэтики и разность смыслов // Культурные коды русской литературы. Уфа: БашГУ 2018. С. 75-78.
- Якунин А.В. Конфликт духовного и телесного начал в образной композиции поэтических текстов Н.С. Гумилева // Вестник СПбГУ Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2011. Вып. 1. С. 40-44.