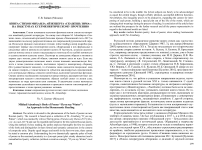Книга стихов Михаила Айзенберга "Скажешь зима": на подступах к герменевтическому прочтению
Автор: Зайцев Егор Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению феномена книги стихов на материале новейшей русской литературы. За основу взят сборник М. Айзенберга «Скажешь зима», отмеченный критикой (Большая премия «Московский счет»-2017) и являющийся по-своему репрезентативным для современной русскоязычной лирики. Используя принцип «медленного чтения» (close reading), автор подробно рассматривает первые два стихотворения книги, обнаруживая в них формальные и смысловые связи в контексте составного целого. В частности, детально анализируются мотивы зимы и земли и высказывается гипотеза об их особой значимости в художественном единстве книги. Несмотря на совпадение образов и мотивов в первых двух текстах, речи об общем, сквозном сюжете здесь не идет. Если под двумя диаметральными полюсами книги стихов понимать максимальную близость к поэме (наличие сюжета, постоянных героев) и неавторскому сборнику (без художественного замысла), то «Скажешь зима» находится посередине: едва ли можно говорить о тождественности субъектов анализируемых произведений, а их центральные образы, словесно идентичные, выполняют различные функции. Однако данное несовпадение оказывается продуктивным, расширяя контекст для интерпретации каждого стихотворения, образуя особый сюжет из жизни слов, меняющих по мере прочтения свои значения. В заключение статьи намечается перспектива дальнейшего исследования и приводится список стихотворений, репрезентативных с точки зрения указанных мотивов.
Современная русская поэзия, книга стихов, медленное чтение, герменевтический подход, мотив, м. айзенберг
Короткий адрес: https://sciup.org/149139238
IDR: 149139238 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_298
Текст научной статьи Книга стихов Михаила Айзенберга "Скажешь зима": на подступах к герменевтическому прочтению
Несмотря на то, что работа в указанном направлении ведется, изучение книги стихов в русской поэзии XXI в. только начинается. С одной стороны, самиздатовское бытование литературы, ее миграция в интернет-пространство («Живой журнал», «Facebook») должны были если не нивелировать, то, во всяком случае, уменьшить значение книги стихов. Не говоря уже о поэтическом авангарде, размыкающем поэзию, выводящем ее за рамки традиционных литературных форм, сближающем с contemporary art, перформансом, театром, ландшафтным дизайном. С другой стороны, такая логика противоречит фактам: поэтические книги активно издаются (пусть и маленькими тиражами); большинство поэтов воспринимает осуществление своих стихотворений на бумаге как завершающий этап и знак качества, выделяющий их из неохватного поля сетературы.
В предлагаемой статье речь пойдет о недавнем сборнике Михаила Айзенберга «Скажешь зима». Он был опубликован в 2017 г, а в 2018-м принес автору литературную премию «Московский счет» - безусловное свидетельство признанности в поэтической среде. Обращение к творчеству Айзенберга (род. в 1948), которое относится не только к новейшему периоду, но и к последней трети XX в., обусловлено стремлением рассматривать не крайние, наиболее радикальные проявления современности, а то, что формирует ее «срединное» русло. О книге «Скажешь зима» написано немного. Непосредственно ей посвящены рецензия И.С. Булкиной [Булкина 2017] в «Новом литературном обозрении» и далекий от научной оптики
«дневник чтения» Ф.В. Дзядко под эссеистическим названием «Глазами ящерицы» [Дзядко 2021]. В этом же ряду отметим аналитические замечания ГМ. Дашевского о «Других и прежних вещах» [Дашевский 2001], которые отчасти могут быть перенесены на всю поэтику Айзенберга и послужить для исследователя ориентиром.
Избранный нами герменевтический подход [Гадамер 1991] не нов, но именно он, как кажется, способен приблизить к пониманию (М.М. Бахтин, М. Хайдеггер) [Источникова 2008] книги стихов - формы, весьма подходящей для «медленного прочтения» (close reading) [Ransom 1941], которое не игнорировало бы ее амбивалентную природу и позволило охватить диалектическую двойственность целого и совокупности частей. Если в авторском сборнике поэт сознательно организует читательское восприятие [Морева 2020, 10], то, занимая позицию читателя (а не исследователя, уже осмыслившего произведение), мы непосредственно исследуем механизмы рецепции, заложенные в произведении. При этом очевидно, что «любое истолкование должно оберегать себя от произвольных внушений, от ограниченных мыслительных привычек, которые могут быть почти не заметны, оно должно быть направлено на “самую суть дела”» [Гадамер 1991, 74]. Спустя столетие не устарел и скафтымовский призыв «читать честно» [Скафтымов 2007, 28]. Ему, как нам кажется, в своих критических статьях следует сам Айзенберг [Айзенберг 1997, 2005].
С учетом объективных ограничений объема публикации мы вынуждены подробно остановиться только на двух первых стихотворениях книги «Скажешь зима». Это позволит, во-первых, крупным планом высветить их взаимовлияние и обнаружить приращение смысла при последовательном рассмотрении, а во-вторых, - не опуская логических звеньев, передать процесс медленного чтения и апробировать избранную методологию на новом материале.
Благодаря оригинальному дизайнерскому решению (общему, впрочем, для всех книг этой серии в «Новом издательстве») первый текст, с которым сталкивается читатель, - вынесенное на обложку стихотворение «Слово на ветер; не оживет, пока...». Девять строк поместились полностью, а десятая оказалась обрезанной, хоть и читаемой (графически обозначено нами с помощью зачеркивания):
Слово на ветер; не оживет, пока в долгом дыхании не прорастет зерно. Скажешь «зима» - и все снегами занесено. Скажешь «война» - и угадаешь наверняка.
Не говори так, ты же не гробовщик. Время лечит. Дальняя цель молчит. Но слово за слово стягивается петля; все от него, от большого, видать, ума.
Скоро заглянешь за угол - там зима. Выдвинешь нижний ящик - а там земля. [Айзенберг 2017, обложка].
Стихотворение начинается с видоизмененного фразеологизма «бросать слова на ветер». Слово (мы еще не знаем какое) уносит ветер - его не услышать, не разобрать, оно ни на что не влияет, а следовательно, мертво. Но оно может ожить, если его выносить, «выдышать». Оно должно прорасти, слово - это зерно (здесь, возможно, присутствует реминисценция на стихотворение Вл. Ходасевича, который, правда, с зерном сравнивал душу, а не слово) [Ходасевич 2009, 85]. Если произнести «пророщенное» слово, его не унесет ветер. Более того, слово станет предсказанием, пророчеством. Предсказание же всегда двойственно: с одной стороны, оно прогнозирует события, а с другой - как бы становится их причиной. Если сказать слово «зима», все вокруг занесут снега. Если сказать слово «война» - она наступит. Именно со вторым пониманием «предсказания» связана строка: «Не говори так, ты же не гробовщик».
Не стоит предсказывать зиму и войну - это все равно что изготавливать гроб еще живому человеку, как бы приближая его кончину. Даже если сейчас кажется, что наступление зимы и начало войны неизбежны, все еще может измениться. «Время лечит», и уловленные нами признаки могут оказаться «призраками», ложным следом. «Дальняя цель молчит», не обращая внимания на дурные предвестья: сколько всего в мире оправдывалось далекой целью. «Счастье рода человеческого», «всеобщее благо» -знамена, не изнашивающиеся от крови, что их пропитала. Дальняя цель всегда молчалива: за нее говорят те, кто ей прикрываются.
Второй раз лексема «слово» появляется в составе модифицированного фразеологизма «слово за слово». Айзенберг играет на двойственности «слова» в поэзии и повседневной речи, можно сказать, сталкивает противоположности: малозначимое, невесомое слово из фразеологизмов в контексте стихотворения оказывается одновременно и словом-зерном, которое нужно долго и терпеливо выращивать. Эта двойственность не бросается в глаза, однако именно она придает стихотворению интенсивность и некоторую полифоничность. Кажется, что в нем звучит несколько голосов; или же один голос, но составленный из обрывков других. Появляется соблазн сопоставить технику Айзенберга с концептуалистской. Действительно, те же слова можно было бы отнести, например, к некоторым стихотворениям «эталонного» концептуалиста Льва Рубинштейна [Рубинштейн 2012].
Однако такое сравнение, на наш взгляд, не совсем правомерно: в стихотворении Айзенберга не ощущается масочности, он не стилизуется, не деконструирует никаких дискурсов. Скорее, можно говорить о том, что поэт «сшивает» стихотворение из разных кусочков, совокупность которых и становится новым типом ткани (такая техника напоминает оптическое смешение у импрессионистов [Кулаков 2008, 157], при котором отдельные, густые мазки на расстоянии сливаются в единое изображение), зача-

стую материалом становится сама речь. В этом аспекте Айзенберг близок конкретистам и прежде всего - Всеволоду Некрасову, произведения которого часто состоят из как бы выхваченных фрагментов речи, виртуозно собранных в художественное целое [Некрасов 2002, 113]. Некрасов, разумеется, более радикален; обращение к непосредственной устной речи у Айзенберга спорадичнее, вписывается в классические метры и строфы.
Выражение «слово за слово», понятое как единый устойчивый языковой оборот, говорит о ненамеренности того, что «петля» стягивается, о некоторой иррациональности и неконтролируемости происходящего. Разложив «слово за слово» на составляющие, мы сможем идентифицировать эти два слова. Речь идет о «зиме» и «войне», введенных в синтаксически параллельные конструкции, что усиливает ощущение того, что одно слово следует за другим. Метафора стягивающийся петли, в свою очередь, акцентирует общую негативную семантику этих слов: это стягивается петля зимы, петля войны.
Восьмая строка вновь отсылает нас к фразеологизму: «от большого ума». Как и в предыдущих двух случаях, лирический субъект Айзенберга находит способ дистанцироваться от «чужой» речи: если в первой строке он взял только измененную часть фразеологизма («слово» вместо «слова»; без «бросать»), а в седьмой ввел фразеологизм в непривычный (и даже противоречивый - петля стягивается словами) контекст, то теперь прибегает к модальному слову «видать», как бы приводя не свою оценку, а мнение со стороны; и также - к оговорке, уточнению «от него, от <...> ума». Восьмую строку, таким образом, можно назвать самой «непрямой» и разговорной (в ней умещается три паузы) и в то же время - самой «искренней»: ясно просматриваемое здесь желание дистанцироваться, сыронизировать, отстраниться рождается из горечи (ты сам затягиваешь себе петлю) или от страха (петля вот-вот стянется).
Последние две строки - грамматическая и образная трансформация третьей и четвертой строк первой строфы. Синтаксический параллелизм только подчеркивает их разницу: условность сменяется безусловностью прогноза. Само развертывание стихотворения преобразует описываемую в нем ситуацию. Если в начале у нас еще был выбор: говорить «зима» или нет (и соответственно, «накликивать» ли беду), то последние строки прямо свидетельствуют о том, что зима неизбежно наступит. Слово за слово (они были произнесены, пусть даже помимо воли) «зима» и «война» стянули петлю, и теперь пути назад уже нет.
Уточним, как соотносятся слова «война» из первой строфы и «земля» из последней. Уже при первом приближении мы отмечаем соположен-ность: зимы и войны; зимы и земли. При этом если зима и война связаны семантически (как самое тяжелое время года / жизни), то зима и земля -фонетически. Притянутые друг другу через зиму война и земля обнаруживают общность: земля в нижнем ящике - это и землянка, и могила, и окоп, - вторжение грубой реальности в защищенную, казалось бы, среду обитания.
Все остальные образы присоединяются к этим трем. Гробовщик подкрепляет связь войны и земли, усиливая ассоциацию с могилой. Дальняя цель вызывает в памяти прицел и войну. Петля напоминает о смерти, роке, неизбежном наступлении зимы. В том, неизбежны ли зима и война или являются следствием брошенных на ветер (от большого ума) слов, заключается главный вопрос стихотворения. Прямого ответа, как это обычно бывает у Айзенберга, не дается. Едва ли мы можем принять за таковой слово «видать».
Наконец, попробуем дать трактовку разрезанной последней строке. Можно сказать, что это нижний ящик стихотворения, который, с одной стороны, если мы следуем за текстом, полон земли, а с другой, если интерпретировать визуальную составляющую стихотворения, как бы сам уходит в землю. Добавим, что разрезанная строка напоминает перечеркнутую и отсылает к тому же Вс. Некрасову, активно использовавшему различные типографические средства для придания стихотворению (а точнее его прочтению) вариативности.
Следующий текст в «Скажешь зима» (он же - первый внутри книги), как и «Слово на ветер; не оживет пока...», находится в начальной, т.е. композиционно сильной позиции, а значит, заслуживает самого пристального внимания:
Сажа бела, сколько б ни очерняли.
Чей-то червивый голос нудит: «Исчезни!
Если земля, то заодно с червями».
Есть, что ему ответить, да много чести.
Эта земля, впитавшая столько молний, долго на нас глядела, не нагляделась -не разглядела: что за народ неполный, вроде живое, а с виду окаменелость.
Так и бывает, свет не проходит в щели; есть кто живой, доподлинно неизвестно. И по ступеням вниз на огонь в пещере тихо идет за нами хранитель места.
То-то родные ветры свистят как сабли, небо снижается, воздух наполнен слухом, чтобы певцы и ратники не ослабли, чтобы ночные стражи не пали духом.
[Айзенберг 2017, 7].
Стихотворение начинается с парадокса: сажа, неотъемлемым свойством которой является чернота, объявляется белой; она только кажется черной, потому что ее очерняют. На ум сразу приходит поговорка «дела

как сажа бела»; Айзенберг переворачивает ее смысл: да, дела белы как сажа, а сажа, действительно, бела, то есть все, вообще говоря, в порядке. Парадокс сам по себе, безусловно, привлекает внимание, однако особенно важно, на что он это внимание обращает. Следующие две строки, которые необходимо трактовать вместе, т.к. их занимает одно предложение, как бы одна мысль, раскрывают красивую формулу первого стиха и дают нам пример «очернения».
Помимо того, что высказывание «червивого голоса» явно носит негативный характер (т.е. может быть описано глаголом «очернять»), столь же негативное описание самого голоса («червивый», «нудит») не оставляет сомнения в том, что он не констатирует факт (сажа черна; земля червива), а наговаривает, очерняет (сажа бела; земля не червива). Четвертая строка подтверждает наше ощущение: лирический субъект не только не согласен с «червивым голосом», но и считает его недостойным ответа. Анафорическое - с точки зрения фонетики инициальных созвучий - начало строки (-ес-) усиливает оппозицию двух голосов: говорящий будто бы передразнивает оппонента, набирает энергию для резкого ответа, но потом осекается.
Вторая строфа тем не менее предлагает своего рода ответ или, точнее сказать, альтернативную точку зрению на «эту землю» (нужно заметить, что пока не до конца ясно, что следует понимать под «землей»). Эта земля, возможно, оттого кажется кому-то черной, что обуглилась от молний, которые впитала (не тождественно тому, что она черна по своей сути). Выражение «глядела, не нагляделась», как и «сажа бела», отсылает нас к фразеологии, свойственной просторечию (неслучайно при разговоре о народе и земле). Народ, населяющий эту землю, как и она сама, оставляет двоякое впечатление: земля бела, хотя ее очерняют, хотя ее поражали молнии; народ жив, хоть и выглядит как неживой камень. Таким образом, народ, живущий на «этой» земле, оказывается похожим на нее, пусть даже она его и не понимает. Само слово «земля» тем временем конкретизируется, попадая в поле таких слов, как «страна» или «родина».
«Народ неполный» отсылает нас к знаменитой фразе из рассказа Андрея Платонова: «Без меня народ неполный» [Платонов 1940], выражающей идею ответственности одного человека за всех, за целый народ. Эта цитата нередко приписывается самому Платонову, в таких случаях ее смысл преобразуется в «народ неполон без своего (о)писателя». Имея в виду первый упомянутый нами контекст, можно предположить, что внешняя «окаменелость» народа связана с тем, что он выглядит «безответственным»; кажется, будто люди, составляющие его, потеряли ощущение цельности, отказались от круговой поруки, и неизвестно, мнится это («вроде») или нет.
Люди, живущие на этой земле, «вроде живы». Мы не можем сказать наверняка: свет (ассоциирующийся с жизнью) «не проходит в щели». Образы, связанные с землей, до одиннадцатой строки подразумевают «углубление»: земля (не) червива, она впитывает молнии. Мы словно прибли- жаемся к почве, вглядываемся в нее все пристальней, заглядываем в щели, не видим света, гадаем, жив ли кто, обитают ли здесь вообще, входим в пещеру (в данном случае также предполагающую спуск), где горит огонь, а значит, кто-то живой там все-таки есть. Стихотворение строится на постоянном сомнении, все сказанное практически сразу отрицается или, по меньшей мере, сопровождается словом «вроде». Тем сильнее воспринимается появление «хранителя места», вводимого без объяснений и уточнений и к тому же выделенного курсивом. Хранитель места несомненен. Не в этом ли заключается ответ «червивому голосу»? У этого места, у этой земли есть хранитель, и сколько бы молний она ни впитывала, как бы ее ни «очерняли», кто-то ее хранит. Огонь в пещере, вызывающий разные ассоциации, уточняется появлением хранителя - должно быть, огонь охраны, дозорный костер.
Этой земле нужна охрана, а значит, ей угрожает опасность. Напряжение нарастает, и если молнии, поражавшие землю, все-таки относились к прошлому, то родные ветры свистят, как сабли, именно сейчас. Обозначенное нами движение вниз теперь распространяется и на небо. Высота неба - высота облаков. Небо наполняется низкими облаками осенью и зимой. Низкое небо воспринимается как давящее, ограничивающее взгляд. Зима (или осень в качестве перехода к зиме), как видно из названия книги, здесь неслучайна, однако еще не приобретает самостоятельного значения. Сочетание слов «тихо» («тихо идет за нами хранитель места») и «низко» заставляет вспомнить о фразеологизме «тише воды, ниже травы». Таким образом продолжается линия разговорного, «народного» языка, формально подчеркивающая содержание стихотворения.
«Певцы», «ратники» и «ночные стражи» пятнадцатой - шестнадцатой строк подтверждают нашу гипотезу: «огонь в пещере» - действительно огонь дозорного костра. Свист ветра и снижающееся небо оказываются предупреждениями, знаками, которые земля посылает своему «неполному народу». Интересно, что наряду с «военными людьми», буквально охраняющими родину, называются и певцы. Пение - та же защита. Вместе с дозорными ночью не спит и певец; предупреждения, ощутимые в воздухе, относятся и к нему. Вместе с тем песня сама род предупреждения; как и «свистящий ветер», она направлена на то, чтобы поддерживать воинов и не давать им пасть духом. Певец занимает промежуточное положение между родной землей, дающей знаки, и стражами, охраняющими ее: он и предупреждает, и защищает.
В результате сопоставления двух стихотворений не остается сомнений, что тревожное ожидание, пронизывающее второй текст, -ожидание зимы и войны; земля, наполнившая нижний ящик, - родная земля, которую охраняют дозорные. В отличие от первого, он дает своего рода надежду: это место хранимо, и, хотя нельзя сказать наверняка, есть ли в нем «кто живой», само перечисление певцов, ратников и ночных стражей убеждает в наличии тех, кто будет защищать землю от грядущих зимы и войны.
Несмотря на совпадение образов и мотивов в первых двух текстах,
заметим, что речи об общем, сквозном сюжете здесь не идет. Не имея подспорья в параллельном прозаическом повествовании, дававшем бы легитимный контекст для выявления сюжетных связок между стихотворениями [Морева, Тюпа 2014], и не находя их в самих текстах, мы должны констатировать в сборнике отсутствие нарратива. Если под двумя диаметральными полюсами книги стихов понимать максимальную близость к поэме (наличие сюжета, постоянных героев) и неавторскому сборнику (без художественного замысла), то «Скажешь зима» находится посередине: едва ли можно говорить о тождественности субъектов прочитанных нами произведений, а их центральные образы, словесно идентичные, выполняют различные функции. Однако данное несовпадение оказывается продуктивным, расширяя контекст для понимания каждого стихотворения, образуя особый сюжет из жизни слов, меняющих по мере прочтения свои значения.
Сделанные нами выводы неизбежно оказываются промежуточными и не претендуют на окончательность. Избранный подход последовательного «медленного чтения» не позволяет кратко изложить результаты сопоставления двух первых стихотворений с остальными текстами сборника. Однако позволим себе прочертить перспективу подобного сопоставления, указав на стихотворения, в которых выделенные нами мотивы зимы и земли реализуются эксплицитно (вербально) или имплицитно (как общая тема). Лексема «зима» встречается в стихотворениях: №18 («Летом необъявленные ливни...») [Айзенберг 2017, 25], №22 («Здесь хорошо, откуда ни начни:...») [Айзенберг 2017, 29], заглавном тексте, еще раз отпечатанном внутри книги [Айзенберг 2017, 57], №58 («А давай побеседуем по душам...») [Айзенберг, 2017, 72-73]; имплицитно же мотив зимы обнаруживается в текстах: №8 («Слепленный из мягкого, из ватного...») [Айзенберг 2017, 13], №23 («Как петляет свет...») [Айзенберг 2017, 33], №24 («Говорили, что Москва...») [Айзенберг 2017, 34], №28 («Дочка, щеки круглые, стоит...») [Айзенберг 2017, 13], №47 («Переводчика не засвечивая...») [Айзенберг 2017, 61], №51 («А теперь пускай говорит ледник...») [Айзенберг 2017, 65], №63 («С ним ходили мы, как ходят облака...») [Айзенберг 2017, 78]. Лексему «земля» находим в стихотворениях: №16 («Деревья мы бабочки») [Айзенберг 2017, 21-23], №29 «И не знать, какой оставляешь след...») [Айзенберг 2017, 39], №37 («Отданные в вечное владение...») [Айзенберг 2017, 47], №38 («Что я помню: земли кусок...») [Айзенберг 2017, 48], заглавном стихотворении [Айзенберг 2017, 57], №51 («А теперь пускай говорит ледник...») [Айзенберг 2017, 65], №54 («Вот и в лесу нет ни сети дорожной...») [Айзенберг 2017, 68], №58 («А давай побеседуем по душам...») [Айзенберг 2017, 72-73], №65 («Далее везде») [Айзенберг 2017, 80-81]; мотив земли можно выделить в текстах: №4 («Глаза невовремя открою...» [Айзенберг 2017, 9], №10 («Слово как возможная оказия...») [Айзенберг 2017, 15], №24 («Говорили, что Москва...») [Айзенберг 2017, 34], №33 («Еще блеснет, теряя осторожность...») [Айзенберг 2017, 43], №42 («И беснуется мелочь, немочь, бестолочь...») [Айзенберг
2017, 53], №44 («Нравится нет это не мой выбор...») [Айзенберг 2017, 58], №61 («Это чувство вам, наверное, знакомо...») [Айзенберг 2017, 76]. Таким образом, выделенные нами мотивы значимы не только для первых двух стихотворений «Скажешь зима», но и для всей книги стихов. Ее дальнейший анализ, вероятно, позволит охарактеризовать и другие, не менее важные мотивы, а также описать их трансформации. Смеем надеяться, что избранный подход окажется плодотворным в разговоре о жанровом своеобразии книги стихов на современном этапе ее литературного бытования.
Список литературы Книга стихов Михаила Айзенберга "Скажешь зима": на подступах к герменевтическому прочтению
- Айзенберг М.Н. Взгляд на свободного художника: статьи. М.: Гендальф, 1997. 272 с.
- Айзенберг М.Н. Оправданное присутствие: статьи. М.: Baltrus; Новое издательство, 2005. 212 с.
- Айзенберг М.Н. Скажешь зима. М.: Новое издательство, 2017. 84 с.
- Барковская Н.В., Верина УЮ., Гутрина Л.Л., Жибуль В.Ю. Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 674 с.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Булкина И.С. Не о погоде, или Деконструкция риторики (Рец. на кн.: Айзенберг М. Скажешь зима. М., 2017) // Новое литературное обозрение. 2017. № 4. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/146_ nlo_4_2017/article/12622/ (дата обращения 09.04.2021).
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 266-323.
- Дарвин М.Н. Поэтика лирического цикла («Сумерки» Е.А. Баратынского»). Кемерово.: Кемеровский государственный университет, 1987. 52 с.
- Дарвин М.Н. Циклизация в лирике. Исторические пути и художественные формы: автореф дис. ... д. филол. н. Екатеринбург, 1996. 20 с.
- Дашевский Г.М. Михаил Айзенберг. Другие и прежние вещи // Новая русская книга. 2001. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/nrk/2001/2/mihail-ajzen-berg-drugie-i-prezhnie-veshhi-2.html (дата обращения 10.04.2021).
- Дзядко Ф.В. Глазами ящерицы. М.: Новое издательство, 2021. 138 с.
- Источникова А.В. Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и Мартина Хайдеггера // Вестник МГТУ Труды Мурманского государственного технического университета. 2008. Т. 11. № 4. С. 627-630.
- Кулагин О.Е. Циклизация в поэзии Яна Сатуновского: «100 стихотворений из 10 циклов» как книга стихов: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 2016. 18 с.
- Кулаков В.А., Полетова Л.А. и др. Импрессионизм // Большая российская энциклопедия. Т. 11. М.: Большая российская энциклопедия, 2008. С. 157.
- Морева Ю.С., Тюпа В.И. Двойное авторство «Стихотворений Юрия Живаго» // Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении / под ред. В.И. Тюпы. М.: Intrada, 2014. С. 411-419.
- Морева Ю.С. О некоторых способах трансформации циклического контекста: «Стихотворения» Андрея Белого (1923) (тезисы) // Язык и мир изучаемого языка. Вып. 10. Саратов: Саратовский областной институт развития образования, 2020. С. 10-13.
- Некрасов Вс. Н. Живу вижу. М.: Крокин Галерея, 2002. 244 с.
- Орлицкий Ю.Б. Стихотворный сборник как пространственновременное единство (на материале книг Ю. Левитанского) // Пространство и время в литературе и искусстве. Конец XIX века - XX век. Даугавпилс: Даугавпилсский государственный педагогический институт, 1987. С. 33-35.
- Платонов А.П. Старый механик // Платонов А.П. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. М.: Время, 2011. С. 511-518.
- Рубинштейн Л.С. Лестница существ // Рубинштейн Л.С. Регулярное письмо. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. С. 184-191.
- Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М.: Высшая школа, 2007. 535 с.
- Фоменко И.В. Книга стихов: миф или реальность? // Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. М.: РГГУ, 2003. С. 64-73.
- Ходасевич Вл. Ф. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. М.: Русский путь, 2009. 648 с.
- Ransom J.C. The New Criticism. Norfolk, Connecticut: New Directions, 1941. 339 p.