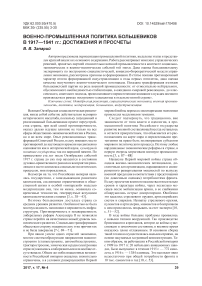Книги памяти города-героя Севастополя: проект времен перестройки
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются и анализируются семь книг памяти Севастополя, опубликованных с 1994 по 2010 г. в Украине. Этот проект был инициирован еще в Советском Союзе в 1989 г. в связи с политикой перестройки и подготовкой к пятидесятой годовщине победы советской страны в Великой Отечественной войне. Автор показывает, как с эволюцией взглядов общества на прошлое менялись и подходы к созданию книг памяти Севастополя. Первоначально книгипамяти содержали сведения только о советских воинах, погибших в Великой Отечественной войне, но затем в них включили информацию о мирных гражданах, пострадавших в период оккупации; об умерших немецких военнопленных; о людях, пострадавших в ходе техногенных катастроф или военных конфликтов в ХХ веке. Таким образом, историческая политика, начатая в период перестройки, способствовала расширению рамок культурной памяти в ее разных аспектах.
Севастополь, книги памяти, историческая политика, культурная память
Короткий адрес: https://sciup.org/147151205
IDR: 147151205 | УДК: 94(470) | DOI: 10.14529/ssh170405
Текст научной статьи Книги памяти города-героя Севастополя: проект времен перестройки
Великая Октябрьская социалистическая революция, явила собой событие действительно всемирно исторического масштаба, поскольку запущенный и реализованный большевиками проект переустройства страны, при всей своей противоречивости, оказал далеко идущие влияние не только на все сферы общественно-экономической жизни в России, но и во всем мире. Опыт революционных трансформаций Советской России, в силу имевших место противоречий до настоящего времени неоднозначно оценивается как в исторической науке, культурной политике государства , так и в народной памяти. По пришествию ста лет после Октябрьских событий 1917 г. страна до сих пор находится в состоянии духовно-нравственного раскола в восприятии революции и всего комплекса социально-политических процессов, ими порожденных.
Несмотря на то, что Российская империя являлась государством, с запаздывающим развитием капитализма, сословными ограничениями в общественной жизни и особой «имперской» моделью модернизации она, тем не менее, осваивала современные технологии, генерируемые ведущими капиталистическими станами [3, с. 38—43].
Поэтому большевикам досталась страна со средним уровнем развития. Особенностью ее была многоукладность экономики и неразвитость инфраструктуры. Противоречивость и незавершенность либеральных реформ Александра II не позволяли стране перейти на качественно новый уровень экономического развития. Социальная трансформация общества в сторону модерна в силу этих причин так и не была завершена [7 с. 69—71].
При явном успехе одних отраслей экономики, многие системообразующие направления машиностроения (станкостроение, автомобилестроение, тракторостроение, химическая и радиоэлектронная отрасли) оказались слаборазвитыми или вообще отсутствовали. Общие же мобилизационные возможности Российской империи оказались значительно ограничены, а в условиях развернувшейся Первой мировой войны переход к милитаризации экономики происходил медленными темпами.
Следует подчеркнуть, что традиционно, вне зависимости от типа власти и идеологии, в промышленной политике Российского государства развитие военной составляющей всегда оставалось и остается приоритетным, что объясняется его расположением на карте мира и определенными претензиями на право быть полноправным субъектом мирового политического процесса. Поэтому любые кардинальные экономические реформы в стране, в первую очередь затрагивали военную промышленность [3, с. 87—88]
Накануне Первой мировой войны страна обладала военно-экономическим потенциалом, достаточным для организации, наращивания и своевременного развертывания мощностей по выпуску военной продукции в соответствии с предстоящими (по довоенным оценкам) потребностями фронта. В силу просчетов военного ведомства относительно сроков и характера войны, через несколько месяцев после мобилизации армии, в ее снабжении обнаружились острые диспропорции. О собенно это касалось стрелкового оружия, артиллерийских систем и снарядов. Нехватку стрелкового оружия, пулеметов и артиллерии, минометов и боеприпасов к ним приходилось покрывать за счет экспорта [10, с. 51—52].
В ходе войны большие проблемы проявились с новыми типами вооружений. Так производство бронемашин и аэропланов, которое до войны существовало в зачаточном состоянии, в военное время оказалось плохо отлаженным. В основном сборка такой техники осуществлялась малыми сериями, на основе закупаемых за границей комплектующих. Таким образом, на работавших в Российской империи с 1909 по 1917 гг. 20 небольших авиационных заводах, было выпущено: в течение 1915 г. — 772 самолета, в 1916 г. — 1384 единицы. Это выглядит явно недостаточно при общей потребности фронта в 10 тыс. самолетов в год [10, с. 53].
Бронеавтомобили производились мелкосерийно на Русско-Балтийском и Путиловском заводах, путем бронирования коммерческих грузовиков иностранного производства. Создать аналоги английских и французских гусеничных боевых машин до революции так и не удалось.
Испытывая постоянно трудности, только ко второй половине 1916 г. военная промышленность Российской империи смогла выйти на пиковые показатели своей производительности, за которой, через несколько месяцев, последовал спад, обусловленный износом оборудования, истощением запасов сырья и инструмента, усталостью рабочих и инженеров, работавших по трех сменному графику.
Ход чрезвычайного развития экономики в условиях войны нарушила сначала Февральская, а затем и Октябрьская революции, которые привели к власти совершенно иные политические силы с другими политическими и экономическими приоритетами.
Отношение к военной промышленности пришедших к власти большевиков было не однозначным и, на наш взгляд, претерпело некоторые трансформации, пока не стало классически советским, т. е. приоритетным для всей экономики страны. В целом промышленная политика большевиков в период между двумя мировыми войнами в своем развитии претерпевала вполне логичные изменения и объективно была ответом на постоянно меняющиеся экономические и политические условия. Развитие военной промышленности оказалось органически связанным с этим процессом. По нашему мнению, можно выделить следующие этапы развития политики большевистской партии по отношению к военной промышленности.
Первый этап: октябрь 1917 — середина 1918 г . После так называемого «Триумфального шествия» советской власти большевики в союзе с боевыми организациями левых эсеров укрепились у власти и начали проводить в жизнь свою политическую программу: национализацию промышленности, аграрную реформу и так далее. Сделав ставку на подписание мира и выход из войны любой ценой, большевики первоначально не планировали уделять серьезное внимание военной промышленности, взяв курс на демилитаризацию. В связи с завершением военных действий, количество военных заказов сократилось, а отрасль впала в кризисное состояние. Вместо регулярной армии, создавалась милиционная система [6, с. 235—264].
Второй этап: середина 1918 — март 1921 гг. После перерастания отдельных стычек с контрреволюционными силами в полномасштабную гражданскую войну весной-летом 1918 г., отношение большевиков к военной промышленности и военному строительству в корне изменилось.
Вместо милиционного принципа формирования вооруженных сил на добровольной основе, пришлось вводить воинскую повинность формирования Красной армии и усиливать дисциплину. Благодаря комплексу мобилизационных политикоэкономических мер, получивших название «военный коммунизм», в период Гражданской войны большевикам удалось наладить работу доставшейся им военной промышленности и без посторонней по- мощи достичь победы над контрреволюционными силами.
Были достигнуты даже определенные успехи в развитии военной промышленности по сравнению с предыдущим периодом. Так, на Сормовском заводе удалось организовать мелкосерийное производство танков, на основе передовой французской конструкции “Renault-FT”. Однако отсутствие опыта танкового производства, недостаток грамотных технологов и низкое качество управления не позволили продолжить это начинание и использовать их на фронтах войны [9, с. 34—41].
Революционные события в целом дезорганизовали работу военной промышленности, произошло падение трудовой дисциплины, начался массовый отток квалифицированных кадров с предприятий. Расстройство промышленности осложнялось плохо организованной эвакуацией оборудования важнейших Петроградских заводов, в связи с угрозой захвата города немецкими войсками летом 1918 г. Большая часть грузов, направленных в центральную Россию, не дошла до адресатов и была утеряна.
В годы «военного коммунизма» не предпринималось каких-либо системных попыток кардинальной трансформации и совершенствования работы промышленности в рамках национальной экономики. Это связано с тем, что основным приоритетом для большевиков являлась мировая революция, первым актом которой, как они считали, стала революция в России. Революционные события в Германии, Венгрии и локальные восстания в ряде других стран Европы давали им в тот момент большие основания полагать, что так это и случиться.
Завершение Гражданской войны, в условиях, как казалось многим большевистским деятелям, временной «неудачи» мировой революции потребовало решения комплекса тактических задач по стабилизации экономики. Чрезвычайные методы управления периода «военного коммунизма» в городе и деревне вызвали недовольство даже тех групп населения, которые изначально поддерживали политику большевиков, либо сохраняли нейтралитет. «Кронштадский мятеж» (1921 г.) и выступления крестьян в Тамбовской губернии (1920—1921 гг.) были ярчайшими маркерами социальной и политической напряженности в стране. А результатом этих событий стал курс на «Новую экономическую политику» (НЭП), провозглашенный высшим руководством партии большевиков.
О периоде НЭПа (1921—1928 гг.) можно говорить и как о следующем, третьем этапе развития экономической политики большевиков в военной отрасли. В первую очередь произошел отказ от чрезвычайных методов управления экономикой в целом, при сохранении мощного государственного сектора в металлургии, металлообработке и легкой промышленности. Началось развитие частного предпринимательства в сфере производства потребительских товаров, сельского хозяйства, сфере услуг. Шел процесс восстановления народного хозяйства.
На фоне этих событий, предприятия военной промышленности с трудом интегрировались в народное хозяйство молодой советской республики.
После завершения активной фазы гражданской войны происходит падение объемов военных заказов а, следовательно, материально-технического, продовольственного и денежного снабжения ее кадров. Профсоюзные организации и директора заводов вынуждены были переходить на выпуск ширпотреба, либо заниматься частичной продажей оборудования и материальных запасов, поддерживая свое существование [7, с. 18].
Ситуация осложнялась тем, что, несмотря на наличие элементов рынка в политике НЭПа, предприятия военной промышленности массово не переводились на принципы трестовского хозрасчета, т. е. не были приспособлены к условиям сложившегося рынка, c доминированием крупной текстильной и мелкой металлообрабатывающей и кустарной промышленности. Таким образом, реорганизация военной промышленности, продолжалась в условиях недофинансирования и постоянного усиления элементов конверсии. По завершению в 1924 г. денежной реформы, государству пришлось урезать финансирование и дотации на содержание ряда предприятий, в том числе и военных, чтобы достичь стабилизации валюты на внутреннем рынке [7, с. 18—19]. Около 8 тыс. чел. было уволено с венных заводов. Так 12 из 62 (20 %) военных заводов были выведены из-под управления Главного управления военной промышленности Всесоюзного совета народного хозяйства (ГУВП ВСНХ), сменив профиль, а свободные мощности оставшихся активно привлекались для размещения гражданских заказов [10, с. 56].
Это время было позитивно использовано отраслью в целом. Период военно-политического затишья был использован для частичной модернизации оборудования и агрегатов, проводившейся путем закупки их в развитых капиталистических странах, таких как США и Германия. C последней у СССР были налажены тесные торгово-экономические отношения еще со времен Рапальского договора (16 апреля 1922 г.). К началу 1925 г. за границей было закуплено порядка 1500 ед. современных металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования и других агрегатов. Увеличивалось количество инженерно-технических работников, демобилизованных из армии, что позитивно сказалось на качестве управления производством и технологической дисциплине [10, с. 56].
Несмотря на то, что в период с окончания активной фазы Гражданской войны до конца 1920-х гг. советской власти удалось частично реформировать военную промышленность, провести ограниченную модернизацию оборудования и отойти от практики чрезвычайщины по принципу «военного коммунизма», базовые противоречия так и не были устранены. Эффект от включения военных заводов во внутренний рынок на основе хозрасчета и трестовской формы организации, серьезно снижался вследствие серьезного технического отставания советской промышленности от уровня передовых стран Европы и США. Кроме того, сами принципы организации производства оставались старыми, а популярная и актуальная на тот период времени «научная организация труда» внедрялась лишь эпизодически.
Существующие мощности не позволяли выпускать современную боевую технику, вооружения и боеприпасы для нужд Красной Армии в полном объеме, даже в соответствии с утвержденными мобилизационными планами [1, с. 65—69].
Реализация планов экономического развития была невозможна на старой промышленной базе. Единственным выходом из создавшегося положения, стала массовая закупка оборудования за рубежом. В 1925 г Политбюро ЦК РКП(б) выпустило постановление «О привлечении иностранных техников и обучении наших техников за границей». Тогда же в СССР начали массово приезжать американские специалисты, а советские инженеры и рабочие проходили стажировку за рубежом [12, с. 46—56].
По мере постепенной нормализации внешнеполитических отношений со странами бывшей Антанты, начали развиваться тесные торговоэкономические связи и с США. Уже к 1927 г. экспорт США в СССР вырос более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем,, а в начале 1930-х гг. он составлял пятую часть всего советского импорта. При этом Соединенные Штаты заняли второе место после Германии в торговле с Советским Союзом [12, с. 46—56]. В Америке проводились не только закупки станков и оборудования, но и военных технологий. Лозунг «Учиться у Американцев!» стал активно распространяться в среде научнотехнических и хозяйственных работников советской промышленности.
Особым периодом стало массовое промышленное строительство первых пятилеток. Именно эти предприятия затем и стали базой военной промышленности СССР. Несмотря на значительные успехи первых двух пятилеток и завершение формирования материально-технической базы советской промышленности, итоги ее оказались неоднозначными. В советской историографии успехи индустриализации традиционно рассматривались как героический подвиг народа, сумевшего в короткий срок ликвидировать промышленное отставание от передовых стран Запада [2; 4; 13]. Возникли с нуля целые отрасли промышленности ранее не существовавшие в стране, и это, бесспорно, факт. Тем не менее, только на современном этапе развития исторической науки стали говорить о противоречивости протекания процесса индустриализации, который сопровождался административными перегибами, фактами бесхозяйственности и ошибками в экономическом планировании.
Большое внимание уделялось идеям менеджмента и практике управления производством, возникшим в капиталистическом мире, но способным принести пользу советскому проекту. Идеи «классической школы» менеджмента, применительно к практике крупносерийного поточно-конвейерного производства были творчески переработаны в рамках так называемого движения «научной организации труда» [5]. Работы Г. Форда рекомендовались руководителям трестов и предприятий в качестве образца рационального хозяйствования. В этих условиях общий информационно-идеологический фон конца 1920 — начала 1930-х гг. способствовал формированию в среде руководителей производства советской промышленности взглядов, согласующихся с основными идеями системы Г. Форда, а закупленное за границей оборудование и технологии потенциально обеспечивали развитие массового крупносерийного производства, как в военном, так и гражданском секторах машиностроения. Тем не менее, не стоит переоценивать увлечение идеями Генри Форда в СССР. К «Фордизму» всегда относились с осторожностью, учитывая, что это «буржуазная» теория, а сам Г. Форд — известный и крупный капиталист, долго выступавшим как непримиримый борец с профсоюзами.
Важным фактором, позволившим начать перевод предприятий военной промышленности на трестовскую форму управления и практику хозрасчета, стало планомерное повышение степени их вовлечения во внутренний рынок Советской России. Благодаря этому стало возможно производить технически сложную мирную продукцию силами оборонных заводов. Уже в 1926—1927 гг. было сформировано 5 трестов оборонной промышленности, куда вошло порядка 50 производственных единиц. Из них: в составе Орудийно-арсенального — 14 предприятий, Патронно-трубочного — 8 предприятий, Военно-химического — 12 предприятий, Оружейнопулеметного — 5 предприятий, авиационного — 11 предприятий. С осени 1926 г. военная продукция стала включаться в единый государственный народно-хозяйственный план, построенный в то время на принципах индикативного планирования. По официальным утверждениям, уже в 1925 г. советская промышленность в основном, а к 1927 г. в целом восстановила довоенный уровень производства [10, с. 57].
К концу 1920-х гг. в результате обострения внутрипартийной борьбы к власти приходит «группа Сталина», что привело к серии последовательных глубинных социально-экономических трансформаций в СССР. Эта группа партийной элиты отражала в своей политике все возрастающую степень понимания того, что мировая революция если и произойдет, то в долгосрочной перспективе. Поэтому социалистическое государство вынуждено находится во «враждебном капиталистическом окружении». Более того, опыт международного сотрудничества и торговли с развитыми капиталистическими странами, анализ состояния складывающегося глобального мирового рынка машин и оборудования выявил усиление степени отставания промышленного потенциала СССР [11, с. 60—75].
Исходя из этого, начало формирования капитальной базы военной промышленности в СССР ряд исследователей датируют концом 1920-х — началом 1930-х гг. Так, Н. С. Симонов считает началом «военную угрозу» 1927 г. [10, с. 59—63], а Л. Самуэльсон — постановления «О состоянии обороны СССР» и «О военной промышленности», принятые Политбюро в июле 1929 г. [8, с. 97—103] И. В. Быстрова указывает на переписку И. В. Сталина и М. Н. Тухачевского в 1930—1932 гг. в отношении «японской опасности» и необходимости кардинальной трансформации не только армейского строительства, но всей системы оборонной промышленности [1, с. 65—68]. В таком случае, внешняя военная угроза конца 1920-х гг. стала лишь поводом, для того чтобы приступить к решению жизненно важного для советского государства вопроса — общей модернизации промышленного потенциала на основе самых современных технологий. Это была действительно серьезная проблема, поскольку военная промышленность СССР уступала аналогичным мощностям одной только Франции по производству боевых самолетов — в 7 раз, танков — в 20 раз, пулеметов — в 2 раза, винтовочных патронов — в 7 раз, и т. д. [10, с. 58].
Из этого следует четвертый этап развития военно-промышленной политики большевиков, в основном совпадающий с годами первых двух пятилеток форсированной индустриализации в СССР (1929—1937 гг.). В этот период начинает складываться особое отношение к военной промышленности, заимствуются самые передовые технологии производства, реконструируются старые военные заводы, создаются новые предприятия, конструкторские бюро, отраслевые научно-исследовательское институты.
Для ликвидации отставания от ведущих военных держав Европы, уже к концу 1920-х гг. начинают закупать лицензии на производство перспективных видов военной техники в области танкостроения и авиастроения. Утверждаются долгосрочные программы развития ВВС и бронетанковых войск. Теория и практика применения этой боевой техники в СССР начинает ориентироваться на самый передовой опыт Великобритании, Германии и др. государств. По примеру закупленных в США, Великобритании прототипов в СССР создаются конструкции самых распространенных в 1930-е гг. танков: Т-37/38, БТ и Т-26. Эта техника была воспроизведена и усовершенствована исходя из возможностей развивающейся ускоренными темпами танковой промышленности, в соответствии с существовавшей на тот момент стратегией строительства вооруженных сил. Большинство машин ранних серий оказалось технически не надежными, требовали постоянного ремонта и модернизации. Это объясняет наличие большого числа различных модификаций в составе довоенного танкового парка СССР. Шел поиск нового, поэтому просчеты и ошибки были естественны. В первой половине 1930-х гг. складываются базовые центры танкостроения: в районах Ленинграда, Москвы, Харькова, сохранявшими свой потенциал до начала эвакуации осенью 1941 г. [10, с. 75—83].
Начиная с середины 1930-х гг., и до начала Второй мировой войны советскими конструкторами были разработаны оригинальные проекты средних и тяжелых танков с противоснарядным бронированием (A-32, Т-34, СМК, Т-100, КВ). Эти машины сочетали в себе как новейшие прорывные технические решения, так и архаические конструктивные элементы. Кроме того, находящаяся в стадии становления современная индустриальная база СССР ограничивала возможности этих конструкций относительно низким качеством изготовления и промышленной культуры.
Происходит трансформация системы управления промышленностью. Для своевременного выполне- ния программы первой пятилетки и обеспечения нужного государству распределения финансовых и материальных ресурсов происходит переход к методу директивных нарядов и назначений. Основную нагрузку принимают на себя сформированные по отраслевому принципу главные управления — «главки», сменив трестовскую систему регулирования промышленности периода НЭПа. Форсированная индустриализация привела к формированию чрезвычайно-мобилизационной модели экономического развития. По сути это напоминает возврат к принципам чрезвычайного управления по типу военного времени. Снабжение продовольствием начинает преимущественно контролироваться государством, но денежное выражение зарплаты сохранялось, поскольку рынок товаров и услуг все же оставался, пусть и в довольно усеченном виде.
Равновесие в экономике теперь поддерживалось не рыночными принципами, а сложной и разветвленной системой органов экономического согласования и управления (отвечающие за планирование, статистику, контроль, распределение, производство). Эти органы в результате своей деятельности вели постоянную борьбу с проявлениями и последствиями бюрократизма, бесхозяйственности, диспропорциями и иными органическими пороками военномобилизационной и планово-распределительной экономической модели.
Мобилизационная, командная модель управления экономикой, со всеми сопутствующими пороками, допустима в военное время, в ситуации ограничения ресурсов, поскольку конечный результат, а не его цена, является определяющим критерием. С точки зрения реалий СССР, периода индустриализации, «команде Сталина», проводившей техническую модернизацию производств, удалось добиться значительного выигрыша во времени, однако с высокими издержками и затратами. Во всяком случае, характер и итоги индустриализации СССР, до сих пор не позволяют придти к единому мнению представителям противоборствующих идеологических убеждений, причем не только в историографии.
В данном случае у партийно-государственного руководства практически не было реального выбора, кроме как мобилизационного, учитывая довольно низкий «стартовый капитал» советской экономики, ограниченность времени и с учетом глобальности целей и задач управления.
Здесь сложно не согласиться с мнением Н. С. Симонова: «Чтобы успеть к 1932—1934 годам преодолеть военно-техническую отсталость у СССР, иного способа накопить, распределить и использовать материально-финансовые ресурсы, не было. В конце концов, это признали и сторонники умеренных темпов индустриализации и ненасильственных методов коллективизации в партии во главе с Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым и М. Н. Томским, которые в 1929/30 г. выступали против введения чрезвычайных мер и соответствующей им экономической политики» [10, с. 72]. Кроме того, атмосфера чрезвычайности, мобилизационный порыв должны были укрепить личную власть И. В. Сталина и его политического окружения, отвлечь внимание от разворачивающегося всеобъ- емлющего процесса трансформации существовавших в годы НЭПа принципов государственного управления.
В связи с этим необходимо признать, что созданный с большими усилиями в первой половине 1930-х гг. военно-технический потенциал Красной армии имел для того времени довольно низкое качество. Уже к 1938 г. серийные образцы бронетехники, выпущенные в 1929—1935 гг. по большей части выработали свой ресурс. Эта техника по оценкам современников была в ужасном состоянии, валялась на территориях воинских частей с неисправными двигателями, трансмиссией, часто без вооружения. При отсутствии запчастей ремонт одних танков осуществлялся путем разбора на запчасти других [10, с. 100]. Кроме низкого качества изготовления и проблем с надежностью данной техники, которые справедливо могут быть поставлены на вид промышленности, ответственность за такое положение дел в полной мере должен разделить и личный состав Красной армии, обладавший довольно низкой технической подготовкой и, по чьей вине, она так же нередко выходила из строя.
В 1930-е гг. в СССР ускоренными темпами создавалась современная авиационная промышленность. Уже в 1937 г. в стране насчитывалось 57 авиационных заводов, где трудилось более 249 тыс. человек. К концу года в авиационной промышленности было сосредоточено 23 тыс. металлорежущих станков. Тем не менее, и этот значительный потенциал часто не использовался самым эффективным образом.
Так, в докладе начальника Управления материально-технического снабжения Рабоче-крестьянской Красной армии (УМТС РККА) И. П. Белова для оборонной комиссии Совета народных комиссаров (СНК) СССР от 13 сентября 1936 г. отмечается отставание советских авиационных заводов от американских в отношении интенсивности внедрения элементов поточно-конвейерного производства. Автор доклада отмечает, что методы отработанные в автомобильной промышленности США с успехом внедряются в авиастроении, а именно: массовое применение штамповки, анодирования алюминиевых деталей, сварка, прессовые клепальные аппараты и многое другое. В завершении доклада И. П. Белов отметил, что организация производства, технологический процесс и механизация на советских заводах значительно отстает от передовой авиатехники [10, с. 103].
Пятый, заключительный этап промышленной политики в предвоенный период (1939—1941 гг.) находился целиком и полностью в логике осознания неизбежности грядущей мировой войны и попыток руководства страны к ней насколько это возможно в столь малый отрезок времени, подготовится. Это выразилось не только в постепенном и неуклонном росте числа Вооруженных Сил СССР, переходом от территориального комплектования армии к всеобщей воинской обязанности, а так же прямым или косвенным участием советских войск в ряде локальных конфликтов. Параллельно с этим разворачивался процесс все возрастающей милитаризации советской экономики, вступивший в финальную фазу летом 1940 г. Создаются обновленные моби- лизационные планы, определяются и создаются предприятия-дублеры в тыловых районах СССР, для ведущих военных заводов, расположенных в непосредственной близости от западных границ советского государства. Тем не менее, острым оставался вопрос качества военно-экономического потенциала, накопленного СССР в период первых двух и предвоенной пятилеток. Несмотря на значительные успехи во всех отраслях промышленности, а в особенности в машиностроении, руководству СССР не удалось до конца изжить комплекс организационнотехнических проблем, возникший в самом начале форсированной индустриализации.
К концу 1930-х гг. в советской военной промышленности отмечается рост удельного веса современных высокопроизводительных технологий, характерных для системы поточно-конвейерного производства, таких как: холодная и горячая штамповка, прессование, литье и др., что позволило повысить качество заготовительных работ и добиться экономии сырья. Происходит широкое внедрение аккордно-премиальных работ, а также элементов экономической мотивации к труду. «Фордистские» принципы организации производства и технологического процесса прочно закрепились в автомобильной и тракторной промышленности, однако с трудом воспринимались военным производством, в связи со сложностью конструкции отдельных объектов и недостатком квалифицированных кадров.
Несмотря на успехи промышленной политики ВКП(б) в конце 1930-х гг. на большинстве советских предприятий, занятых военным производством, господствовала в основном мелкосерийная сборка и не была отлажена технология массового и поточноконвейерного производства. Тем не менее, несмотря на многочисленные недостатки в работе, связанные с родовыми изъянами административно-командной модели управления экономикой, со своей главной задачей — в кратчайшие сроки оснастить Красную армию современными видами вооружения — военная промышленность СССР справилась. Были заложены и отработаны базовые принципы руководства и взаимодействия ведущих оборонных наркоматов и подготовлена управленческая элита высшего и среднего ранга, в целом оказавшаяся дееспособной в жесточайших условиях Великой Отечественной войны.
Вопрос необходимости проведения индустриализации в столь сжатые сроки и оценка качества созданного производственно-технического потенциала, до сих пор остаются дискуссионными, на них нет единого и убедительного ответа [3, с. 115—122; 7, с. 8—15, 61—67]. Большевистская власть сразу же после революции стала «нерукопожатной» на мировой арене, поскольку их идеология несла системную опасность для тогдашней мировой экономической системы капитализма (империализма). Коренные идеологические противоречия большевизма и капиталистической системы, претензии Советской России на статус независимого от стран Запада центра глобализации сделали невозможным построение устойчивой модели государственномонополистического капитализма.
Несмотря на то, что политическая и экономическая модель НЭПа оказала позитивное влияние на процесс выхода экономики страны из тяжелого кризиса в связи с последствиями Первой мировой и Гражданской войн, ее потенциала было недостаточно для обеспечения качественного скачка в развитии промышленного потенциала [7, с. 73].
Опыт ускоренной трансформации промышленности на основе социалистического ведомственнобюрократического планирования, в момент своего осуществления не имел себе мировых аналогов и проводился в условиях очень ограниченных по своему качеству ресурсов. В результате к концу 1930-х гг. в СССР сложилась замкнутая экономическая система, с невысокой степенью зависимости от мирового капиталистического пространства. Ведомства и отдельные предприятия внутри нее активно устанавливали горизонтальные связи, которые не были четко зафиксированы, что давало возможность ситуативно реагировать на изменяющиеся условия. К концу 30-х гг. в партийно-государственном руководстве СССР сложилось такое отношение к военной промышленности, которое стало классическим в послевоенное время, т. е. определяющим всю экономическую политику станы в целом.
Список литературы Книги памяти города-героя Севастополя: проект времен перестройки
- Ассман, А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика/А. Ассман. -М.: НЛО, 2014. -328 с.
- Ванеев, Г. И. Севастополь: страницы истории, 1783-1983: справочник/Г. И. Ванеев. -Симферополь: Таврия, 1983. -207 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя: в 4 т. -Т. 1. -Симферополь: Таврида, 1994. -750 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя: в 4 т. -Т. 2. -Симферополь: Таврида, 1995. -768 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя: в 4 т. -Т. 3. -Симферополь: Таврида, 1995. -768 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя: в 4 т. -Т. 4. -Симферополь: Таврида, 1995. -846 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя. -Т. 5 (дополнительный). -Симферополь: Таврида, 1995. -975 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя. -Т. 6 (дополнительный). -Симферополь: Бизнес-Информ, 2003. -798 с.
- Книга памяти города-героя Севастополя. -Т. 7. -Симферополь: Фирма Салта ЛТД, 2010. -740 с.
- Нора, П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти//П. Нора, М. Озуф, Ж. Пюимех, М. Винок. Франция -память. -СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. -С. 17-50.
- Севастополь: энцикл. справ./ред.-сост. М. П. Апошанская. -Севастополь: НМГООС, 2008. -1120 с.