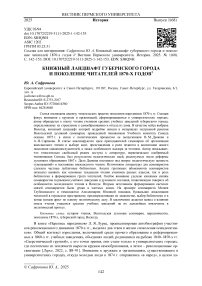Книжный ландшафт губернского города и поколе-ние читателей 1870-х годов
Автор: Сафронова Ю.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Региональная история
Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу читательских практик поколения народников 1870-х гг. Смещая фокус внимания с кружков и организаций, сформировавшихся в университетских городах, автор обращается к опыту чтения учеников средних учебных заведений губернского города, определившему их стремление к самообразованию и отъезд из дома. В качестве кейса выбрана Вологда, книжный ландшафт которой подробно описан в материалах экстренной ревизии Вологодской духовной семинарии, проведенной чиновником Учебного комитета Синода осенью 1875 г. в связи с политическим процессом ее выпускников В. М. Дьякова и А. И. Сирякова. В статье анализируются идеи преподавателей семинарии об организации внеклассного чтения и выборе книг, представления о роли педагога в воспитании нового поколения священнослужителей, а также особенности надзора за чтением. Автор показывает, что относительно свободный режим доступа к литературе, первоначально одобряемый чиновниками Синода, был результатом педагогических идей, реализуемых после реформы духовного образования 1867 г. Дело Дьякова поставило под вопрос педагогическую ценность «увещеваний» в постановке внеклассного чтения. Источником литературы для семинаристов служили частные публичные библиотеки. Анализ групповых абонементов семинаристов позволил выявить как основные тенденции чтения учеников разных классов, так и роль библиотеки в формировании групп читателей. Особое внимание уделено книжным связям семинаристов за рамками учебного заведения и духовного сословия, позволяющим говорить об особенностях молодежного чтения в Вологде. Вторым источником формирования светских связей семинаристов были уроки в частных домах. На примере семинариста Матвея Глубоковского и гимназистки Аполлинарии Юшиной показана буквальная локализация читателей в городском пространстве, предопределившая их знакомство, выбор библиотеки и в конце концов арест по одному политическому делу. В заключении делается вывод о влиянии опыта чтения учащихся средних учебных заведений на их дальнейшее вовлечение в политический протест.
История чтения, Вологодская духовная семинария, народничество, поколение 1870-х, губернский город, Вологда
Короткий адрес: https://sciup.org/147247325
IDR: 147247325 | УДК: 93/94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-142-153
Текст научной статьи Книжный ландшафт губернского города и поколе-ние читателей 1870-х годов
рактерно для историографии народничества, поскольку она опирается на материалы дознаний, в которых, кроме анкетных данных о происхождении, вероисповедании и образовании, была зафиксирована собственно революционная деятельность [ Рубцов , 2023]. Между тем само стремление к высшему образованию, очевидно, было результатом впечатлений, вынесенных из средних учебных заведений в губернских и уездных городах. Оно принималось под влиянием множества факторов, но главную роль в нем играла книга. Чтение, обмен литературой и впечатлениями о прочитанном составляли основу социальной жизни молодых людей, желавших готовиться в университет. В связи с этим необходимо обращение к читательскому ландшафту губернского города как к среде, воспитавшей поколение народников 1870-х гг.
В качестве кейса в этой статье выбрана Вологда. Политический процесс над выпускниками местной духовной семинарии 1875 г. В. М. Дьяковым и А. И. Сиряковым [ Корольчук , 1928; Михайлов , 1977 b ] привел к созданию плотного описания города как пространства чтения тенденциозной литературы, поскольку столичные чиновники тщательно искали вологодские и семинарские корни дела. Вологодский губернатор С. Ф. Хоминский не разделял их взглядов. В частной беседе с ревизором 2 ноября 1875 г. он высказал мнение, что «Вологодская сем[инария] не виновна во вредном направлении», а Алексей Сиряков «заразился» революционными идеями от своего старшего брата Клавдия, студента Петровской земледельческой академии в Москве, высланного на родину за участие в беспорядках (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 145). Он противопоставил разлагающее влияние университетского города благонадежной Вологде. В свою очередь, преподаватели семинарии были склонны обвинять в «развращении» своих воспитанников местное городское общество и особенно политических ссыльных (о ссыльных см. [ Михайлов , 1977 а ]). Только что прибывший в Вологду новый ректор семинарии П. Л. Лосев, сравнивая вологжан с воспитанниками Рязанской семинарии, где он до этого был инспектором, утверждал, что «это кроткий и покорный народ и лучше рязанских, но что чем они проще, тем доступнее увлечениям неблагонадежных личностей» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 140 об.).
Исследователь народничества на Русском Севере Б. Г. Михайлов назвал Вологодскую духовную семинарию «главной кузницей местных народнических кадров» [ Михайлов , 1977 а , с. 64–65]. В доказательство этого тезиса он привел статистику: из 15 вологжан, привлекавшихся к суду по политическим делам в 1870-х гг., 12 были ее выпускниками. Вовлечение семинаристов в революционное движение он объяснял как происхождением детей бедных сельских священников, так и жестоким режимом «бурсы», закономерно порождавшим политический протест [Там же]. Общие рассуждения о духовной школе не учитывают особенностей преподавания и надзора за воспитанниками, а также организации внеклассного чтения и режима доступа к литературе в Вологодской духовной семинарии после реформы духовного образования 1867 г. Приняв семинарию за точку отсчета, в этой статье я проанализирую губернский город как пространство чтения демократической литературы поколения народников 1870-х (о поколении народников см. [ Сабурова , Эклоф , 2016, с. 47‒50]).
Выпускники IV класса Вологодской духовной семинарии Вячеслав Дьяков и Алексей Сиряков осенью 1874 г. поступили в Петербургский университет. С декабря 1874 по апрель 1875 г. они вели пропаганду среди рабочих и солдат столичного гарнизона (Государственные преступления…, 1906, с. 337). Всего по делу Дьякова привлекались семь вологжан: одноклассники Дьякова студент университета А. Н. Нуромский и студент Медико-хирургической академии Ф. А. Четвертухин, проживавшие с последним на студенческой квартире выпускники вологодской гимназии В. П. Ельцов, В. Н. Вячеславов и выпускник вологодской семинарии 1870 г. В. А. Копосов [Михайлов, 1977а, с. 69]. Поскольку Дьяков отказался отвечать на вопрос, где именно он брал запрещенную литературу, большую часть которой составляли издания чай-ковцев, суду не удалось выявить его связи с петербургскими кружками. Первая исследовательница дела Э. А. Корольчук отмечала самобытность революционной программы Дьякова [Ко-рольчук, 1928, с. 18‒19]. Только Б. Г. Михайлов в 1970-х гг. обнаружил его контакты со Всероссийской социально-революционной партией (кружок «москвичей»), установленные через вы- пускника вологодской семинарии 1870 г. А. И. Жукова, студента Технологического института [Михайлов, 1977а, с. 69].
В прошении о помиловании от 12 сентября 1880 г., поданном за две недели до смерти в Новобелгородской каторжной тюрьме, после пяти лет одиночного заключения, Дьяков откровенно описал свое вовлечение в политический протест, подтвердив его вологодские и семинарские корни. Жукова он считал своим злым гением. Они встретились в Петербурге в декабре 1874 г., хотя в Вологде были знакомы настолько, «чтобы при встрече поклониться друг другу». За две недели общения с ним в Петербурге бывший семинарист «…сделался последователем социализма и притом революционером» (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 57. Л. 32).
Разумеется, подходить к тексту Дьякова следует с осторожностью, поскольку основной целью его написания было смягчение участи осужденного, для чего ему необходимо было представить себя жертвой «воспитания, лишенного твердой опоры, располагающего легко подчиняться чуждым влияниям» (Там же. Л. 36). Вместе с тем «жизнеописание» интересно благодаря вниманию ко всем обстоятельствам семинарской жизни, которые, по версии автора, подготовили почву для того, чтобы, оказавшись в Петербурге, выпускник духовной семинарии сделался политическим преступником.
Дьяков писал, что в Вологодском духовном училище он занимался только учебой, но при переходе в семинарию в 1870 г. попал в машину «влияния на умы новичков», которому подвергались все ученики младших классов. «Является к тебе какой-нибудь либеральный воспитанник третьего, четвертого, пятого или шестого классов…, начинает рекомендовать книги, подобные журналам "Русскому Слову", "Делу» и т.п.", ‒ вспоминал он (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 57. Л. 30 об.). Следующий этап развития в 1872/73 уч.г. определила встреча с политическим ссыльным Аверкиевым, под влиянием которого семинарист сменил «прежнее чтение на новое, журналы и газеты на… писателей по рабочему вопросу» (Там же. Л. 30 об.). Весной 1874 г. в Вологду была доставлена нелегальная литература, журнал «Вперед!» П. Л. Лаврова и книга «Государственность и анархия» М. А. Бакунина. Вопреки распространенному убеждению, что эти тексты оказали решающее влияние на формирование поколения 1870-х гг. [ Сабурова , Эклоф , 2016, с. 63‒66], Дьяков утверждал, что они вообще не произвели на него никакого впечатления: «Я отправился из Вологды в Петербург, совсем не думая ни о “Вперед”, ни о том обширном движении в России, о существовании которого он сообщал» (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 57. Л. 31 об.).
Имея в виду цель составления «жизнеописания», а также свидетельство харьковского временного генерал-губернатора А. М. Дондукова-Корсакова, что Дьяков страдал психическим расстройством (Там же. Л. 38 об.), стоит обратить внимание на ключевые моменты признания: систематическое «просвещение» старшекурсниками младших товарищей, переходе от «теоретической» литературы к «реальной», проникновение в Вологду нелегальной литературы и, наконец, доверие к землякам, встреченным в Петербурге. Проверке необходимо подвергнуть не индивидуальную биографию бывшего семинариста, но пошагово очерченную им траекторию вовлечения в политический протест. Действительно ли революционная деятельность в Петербурге была предопределена опытом, полученным в духовной семинарии? В какой мере индивидуальные жизненные траектории представителей поколения 1870-х гг. были обусловлены впечатлениями, вынесенными из жизни в губернском городе и вычитанными из книг, доступных там?
29 октября 1875 г. в Вологду прибыл ревизор действительный статский советник С. В. Керский, уже проверявший в 1869 г. учебные заведения Вологодской епархии. В дополнение к рапорту обер-прокурору Синода и отчету о ревизии, предоставленному в Учебный комитет, он сдал в канцелярию свои черновые материалы, значительная часть которых не вошла в официальные документы. Чтению книг и письменным работам ревизор уделил самое пристальное внимание, поскольку полагал, что это единственное средство воссоздать «картину умственного настроения» семинаристов (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 40 об.).
Осенью 1875 г. в шести классах Вологодской духовной семинарии училось 375 учеников. Семинарское общежитие могло вместить в себя только треть воспитанников, так что 234 ученика жили в 127 вольнонаемных квартирах фактически без всякого присмотра, поскольку инспектор и два его помощника не могли контролировать, что происходит, когда ученики не находились в корпусе. Такую ситуацию ревизор считал ненормальной, а количество вольнонаемных квартир признал бóльшим, чем в любом другом подведомственном Синоду учебном заведении (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 41 об.). Надзор за воспитанниками, с точки зрения Керского, был «внешний»: преподаватели обращали внимание только на дисциплину и посещение уроков, но не интересовались «внутренней стороной» жизни, «развитием наклонностей, привычек и вкусов» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 18).
В отчете ревизор утверждал, что вологодские семинаристы не имели «ничего запретного из книг» (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 45 об.). Такая ситуация была не результатом недосмотра, а следствием целенаправленной политики инспектора семинарии А. М. Малевинского [ Широков , 2022, с. 157‒158]. Чтение вологодскими семинаристами книг регулировалось Правилами поведения 1868 г. Они отличались в некоторых деталях для воспитанников, проживавших в семинарском общежитии, и квартирных учеников. Для последних было указано три вида «домашних занятий», перечисленных по степени важности: подготовка к урокам, составление сочинений и чтение книг. В выборе литературы также существовала иерархия: на первом месте была Библия, вторым «любимым чтением» была названа святоотеческая литература, третьим – духовные журналы, проповеди и книги духовно-нравственного содержания. В правилах была сформулирована общая рекомендация «читать немного, но с толком – не спеша, чтобы после в состоянии дать полный отчет в прочитанном, рассказать порядок мыслей, указать что особенно заняло внимание и передать даже красоты языка» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 45. Л. 111 об.). Предполагалось, что будущий священник должен выбирать литературу, опираясь на нравственное чувство; не руководствоваться долгом, но именно «любить» духовную литературу. Выполнять эти рекомендации вологодским семинаристам было затруднительно: с 1871 г. в семинарскую ученическую библиотеку не выписывали духовных журналов, а после пожара в корпусе семинарии в 1872 г. ученикам перестали выдавать литературу из фундаментальной библиотеки (Там же. Д. 46. Л. 35 об., 139).
Светская литература в правилах стыдливо пряталась под названием «другие книги», при выборе которых воспитанники «должны руководствоваться советами наставников и приспособляться к изучению уроков» (Там же. Д. 45. Л. 111 об.). В Правилах для казеннокоштных воспитанников фигурировали также «недозволенные» сочинения, чтение которых перечислялось сред других «непозволительных занятий» ‒ «игры в карты, пения неприличных песен, курения табаку, употребления охмеляющих напитков» (Там же. Л. 109 об.). В 1875 г. инспектор Е. Л. Прозоровский вынужден был признать, что ученики первых четырех классов в основном читали светскую литературу, поскольку, изучая общеобразовательные предметы, не имели «прямого побуждения читать духовные книги» (Там же. Д. 46. Л. 19).
25 сентября 1871 г. по инициативе ректора правление семинарии обсудило меры по улучшению организации внеклассного чтения. Для семинаристов были введены обязательные письменные отчеты о прочитанном по основным предметам семинарского курса. Учителя со своей стороны обязывались составить списки «полезных книг» и сообщить их учащимся (РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Д. 50. Л. 84). Оценивая результаты этой работы, ревизор С. И. Миропольский писал в 1872 г., что «внеклассное чтение в Вологодской семинарии было поставлено так хорошо, как нигде я не встречал» (Там же. Л. 83). В 1875 г. ревизор С. В. Керский выяснил, что списки полезных книг не обновлялись, а руководством чтением занимался только преподаватель словесности и логики М. И. Орнатский, но и он ко времени ревизии прекратил эту практику «вследствие упадка духа» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 20).
В 1871 г. разработка правил внеклассного чтения была поручена инспектору А. Н. Малевинскому. В пояснительной записке к §135 Устава семинарий, регулировавшего чтение книг, он сформулировал свое видение чтения: оно должно было быть «разумным и плодотворным», для чего преподаватели должны были объяснять «интерес и пользу» знакомства с книгами (РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Д. 50. Л. 85 об.). С 1871 г. ректор вносил сведения о постановке внеклассного чтения в годовые отчеты, уточняя, что преподаватели наставляли воспитанников, «как следует читать книги, на что преимущественно обращать внимание и какие извлекать результаты из чтения полезных книг для науки и жизни» (Там же. Д. 6. Л. 76). В. М. Дьяков иро- нично вспоминал: «Плохо зная семинарские учебники, мы все вообще постоянно брались за восемнадцатитомную историю Шлоссера и другие капитальные книги и читали их так же, как читали какой-нибудь роман или журнальную статью» (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 57. Л. 30 об.).
-
А. Н. Малевинский считал неразумным вводить запреты, полагая, что они могли только «служить прямым и сильным поводом к их [запрещенных книг и журналов. – Ю. С .] чтению» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 18 об.). Вместо этого он использовал «внушения»: «когда видел, что ученик читает, например, журнал, не отвечающий целям семинарского образования, или пустой роман, то считал долгом разъяснить ученику бесполезность или даже вред чтения» (Там же). О действенности «внушений» судить трудно. По собранным С. В. Керский сведениям, до конца 1874 г. инспектор «обладал большим запасом энергии и способностью нравственного влияния на учеников», но семейная трагедия радикально изменила его отношение к своим обязанностям (Там же. Л. 32 об.).
Переписка от марта 1873 г. Алексея Сирякова и выпускника семинарии Петра Дружинина, в 1872 г. уехавшего учиться в Петровскую земледельческую академию в Москве, показывает организацию инспекторского надзора за чтением. Сиряков саркастично писал, что инспектор и его помощник А. Д. Брянцев «ходят… ко мне запросто, без приглашения». В один из таких визитов, не застав семинариста, Малевинский взял «без спроса» книгу: «…не знаю, понравится ли, если бы я сам был дома, то этой бы не дал, а теперь отсоветовать ему читать ее как-то неловко» (Там же. Л. 1 об.). Это сообщение встревожило Дружинина: «Я думаю, что вас нечего предупреждать о таких непрошенных гостях» (Там же. Д. 806. Л. 1). Беспокойство студента легко объяснить, поскольку он снабжал оставшихся в Вологде семинаристов литературой. Весной 1874 г. Сиряков после обыска, произведенного Брянцевым, отдал инспектору нелегальную книгу Н. В. Соколова «Отщепенцы», которую ему оставил во время летних каникул 1873 г. Дружинин (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 48 об.).
Хотя в переписке Сиряков так и не назвал книгу, взятую инспектором, в черновых материалах С. В. Керского есть заметка, позволяющая очертить границы дозволенного и сделать предположение, обнаружение каких изданий было нежелательно. К фамилии Сирякова ревизор оставил короткую запись: «На кв[артире], кажется, Брянцев находил у него “Дело”» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 159). Второй помощник инспектора Н. К. Богословский заявил, что в его обязанности входило «следить, нет ли у учеников журнала “Дело” и т.п.» (Там же. Л. 143 об.). Таким образом, у инспекции были представления о нежелательном чтении, однако, как выяснил С. В. Керский в 1875 г. у самих воспитанников, довольно ограниченные: «Ученикам дозволено читать все журналы, кроме журнала “Дело”» (Там же. Л. 36).
В связи с книгой «Отщепенцы» С. В. Керский в отчете писал: «Обратил ли он [инспектор. – Ю. С. ] внимание на то, что ученик держал у себя запрещенную правительством книгу около года и подверг ли виновного взыскании, остается неизвестным» (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 48 об.). Письма Сирякова не оставляют сомнений, что серьезного наказания за найденную у него литературу семинарист не боялся. В том же 1872/1873 уч. г. у него на квартире была найдена книга Н. И. Наумова «Сила силу ломит», полученная им от студента Медикохирургической академии Клима Панцырева, выпускника семинарии и родственника Дьякова (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 141). Поскольку проводившие обыск вологодские жандармы еще не получили список запрещенных книг, никаких последствий находка не имела. Характерно, что и эту книгу Малевинский оставил у себя (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 48 об.–49).
Выбор в качестве средства воспитания «внушений» вместо прямых запретов объясняется подходом Малевинского к внеклассному чтению. Он полагал, что учителя сами должны знакомить воспитанников с содержанием сочинений, «почему-либо обративших на себя общее внимание и возбудивших в обществе различные толки», особенно если те касались религии, чтобы показать их «одностороннее и вредное направление» (РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Д. 50. Л. 85). Очевидно, инспектор полагал, что влияние наставника может перевесить непосредственные впечатления от прочитанного. Опасным было не содержание книг, а чтение без контроля. Такой подход не разделяли другие учителя, особенно принадлежавшие к старшему поколению.
59-летний преподаватель латинского языка А. И. Попов высказался об инспекторе: «Близорук и физически, и нравственно» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 159).
Организацию внеклассного чтения в вологодской семинарии можно оценить только по материалам ревизии 1872 г., когда принятые годом ранее решения правления еще выполнялись. В основном внимание ревизора С. И. Миропольского привлекли отчеты по словесности и истории литературы, так как он считал их образцовыми, а работу преподавателя М. И. Орнатского заслуживающей всяческого одобрения. Источником статей для внеклассного чтения первоклассникам служили журналы «Живописное обозрение» и «Журнал для детей», второклассникам ‒ «Журнал Министерства народного просвещения» (РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Д. 50. Л. 86‒88). Два ученика II класса сдали отчеты о чтении статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни» (1858). Выбор этого текста был одобрен ревизором, который записал мысли семинаристов о прочитанном: «Убеждения даются нелегко, делают извлечения оба автора отчетов, только тот может иметь их, кто приучен с ранних лет проницательно смотреть на себя, кто приучен с первых лет жизни любить правду, стоять за нее горою и быть непринужденно откровенным, как с наставниками, так и с сверстками» (Там же. Л. 88 об.‒89). Очевидно, ни учитель словесности, ни чиновник Учебного комитета не предполагали, что их воспитанники будут умирать в тюрьме и на каторге за свои убеждения.
В 1875 г. С. В. Керский получил информацию, что на уроках преподавателя философии и психологии Н. Е. Якубова «проскальзывают иногда либеральные идеи», в частности, он объяснял явления святых галлюцинациями. Разбираясь с этим сообщением, ревизор пришел к выводу, что причиной неправильных суждений был рекомендованный Синодом учебник психологии, из которого семинаристы могли почерпнуть идею недоверия ко снам, оставленную преподавателем без должного комментария. В результате знания, полученные семинаристами в общеобразовательных классах, расходились с предметами богословского курса: «…даже у ученика VI класса до сих пор не установилось твердого, строго православного взгляда на предмет» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 39–40). Таким образом, вологодским семинаристам не нужно было сталкиваться с «либеральными» старшеклассниками или ссыльными, основы их убеждений закладывались дозволенным внеклассным чтением и даже учебниками.
Пожар 1872 г. оказал серьезное влияние на чтение учеников, поскольку дал им предлог для посещения городских публичных библиотек. В ученической библиотеке книг было мало, и они не удовлетворяли требованиям программы. Библиотека не пользовалась популярностью: некоторые ученики брали одну книгу в год, другие вовсе ничего из нее не читали (Там же. Л. 139). В. М. Дьяков в «жизнеописании» писал, что библиотека была частью навязываемого старшеклассниками «просвещения»: бедным семинаристам давали «дешевые билеты из публичной городской библиотеки, на что делались иногда денежные сборы» (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 57. Л. 30 об.).
Пользование публичными библиотеками регламентировалось принятыми Учебным комитетом Синода в июне 1872 г. Правилами касательно приобретения книг в ученические библиотеки и порядка чтения оных учениками. Посещать их дозволялось только с разрешения инспекции и под ее контролем (РГИА. Ф. 797. Оп. 42. I отд. 2 стол. Д. 56. Л. 6). По сведениям помощника инспектора Н. К. Богословского, Малевинский проверял у воспитанников читательские билеты публичных библиотек и таким образом следил за чтением книг (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 143 об.). В 1875 г. сменивший его инспектор Е. Л. Прозоровский не только не знал о том, что читают его воспитанники, но и кто из них посещает библиотеки (Там же. Л. 19).
Проведя собственное расследования, С. В. Керский выяснил, что из 375 учеников 62 были подписчиками одной из двух публичных библиотек – Воскресенского или Дорохова. Последняя особенно обратила на себя внимание петербургского чиновника, так как ее содержал выпускник вологодской семинарии Н. В. Дорохов, зять члена правления семинарии от духовенства Н. П. Лавдовского. Казалось бы, при таких условиях она должна была быть безопасной для духовных воспитанников, однако врач семинарии П. И. Орнатский утверждал, что владельцы обеих библиотек думают только о деньгах, «не помышляя вовсе о том, пользу или вред принесет книга» (Там же. Л. 142 об.). Дорохова он охарактеризовал как человека, который не может сам разобраться, «какая книга научна и полезна», поэтому в его библиотеке «вместо дельных книг, такие, как Поль де Кок и др.» (Там же). В действительности в библиотеке Дорохова была только одна книга плодовитого французского сочинителя (Каталог…, 1878, с. 101), но волновала ревизора не она, а выявленные им по каталогу «разные непозвол[енные] уч[еника]м сочинения» В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, А. К. Михайлова, Д. У. Дрейпера, Ч. Дарвина, Г. Т. Бокля, И.-А. Тена, Луи Блана, Г. Бюхнера (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 165).
Ревизор затребовал у учеников, посещавших библиотеки, их читательские билеты с записями о взятой литературе, после чего констатировал «ужасающие размеры» явления, которое он назвал «беспорядочным чтением» (Там же. Л. 139). Проиллюстрировал он его анализом читательских предпочтений второклассника Ивана Гвоздёва. С 20 августа по 29 ноября 1875 г. тот брал журналы «Дело», «Вестник Европы», «Русский вестник», «Современник», «Журнал для родителей» и «Современное обозрение». Кроме того, в читательском билете были записаны «разные романы до 20 названий», сочинения Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова и т.д. (Там же. Л. 36 об. ‒ 37).
Пользование публичной библиотекой требовало денег: необходимо было внести 2 рубля залога и оплатить абонемент по одному из 4 разрядов, от 10 до 4 руб. в год или от 1 руб. 50 коп. до 75 коп. в месяц (Каталог…, 1878, с. 1‒5). Разряд определял количество выдаваемых книг и журналов и время доступа к свежим поступлениям. В результате в Вологде сложилась практика оплаты абонемента вскладчину, которая способствовала установлению тесных связей как внутри семинарии, так и за ее пределами. Из 30 предоставленных С. В. Керскому библиотечных книжек 29 использовались коллективно. Шесть абонементов были оплачены в библиотеке Вознесенского и 23 у Дорохова (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 170–171 об.).
Анализируя пользование библиотеками, С. В. Керский отметил карандашом нежелательную литературу, выданную по каждой библиотечной книжке. Эти записи позволяют выявить некоторые тенденции в чтении учеников разных классов. Групповые абонементы семинаристов двух младших курсов не содержат таких отметок. Возможно, это связано с тем, что они были оформлены на имя старших родственников, которые могли контролировать выбор книг. Так, первоклассники Александр Глубоков и Аполлинарий Беляев пользовались абонементом учителя городского приходского училища Глубокова. Ученики первых двух классов уличались ревизором в чтении неподходящих книг, если пользовались абонементом вместе с учениками III и IV классов, что подтверждает указание В. М. Дьякова о систематическом просвещении младшеклассников «либеральными» старшими. Так, ученик IV класса Аркадий Вознесенский делил абонемент с учеником III класса Петром Резвухиным и первоклассником Василием Лебедевым. На этот абонемент были взяты романы А. Ашара «Прямо к цели» (1875), С. И. Смирновой «Соль земли» (1875), Бертмана «Кому достанется?» (1870) и сочинения В. Г. Белинского. Выбранный ревизором в качестве иллюстрации вседозволенности второклассник Гвоздёв читал книги вместе с учеником III класса Андреем Сумароковым.
На абонементы, в оплате которых участвовали ученики IV класса, в основном получались журналы «Дело» и «Знание». На 10 групп читателей приходится шесть упоминаний «Знания» и четыре ‒ «Дела». Выбор учеников III класса, состоявших в 11 группах, был более разнообразным. Например, они брали сочинения Д. И. Писарева, Н. В. Шелгунова и Ф. М. Достоевского. При этом количество выдач им «Знания» и «Дела» было меньше ‒ 3 и 1 соответственно. С. В. Керский выявил только одного пользователя библиотеки в V классе и ни одного в выпускном. Возможно, в богословском отделении семинарии действительно остались только воспитанники, собиравшиеся принять сан и вовсе не интересовавшиеся чтением. Не менее вероятно, что из-за регулярных обысков после процесса Дьякова и Сирякова (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 106. Л. 1 об.) они научились лучше скрывать свою жизнь от начальства.
Особенно обращают на себя внимание кооперации семинаристов за пределами семинарии. С. В. Керский закономерно увидел в них способ обходить надзор, «…когда из библиотеки берется книга не безвредного или пустого содержания, ссылаться на то, что книга была взята не им, а одним из соподписчиков» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 36 об.). Всего таких случаев 12, но четыре приходятся на родственников воспитанников. Из оставшихся восьми абонементов четыре были оформлены совместно с чиновниками, которые, судя по фамилиям, сами были выпускниками семинарии, т.е. выходцами из духовного сословия. Наибольший интерес вызывают оставшиеся четыре абонемента, которые дают возможность говорить о связях семинаристов вне духовного сословия. Такая ситуация значительно отличается от соседней Архангельской епархии, где ученики в основном были замкнуты в тесных границах духовного ведомства [Сафронова, 2023].
Ученики V класса Александр Голубев и IV класса Александр Харьюзов брали книги в библиотеке Дорохова вместе с гимназистом Иваном Куракиным. За ними числились журналы «Дело» и «Знание», а также сочинения Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Семинарист III класса Сергей Суворов пользовался абонементом на имя гимназиста Дертовского, они брали романы Ф. М. Достоевского «Идиот», Д. Л. Мордовцева «Знамения времени» и сочинения Д. И. Писарева. Семинарист IV класса Александр Воронов вступил в кооперацию не только с гимназистом VI класса, но и с учительницей женского Успенского училища. Наконец, Никанор Сергиевский, также из IV класса, читал книги вместе с двумя гимназистками VI и VIII классов. Им были выданы не только журналы «Знание» и «Современник» за 1864 г., но и сочинения Д. И. Писарева и П.-Ж. Прудона. Два сочинения Сергиевского обратили на себя внимание С. В. Керского. В работе по философии он процитировал запрещенного семинаристам Л. Фейербаха. В этом случае обращает на себя внимание факт, что тему сочинения задал 22 ноября сам ревизор, т.е. ученик не посчитал нужным прибегнуть к самоцензуре, по-видимому, не видя проблемы в цитате «Бог есть воплощение всех идей человеческих» (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 46). В богословском сочинении на книгу пророка Исайи он позволил себе высказаться «неприличным тоном»: литургии «не от чистого сердца, нечистыми руками, все это одна форма, выжигание свечей и фимиаму – дань, взятка Богу» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 36).
-
С. В. Керский особенно тщательно стал изучать библиотеку Дорохова после разговора с учеником IV класса Матвеем Глубоковским. Семинарист сообщил о полученном в апреле 1875 г. анонимном письме, которым неизвестные приглашали его в кабинет для чтения Дорохова, чтобы познакомить с «предметами, которыми в настоящее время интересуются все настоящие люди» (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2. Д. 85. Л. 53 об.–54). По инструкции, ему следовало взять последний номер газеты «Голос» и довериться человеку, который попросит ее. На закономерный вопрос, почему он не сообщил о письме сразу, ученик ответил, что опасался мести ‒ «его убьют или по крайней мере искалечат на века» (Там же).
Даже если Глубоковский неверно передал ревизору содержание письма или вовсе придумал эту историю, важно зафиксировать детали, которые казались правдоподобными и ему, и ревизору: неизвестные, пытавшиеся вовлечь юношу в незаконную деятельность, обещали «бесплатно и без всякого труда… подробные сведения и книги» (Там же). Интерес к себе со стороны загадочных личностей Глубоковский объяснил тем, что в III классе дал повод заподозрить себя в «либерализме и недовольстве существующими учебными порядками» (Там же).
Несмотря на нелестную характеристику, данную Глубоковскому («подвижная и юркая, а может, и плутоватая натура»), С. В. Керский на основании его сообщения пришел к заключению, что в самой семинарии нет революционного кружка, иначе анонимам не пришлось бы придумывать сложные схемы вовлечения учеников в свои темные дела. В отчете он связал распространение революционных идей в семинарии с деятельностью политических ссыльных, которые специально охотились на духовных воспитанников, видя в них «лучших пропагандистов для народа» (Там же. Л. 52 об.). Он уловил закономерность в том, что поступали в университеты, радикализировались и становились участниками противозаконных сообществ те семинаристы, кто зарабатывал частными уроками в городе. Не предполагая, что духовные воспитанники сперва ставят себе цель получить высшее образование, а потом пытаются заработать на него, ревизор пришел к выводу, что «агенты» революционного общества нарочно подыскивают семинаристам уроки, чтобы «крепче привязать их к себе» (Там же. Л. 59 об.).
Сразу несколько преподавателей семинарии сообщили о том, что Дьяков давал уроки в частных домах. Н. Е. Якубов утверждал, что юношу «могла испортить светская среда», а
М. И. Орнатский ‒ что тот был «принят в домах дворян» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 148 об., 152). Расследуя причины радикализации Дьякова, С. В. Керский выяснил, что в 1874 г. центром притяжения молодежи был дом помещицы Шеиной, пятидесятилетней жены бывшего вологодского полицмейстера К. П. Шеина, жившей отдельно от мужа. Там регулярно давались любительские спектакли, один из которых был устроен в пользу бедных семинаристов, собиравшихся поступать в университеты. Священник кладбищенской церкви Андреев утверждал, что Дьяков был одним из главных распорядителей этого спектакля (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 51–51 об.). Н. П. Лавдовский утверждал, что интерес вологодского общества семинаристы вызвали «после того, как удался опыт с Журавлевым, бывшим семинаристом, а теперь доктором, ездившим в кругосветное плавание с вел[иким] кн[язем] Ал[ексеем] Ал[ександрови]чем. Журавлеву помогала Шеина» (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 138). Последнее свидетельство особенно интересно, так как показывает, что мотивом провинциальных благотворителей действительно могла быть помощь в получении высшего образования, а не политизация духовных воспитанников.
Убедившись во вредном влиянии «слишком оппозиционно настроенного общественного мнения города Вологды» (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 53–53 об.), ревизор посчитал необходимым собрать сведения обо всех частных уроках семинаристов. Как и в случае с публичными библиотеками, инспекция не имела полных данных о заработках своих воспитанников (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 46. Л. 20). С. В. Керский выявил 28 учеников IV‒VI классов, которые давали уроки в частных домах. Их учениками были как дети городской элиты (семьи начальника станции железной дороги, управляющего телеграфным округом, мирового посредника и т.д.), так и зажиточных мещан и крестьян.
Хотя Матвею Глубоковскому, если, конечно, можно верить «плутоватой натуре», удалось избежать «дурного общества» в библиотеке Дорохова, он попал в его сети из-за уроков у купца Я. Я. Юшина, где подвизался в качестве учителя математики с октября 1875 г. (Там же. Л. 136 об.). Возможно, выбор был связан с близостью к квартире, в которой он жил: Новопетровская улица, где он квартировал у сапожного мастера Воронова, пересекала Александровскую, где стоял дом Юшиных (ГАВО. Ф. 130. Оп. 9. Л. 32). Его квартира также находилась в непосредственной близости от библиотеки Дорохова (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. I отд. 2 стол. Д. 85. Л. 53), читательницей которой была и его ученица Аполлинария Юшина (о Юшиной см. [ Rubtsov , 2021; Сафронова , 2022]). 19-летняя девушка готовилась поступать в Петербург на медицинские курсы. В декабре 1876 г. из-за переписки с нею он был привлечен к делу о пропаганде в империи, так как при обыске у курсистки, участвовавшей в Казанской демонстрации, были найдены две фотографии – его и Дьякова (РГИА. 1405. Оп. 75. Д. 7155. Л. 3).
Глубоковский был отнюдь не первым семинаристом в окружении Юшиной, с сентября в доме Юшиных преподавал его одноклассник Александр Харьюзов. Уехав из Вологды, Глубо-ковский и Юшина продолжали обмениваться новостями об общих знакомых, поэтому к их делу, как и в случае с делом Дьякова ‒ Сирякова, были привлечены выпускники и ученики вологодской семинарии. Глубоковский жил в Москве на одной квартире с уже известным нам Никанором Сергиевским и двумя студентами Московского университета, из которых один, Иван Чижов, также был их одноклассником в семинарии. К делу был привлечен юнкер Московского пехотного юнкерского училища Леонид Благолепов, выпускник вологодской семинарии, который показал, что посещал дом Юшиных в Вологде (Там же. Л. 14 об.). В дневниковой записи Юшиной от 8 ноября 1875 г. был упомянут семинарист III класса Константин Заболотский, который предрек ей быть «бесполезным концом общечеловеческой машины», если она не попадет «под влияние хорошего человека» (РГИА. Ф. 1410. Оп. 1. Д. 108. Л. 134 об.). Хотя на основании отрывочных данных невозможно восстановить всю сеть связей молодых людей, можно констатировать, что в доме Юшиных семинаристы бывали не только на уроках.
Поскольку в показаниях все привлеченные к дознанию выпускники вологодской семинарии отрицали, что когда-либо вели «политические разговоры» (РГИА. 1405. Оп. 75. Д. 7155. Л. 14), следователям оставалось использовать только изъятые при обыске письма Глубоковско-го и Юшиной и ее дневник, в котором она вела записи о прочитанных книгах и делала выписки их них. Прокурор Московской судебной палаты обнаружил этих записях «противоправительственный образ мыслей» и факты чтения «запрещенных правительством книг» (Там же. Л. 4 об.). В частности, Юшина цитировала фигурировавшую в деле Сирякова книгу Н. В. Соколова «Отщепенцы» и брошюру В. Е. Варзара «Хитрая механика». В показаниях она утверждала, что списала цитаты с листка, случайно попавшегося ей в начале 1875 г. в книге, взятой в библиотеке Дорохова (Там же. Л. 5). Аналогичные показания она дала по поводу дискуссии о Лассале, которую они с Глубоковским вели в переписке: «Сочинения Лассаля, какие именно, она не помнит, она брала в 1870 г. в публичной библиотеке в Вологде». Глубоковский также утверждал, что с этим автором он «знаком по некоторым журнальным статьям, прочитанным им в публичной библиотеке» (Там же. Л. 12 об.). Судья по каталогу, в библиотеке можно было взять единственное сочинение Лассаля «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия», опубликованного в № 9 журнала «Современник» за 1865 г. (Каталог…, 1878, с. 31). Обыск в библиотеке Дорохова не дал никаких результатов (РГИА. 1405. Оп. 75. Д. 7155. Л. 5 об.).
Заочная дискуссия петербургских и вологодских чиновников о том, где именно находится источник антиправительственных идей ‒ в университетских городах, в которых молодые люди за несколько месяцев превращаются в государственных преступников, или «на родине», была закончена императором. 30 сентября 1875 г. Александр II запретил принимать выпускников Вологодской духовной семинарии в университеты и другие высшие учебные заведения (РГИА. Ф. 797. Оп. 45. Д. 90. Л. 5 об.). Таким образом, Вологда и местная духовная семинария были признаны источником порчи, от которой надо обезопасить студентов, поступающих в высшие учебные заведения из более благонадежных городов.
Изучение книжного ландшафта губернского города позволяет выявить важные особенности чтения представителей поколения 1870-х гг. Несмотря на общее скептическое отношение к духовному образованию [ Манчестер , 2015, с. 250], первоначальные импульсы интереса к новым идеям духовные воспитанники могли получить в рамках учебной программы. Их проводниками были не отдельные «либеральные» преподаватели, а сама система образования в реформированной после 1867 г. семинарии, которая делала ставку на воспитание нового поколения просвещенных священнослужителей. Педагогические эксперименты инспектора вологодской семинарии, первоначально вызвавшие одобрение чиновников Учебного комитета Синода, после дела Дьякова были признаны вредными. Контролируемое учителями чтение и увещевания не работали, поскольку тексты оказались сильнее наставлений педагогов. В дальнейшем Синод пошел по пути введения запретов и ограничений, которые способствовали еще большей радикализации духовных воспитанников.
Центрами притяжения читателей в губернском городе были публичные библиотеки. Необходимость платить за абонемент создавала благоприятные условия для складывания читательских групп, состав которых был пестрым, в отличие от читательских предпочтений. Общие абонементы и уроки в частных домах собирали молодежь в сообщества читателей, интересовавшихся передовой литературой и обсуждавшей прочитанное. Важно подчеркнуть, что библиотеки удовлетворяли запрос на легальную литературу, которая сама по себе была способна сформировать радикально настроенных молодых людей. Зафиксированное в материалах читателей знакомство с литературой нелегальной не осмыслялось ими как разрыв со всем предыдущим опытом чтения: Лассаля можно было прочитать и в легальном журнале, выдаваемом по абонементы публичной библиотеки. Опыт чтения, как и опыт общения с единомышленниками, в том числе за пределами среднего учебного заведения, оказывал определяющее влияние на решение ехать в университетский город для получения высшего образования. Вовлечение в политический протест через землячества было возможно именно вследствие сформированных на родине крепких связей, предопределявших устойчивые контакты после отъезда, а также доверие к землякам.
Список литературы Книжный ландшафт губернского города и поколе-ние читателей 1870-х годов
- Корольчук Э. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга в середине 70-х годов // Каторга и ссылка. 1928. № 1 (38). С. 7‒26.
- Лурье Л.Я. Перепись народников: от Нечаева до Дегаева. СПб.: Нестор-История, 2022. 304 с.
- Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России / пер. с англ. А.Ю. Полунова. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 439 с.
- Михайлов Б.Г. Новое о кружке В.М. Дьякова и А.И. Сирякова // Освободительное движение в России. 1977a. Вып. 6. С. 61‒79.
- Михайлов Б.Г. Предвестники бури. Очерки о революционных народниках-вологжанах. Архан-гельск: Сев.-Запад. кн. изд-во, 1977b. 121 с.
- Рубцов А.А. Антиправительственное движение 1860‒1870-х годов и деятельность органов поли-тического дознания в Российской империи (законодательные нормы и следственная практика): дис. … канд. ист. наук. СПб., 2023. 224 с. EDN: HAPOVF.
- Сабурова Т., Эклоф Б. Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов. М.: НЛО, 2016. 448 с.
- Сафронова Ю.А. Самообразование vs внеклассное чтение: светская литература в православных духовных семинариях после реформы 1867 г. // Антропологический форум. 2023. № 57. С. 61‒85. DOI: 10.31250/1815-8870-2023-19-57-61-85. EDN: POMFGC.
- Сафронова Ю.А. Читательский дневник «настоящего человека»: практики чтения поколения 1870-х годов // НЛО. 2022. № 2 (177). С. 58‒71.
- Широков Ф. Вологодская духовная семинария во второй половине XIX – начале XX в. Вологда: Арника, 2022. 412 с.
- Rubtsov A. La construction du sujet politique dans l’Empire Russe des années 1870: le journal personnel d’Apollinarija Jušina // Revue des études slaves. 2021. № XCII-1. P. 57‒69. DOI: 10.4000/res.4129. EDN: DHDQCI.