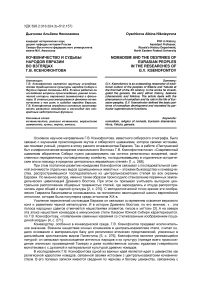Кочевничество и судьбы народов Евразии во взглядах Г. В. Ксенофонтова
Автор: Дьячкова А.Н.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 22, 2015 года.
Бесплатный доступ
Г.В. Ксенофонтов является крупным исследователем традиционной культуры народов Сибири и Якутии первой половины XX в. В своих работах он исследовал вопросы происхождения, ранней этнической истории, верований (шаманства) и фольклора. В статье рассматривается феномен кочевничества и его роль в судьбах народов Евразии. Г.В. Ксенофонтов определил основные закономерности развития номадизма и воссоздал его конкретные надстроечные функции.
Кочевничество, религия кочевников, евразийское шаманство, хунны, якуты, генезис
Короткий адрес: https://sciup.org/14937905
IDR: 14937905 | УДК: 398.2:316.324.3(=512.157)
Текст научной статьи Кочевничество и судьбы народов Евразии во взглядах Г. В. Ксенофонтова
Основное научное направление Г.В. Ксенофонтова, известного сибирского этнографа, было связано с изучением происхождения якутов и сибирского шаманизма, которое своими истоками, как понимал ученый, уходило в эпоху раннего кочевничества Евразии. Так, в работе «Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока» Г.В. Ксенофонтов писал: «Современный шаманизм аборигенов Сибири нужно рассматривать как остаток религиозных воззрений, свойственных передвижному скотоводческому хозяйству, господствовавшему в отдаленные исторические эпохи повсюду в пределах центральных евразийских степей» [1, c. 268].
При этом поэтапное развитие номадизма Ксенофонтов связывал с последовательной сменой значимости отдельных видов одомашненных животных – эпохами быководства и коневодче-ства, распространявшихся последовательно из центральноазиатских степей во все окраины Евразии. По мнению автора, именно таким образом происходило становление первичных земледельческих цивилизаций Древнего Востока. При этом он призывал учитывать выгодное центральное расположение обширных травянистых степей, где зарождались и откуда распространялись идеи общей и единой культуры [2, с. 270]. С методологической точки зрения эти соображения Гавриила Васильевича основывались на положениях эволюционной школы европейской этнологии, которая была популярна среди этнологов XIX в.
Усиление переселений скотоводов Евразии он связывал со временем освоения верхового коня и развитием черной металлургии. И в истории Древнего Востока, по его мнению, «…эта полоса народных сдвигов отмечается нашествиями эламитов, гиксов и хеттов» [3]. А на севере эта эпоха нашествия коневодов в минусинские степи Хакасии Южной Сибири характеризуется, по Г.В. Ксенофонтову, «появлением каменных изваяний со стилизованным изображением лошадиной морды» [4, c. 271].
Коневодству, особенно в коневодческой среде, Г.В. Ксенофонтов придавал исключительное значение. Военное нашествие конных кочевников в центральноазиатские степи, считал он, дало основание и материальную базу для религиозно-этических представлений, усвоенных в дальнейшем христианским миром Палестины [5, c. 276]. Ксенофонтов являлся увлекающейся натурой: он связывал происхождение античных народов и их культуру (прежде всего происхождение эпических произведений Гомера) и даже хозяйственные основы иудаизма («еврейского монотеизма») с духовной и материальной культурой древних номадов.
В исследованиях Г.В. Ксенофонтова одной из важных идей является идея о шаманстве как религиозной идеологии номадов, связанной своими истоками с центральноазиатским кочевничеством. В его полевых записях имеются сведения по черному и белому шаманству, связанному с культами рогатого («бычьего») и конного скота. В последующие годы этнограф Т.В. Жеребина поддержала мнение Ксенофонтова о том, что белое шаманство было связано лишь с коневодческим хозяйством скотоводов Сибири [6, c. 90–95]. В монографии Д.С. Дугарова прослежены более глубокие корни происхождения белого шаманства у бурят и якутов, которые тянутся к курыканам Прибайкалья и имеют древнее раннекочевническое центральноазиатское (индоевропейское) происхождение [7, c. 19]. По мнению якутского исследователя, шаманство возникло в период номадизма и было распространено повсюду в пределах евразийских степей с отдаленных исторических эпох.
Таким образом, согласно Г.В. Ксенофонтову, шаманство – явление скорее интернациональное, возникшее в степях Центральной Азии со времен гуннов и древних тюрков. В этом своем утверждении он, скорее всего, был не прав, так как шаманство – явление общераспространенное и относится к так называемым племенным религиям.
По общепринятому научному определению кочевничество – это форма хозяйственной деятельности, основанная на экстенсивном скотоводстве, требовавшем сезонного перемещения скота на новые (обновленные) пастбища. Скотоводы-кочевники во II–I тыс. до н. э. сформировали общности в основном в природно-ландшафтных зонах Евразии. На рубеже II–I тыс. до н. э. кочевничество выделилось как особая форма ведения хозяйства. Но у кочевников евразийских степей сложилась особая классическая культура кочевых скотоводов: передвижное жилище на колесах, с начала нашей эры оно сосуществовало с разборной юртой, особенно распространенной в средневековье. Важную роль в хозяйстве кочевников играли войлок, кожа, пища, отличавшаяся преобладанием конского и бараньего мяса, обилием молочных продуктов и сушеного сыра.
Из сибирских этнографов на феномен кочевничества впервые обратил специальное внимание Г.В. Ксенофонтов. Так, в 1930-х гг. он собрал материалы, указывающие, как утверждал исследователь, на древнее родство якутов с хуннами Центральной Азии. Он связывал хунну с этногенезом народа саха через «отуреченных тунгусских стрелков Прибайкалья», которые представляли в войсках хунну их передовой отряд [8, c. 203–211]. Это мнение впервые было высказано известным советским археологом и тюркологом А.Н. Бернштамом в 1935 г. в статье «Происхождение турок» (имел в виду «тюрков». – А.Д.). «Являясь частью гуннского объединения, – писал он, – якуты составили его северную окраину…» [9, с. 53].
Предположение ученого нашло поддержку в работах позднейших исследователей, которые обнаружили наличие параллелей в орнаментальном искусстве хуннов и якутов, а также в языке (С.В. Иванов, Е.С. Сидоров) [10, c. 174–183; 11, с. 53–63]. Кроме того, предположение Г.В. Ксенофонтова получило поддержку со стороны известного петербургского археолога – специалиста средневековой истории Южной Сибири Д.Г. Савинова. Он отмечал, что собранные им материалы обозначают хуннское наследие в формировании традиционной культуры скотоводов Лены [12, c. 61–70].
Истокам хуннского времени в якутской этнокультуре была посвящена небольшая статья А.И. Гоголева, где он подтвердил мнение Г.В. Ксенофонтова об участии в происхождении якутов древних хунну, занимавших территорию современной Внешней Монголии. Он выразил также согласие с предположением Д.Г. Савинова о том, что для характеристики этнографического облика населения Центральной Азии и отчасти Южной Сибири на рубеже двух эр до образования древнетюркских каганатов, очевидно, следует обратиться к якутской палеоэтнографии [13, c. 63–64].
Во время экспедиционной поездки в 1921–1925 гг. по Якутии, Иркутской области и Минусинской котловине Г.В. Ксенофонтов собрал огромный фольклорный материал по шаманству народов Восточной и Южной Сибири. Начиная работать в Иркутском университете, он какое-то время читал лекции по истории Древнего Востока и увлекся не только историей, но и верованиями древних народов Востока. Из всего этого у Г.В. Ксенофонтова родилась идея сравнительного анализа шаманских представлений и религиозных культов и верований древних народов Леванта (восточного побережья Средиземного моря), из которых в дальнейшем развивались библейские сюжеты.
Воплощением этой идеи явился сборник материалов по шаманизму под названием «Хрестес. Шаманизм и христианство», изданный в Иркутске в 1929 г., где Г.В. Ксенофонтов проводит ряд аналогий между шаманскими и евангелистскими представлениями: легендарные шаманы, как Иисус, рождаются девой от сопряжения с духом, сошедшим с неба; нахождение младенца-шамана среди коров и оставление его в коровьих яслях; момент искушения духами призываемого к шаманству; идея трехдневного умирания шамана [14, c. 115–131]. Сама идея была не нова. Еще в 1911 г. видный русский востоковед-этнограф Г.Н. Потанин выдвинул предположение о том, что «в основе евангелисткой легенды о Христе лежит центральноазиатская шама-нийская легенда, что образ самого Христа создан по образу, за много веков раньше существовавшему в глубине Азии» [15, c. 114].
Однако это не означает, что генезис христианства следует искать в среде ранних номадов Центральной Азии. Это понимал и сам исследователь. И при сопоставлении (сравнении) он в основном исходил из типологического единства кочевого скотоводства у древних евреев и номадов в Южной Сибири. Суть концепции Г.В. Ксенофонтова заключена в двух, очень важных для него положениях. Первое: ранние формы как шаманизма, так и христианства возникли в одинаковых условиях – в условиях разлагающегося первобытнообщинного строя. Проводя подобные параллели, он писал: «…христианские представления могут быть сопоставимы с шаманскими только в том случае, если эти параллели берутся из первобытного народного “христианства”, зародившегося в умах кочевников – древнееврейских племен» [16]. Второе: феномен номадизма прослеживается как в шаманских воззрениях скотоводов Сибири, так и в ранних религиозных воззрениях древнего населения Западной Азии.
В целом основанием для сравнительного сопоставления евангелистcкого христианства с шаманскими обрядами и мифологическими сюжетами, по мнению Г.В. Ксенофонтова, является тот факт, что якуты до начала XХ в., благодаря удаленности от цивилизации, малочисленности русских колонистов, сумели сохранить свою древнюю степную культуру. Этим обстоятельством он объяснял чистоту сохранности исконно кочевнических религиозных представлений и мифологических сюжетов, определившихся на заре раннего номадизма и воспринятых предками якутов [17, c. 120]. Сравнительно-сопоставительный анализ, использованный здесь Г.В. Ксенофонтовым, напоминает метод лингвогеографических исследований, предложенный итальянским филологом М. Бартоли. Он установил, что более архаические стадии языка сохраняются в изолированных областях, то есть в периферийных географических ареалах. В нашем положении таковым является Якутия.
Таким образом, отождествление Г.В. Ксенофонтовым древнееврейских пророков с шаманами приводит к мысли о том, что и в шаманских воззрениях скотоводческих народов Сибири прослеживается комплекс представлений, аналогичных мессианским концепциям в христианстве. Эти идеи прослеживаются и в содержании материалов сборника «Эллэйада». Гавриил Васильевич считал, что духовной базой древнееврейских кочевых племен являлась дохристианская религия, ставшая своеобразной идеологией патриархального пастушеского общества с выраженной раннеклассовой структурой. По его глубокому убеждению, содержание фольклорных материалов «Эллейады» отражало мифотворчество пастушеского быта южных предков якутов.
Материалы, собранные Г.В. Ксенофонтовым по шаманскому фольклору народов Сибири, позволили ему в рамках алтайской языковой общности попытаться создать единую идейно-мифологическую основу всего сибирского шаманства, возникшего в среде кочевников Центральной Азии. В шаманстве, верованиях, обрядах, священных церемониях, символике, лексике, магических основах всего этого он искал устойчивую теологическую базу, пытаясь придать ей статус целостной, давно сформировавшейся в условиях раннего кочевничества религиозной системы. Ее основой Ксенофонтов считал религиозный дуализм.
Таким образом, Г.В. Ксенофонтов одним из первых обратил внимание на изучение кочевых обществ Евразийского континента, попытался определить основные закономерности развития номадизма, выводя взаимосвязи форм скотоводческого хозяйства с шаманизмом и культивированием ездовых животных, а также воссоздать его конкретные надстроечные функции и в первую очередь верования.
Ссылки и примечания:
-
1. См.: Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды (публикации 1928–1929 гг.). Якутск, 1992.
-
2. Там же. С. 270.
-
3. Эламиты – народность, в III тыс. до н. э. в Двуречье, среднем течении рек Тигр и Евфрат, образовавшая государство. Гиксы – полукочевые племена, продвигаясь из Восточного побережья Средиземноморья (Леванты) через Синайский полуостров в Древний Египет в конце Среднего царства, привели с собой лошадь и связанную с ней культуру. Хетты – первые индоевропейские племена, образовавшие в XVIII в. до н. э. на территории Малой Азии Хеттское государство.
-
4. Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 271.
-
5. Там же. С. 276.
-
6. Жеребина Т.В. К вопросу о «белом» и «черном» шаманстве у якутов // Религия первобытного общества в свете современных данных. Л., 1984.
-
7. Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства (на материалах обрядового фольклора бурят). М., 1991.
-
8. Ксенофонтов Г.В. Урангхайсахалар. Очерки по древней истории якутов : в 2 т. Т. 1, кн. 2. Якутск, 1992.
-
9. Бернштам А.Н. Происхождение турок // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 4–5.
-
10. Иванов С.В. К вопросу о хуннском компоненте в орнаментике якутов // Якутия и ее соседи в древности. Якутск, 1975.
-
11. Сидоров Е.С. Этюды по сравнительно-исторической лексике якутского языка // Советская тюркология. 1985. № 3.
-
12. Савинов Д.Г. Дотюркский пласт в палеоэтнографии якутов // Сибирский сборник-2. СПб., 2010.
-
13. Гоголев А.И. Отражение истоков хуннского времени в якутской культуре // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2014. № 1.
-
14. Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 115–131.
-
15. Там же. С. 114.
-
16. Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 3–4.
-
17. Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 120.
Список литературы Кочевничество и судьбы народов Евразии во взглядах Г. В. Ксенофонтова
- Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды (публикации 1928-1929 гг.). Якутск, 1992
- Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 271
- Жеребина Т.В. К вопросу о «белом» и «черном» шаманстве у якутов//Религия первобытного общества в свете современных данных. Л., 1984.
- Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства (на материалах обрядового фольклора бурят). М., 1991.
- Ксенофонтов Г.В. Урангхайсахалар. Очерки по древней истории якутов: в 2 т. Т. 1, кн. 2. Якутск, 1992.
- Бернштам А.Н. Происхождение турок//Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 4-5.
- Иванов С.В. К вопросу о хуннском компоненте в орнаментике якутов//Якутия и ее соседи в древности. Якутск, 1975.
- Сидоров Е.С. Этюды по сравнительно-исторической лексике якутского языка//Советская тюркология. 1985. № 3.
- Савинов Д.Г. Дотюркский пласт в палеоэтнографии якутов//Сибирский сборник-2. СПб., 2010.
- Гоголев А.И. Отражение истоков хуннского времени в якутской культуре//Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2014. № 1.
- Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 115-131.
- Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 3-4.
- Ксенофонтов Г.В. Указ. соч. С. 120.