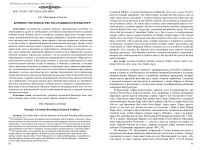Кочевое скотоводство в калмыцком фольклоре
Автор: Манджиева Байрта Барбаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Скотоводство номадов являлось традиционным способом хозяйствования и одним из необходимых источников жизнеобеспечения в условиях кочевой жизни. Важное место в хозяйстве занимало разведение четырех видов скота: крупный рогатый скот, овцы, лошади, верблюды. Сведения о ведении кочевого скотоводства и связанные с ними обряды и обычаи сохранились в фольклоре и служат одним из проявлений развития номадической культуры. Целью статьи является анализ малоизученных сведений о кочевье, о структуре хозяйства, четырех видах скота у калмыков, их характеристик, отраженных в калмыцких сказках, эпосе «Джангар», обрядовой и афористической поэзии. Обращение к анализу понятия «кочевье» в фольклоре показало, что оно является многокомпонентным образованием и связано с постоянным передвижением кочевников. Образная сторона понятия «кочевье» в фольклоре сводится к медленно движущимся по степи многочисленным группам людей на лошадях, в кибитках и повозках со стадами скота, временами делающих остановки на некоторый срок; откочевка сравнивается с исчезновением каких-либо силуэтов, отсутствием в обозримом пространстве движения: «пустое» пространство есть признак обезлюдения. Скот в фольклоре тюрко-монгольских народов воспринимается как символ богатства и благосостояния. Калмыки, с древних времен занимавшиеся скотоводством, накопили богатый опыт обращения с четырьмя видами скота. Кочевой мир калмыка, его многовековой опыт, жизненные наблюдения, глубокие мысли и мудрость, сохранившиеся в фольклоре в виде уникальных образцов, являются подтверждением того, что скотоводство как традиционный способ хозяйствования являлось главным занятием калмыка-скотовода.
Скотоводство, традиция, калмыцкий фольклор, конь, верблюд, корова, овца, сказка, эпос, песня, обряды, поверья, приметы
Короткий адрес: https://sciup.org/149127448
IDR: 149127448
Текст научной статьи Кочевое скотоводство в калмыцком фольклоре
Скотоводство номадов являлось традиционным способом хозяйствования и одним из необходимых источников жизнеобеспечения в условиях кочевой жизни. Важное место в хозяйстве занимало разведение четырех видов скота: крупный рогатый скот, овцы, лошади, верблюды. Сведения о ведении кочевого скотоводства и связанные с ними обряды и обычаи сохранились в фольклоре и служат еще одним подтверждением развития номадической культуры.
В фольклоре тюрко-монгольских народов скот воспринимается как символ богатства и благосостояния. Так, например, в зачине калмыцких народных сказок дается описание страны героя и его несметного богатства: «Хар Ьалзн мортэ Хадр Хар Авйин Хан Сопок» (Вороного с лысиной коня имеющего Хадыр Хара Авги Хан Сенаки): Хар Ьалзн мертэ Хадр Хар Aeh пег cap борзатын бор довун deep hapad, харул харна. Харул хархла, малнь эк зах чигн уга, то-йа гих юмн уга болж;ана И [Как-то раз] Хадыр Хара Авга, у которого был вороной с лысиной конь, поднялся на широкий степной холм, чтобы окинуть взором округу. Обозрел - скоту его конца-краю нет, неисчислим он был [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 366 367]; в сказке «Манджик-Зарлик и его работник» богач Монгон Оргоджик имел неисчислимое богатство: «...для его скота не хватало ни травы, ни воды: табунов числом не счесть, кованые сундуки добра полным-полне-хоньки» [Калмыцкие народные сказки 1961, 79].
По мнению С.П. Тюхтеневой, «определить точное количество скота у владельца скотовода внешнему наблюдателю достаточно сложно. Точную численность своего стада знает лишь он сам. Или пасущий это стадо - ибо они знают “в лицо” каждое животное» [Тюхтенева 2017, 131]. В сказках

неисчислимость скота указывает не только несметное богатство, но и на то, что «у калмыков, как и у многих других скотоводов, бытует традиционное представление о запрете считать поголовье скота. Счет, по представлениям калмыков, означает, что нечто считаемое может закончиться, и потому считать можно одежду, обувь, посуду - но не пищу, не людей, не звезды и не скот» [Бакаева 2009, 15]. В зачине калмыцких народных сказок описание страны героя-богатыря и его несметного богатства обязательно включает указание на неисчислимость скота: исчисление является приметой возможности установления границы, неисчисляемое - бесконечно.
Монголы подразделяют скот на две группы: халун хошу мал (животные с горячим дыханием) - это лошади и овцы, и хиитан хошу мал (животные с холодным дыханием) - верблюды, крупный рогатый скот и козы. Все эти животные, составляющие основное богатство кочевников-скотоводов, имеют обобщающий термин - табан хошуумал (пять видов скота). В монгольской сказке «Эрийн сайн хар нудэн Цэвээн хуу» («Черноглазый смелый мальчик Цебен») также изображается неисчислимый скот: Малладаг мал нь гэвэл: /Араараа дуурэн ай тумэн адуутай / Оврее дуурэн уй тумэн адуутай [Памятники фольклора 2017, 485] // Если говорить о скоте, который разводят: / То это бесчисленное множество скота позади, / Бесчисленное множество скота впереди. - перевод автора статьи Б.Б. Манджиевой.
Буряты разводят пять видов скота (ухэр мал, адуу мал, адууйан), и считалось, что наличие всего набора обеспечивает хозяину полный достаток. В фольклорной традиции бурят существует обобщенное название табан хошун мал (пять видов скота), перечисляют их в следующей последовательности: морин эрдэни (конь драгоценный), ухэр (крупный рогатый скот), хонин (овцы), яман (козы), тэмэн (верблюды). В бурятской волшебной сказке «Хилгендэй Мэргэн» описание богатства воплощено в формулу: «Многочисленные табуны [хана] / Заполняли всю северную сторону, / Бесчисленные стада его / Заполняли всю южную сторону» [Бурятские волшебные сказки 1993, 31].
В фольклоре алтайцев ярко выражена лесная зона их обитания. В алтайской народной сказке «Талтар» («Коростель») обилие скота сравнивается с изобилием растительности: «На Алтае жил каан Ай-Каан. Скота у него было столько же, сколько кустов акации...» [Алтайские народные сказки 2002, 83]; в другой алтайской сказке «Созвездие семи каанов» семеро парней-сирот «вокруг земли семь раз обойдя, весь Алтай шесть раз обойдя», к поселению одного каана пришли и увидели, что «вскормленный им белый скот всю поверхность Алтая заполнил, народ-племя его всю землю заселил. Скот его - как черный лес, народ-племя его - как кусты акации. Вскормленный им белый скот не различить по шерсти, а народы-племена языки друг друга не понимают. Белый ёргё его, который на коне не объехать, стоит, достигая бело-синего неба Золотая коновязь его, к которой коней привязывают, стоит, достигая луны и солнца» [Алтайские народные сказки 2002, 215].
Понятие «кочевье» в фольклоре является многокомпонентным обра- зованием и связано с постоянным передвижением кочевников. Образная сторона понятия «кочевье» в фольклоре сводится к медленно движущимся по степи многочисленным группам людей на лошадях, в кибитках и повозках со стадами скота, временами делающих остановки на некоторый срок; откочевка сравнивается с исчезновением каких-либо силуэтов, отсутствием в обозримом пространстве движения: «пустое» пространство есть признак обезлюдения [Церенова 2005].
В сказочной и эпической традиции тюрко-монгольских народов красочно изображается страна героя. Для кочевых народов маркерами пространства выступают наиболее заметные координаты природного ландшафта: по вертикали - горы, горные массивы, валуны, а по горизонтали -реки, моря, океаны, раскинувшаяся по сторонам гор степь. Обязательным условием новой кочевки являлось наличие водных ресурсов (рек, ручьев, источников), равнины, горы или скалы, у основания которых можно было установить юрту или укрыть скот в невзгоду.
Кочевники с особым почтением относились к водным источникам и горам, сооружали ова, поклонялись хозяину местности и произносили йо-рял - благопожелание. Так, например, в калмыцкой фольклорной традиции сохранилось благопожелание «Назран тэклЬно йорал», произносимое при совершении обряда поклонения духам-хозяевам местности:
Улан залата халъмг эмтн / Улан зандн цээИэр оеежэн ергэд, / ЦаИан идэЬэн деегшэн цацад, / Деедс, тецгрэсн хур сурэк;анаеидн, / Ку заясн тенгр, / Кумс манд заятн! / Теигр, бурхд, хур орултн! / Корст э hasp услэк;, / Кок Hohahap / Тег бутэлИтн, / Кун мал угон / Идх-уух эдл-ууш / Элвг-делвг йовултн! / Хамг ширг, хор-шалтгиг / Хур-бораИар дартн! / Эрэк; сурж;анаеидн. / ЗурИан зуулин хамг эмтн / Амулц эдлтхэ! / Иерэл буттхэ! [НА КалмНЦ РАН Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 171] // Мы, калмыки, с красной кисточкой / Крепким чаем [калмыцким] подношение совершаем, / Молочной пищей возлияние совершаем, / Верховных божеств просим нам дождь даровать! / О, небо, жизнь нам подарившее, / Пропитание нам ниспошли! / О, небо и бурханы, дождь нам даруйте! / Чтобы благословенная твердь земная напиталась, / Чтобы зеленой травой / Степь покрылась, / Чтобы людям и скоту / Было чем кормиться, пропитания / В изобилии нам ниспошлите! / Все болезни [скота], опасные недуги / Дождем и снегом придавите! / С мольбой обращаемся к вам! / Шести видов живые существа / В благополучии пусть пребывают! / Да будет так! - перевод ТА. Михалевой.
Как известно, номады начинали кочевку на летние пастбища весной, когда природа, проснувшись после долгой зимы, расцветала многотра-вьем. Перед кочевкой необходимо было провести обряд очищения всего имущества, поэтому поджигали можжевельник и окуривали вещи и жилище. Перед перекочевкой на летние пастбища алтайцы также проводили обряд очищения, почитали дух огня и приговаривали благопожелание (алкыш):

Северный охраняющий бурхан, ночь и день жилище охраняй. Охраняющий поясом бурхан, до осени за злыми духами смотри И не пускай ночью, смотри.
Через порог жилища Эрлика бия, черных злых духов, не пускай, Пусть мое жилище не ломается, осенью перекочую, Приеду, сделанное жилище пусть не ломается, Летом постоянно буду приезжать [Алтайцы 2004, 156].
В песенной традиции калмыков сохранились лирические песни, называемые «этудэр дуулдг дун» («песни, поющиеся тайно»), которые отражают перекочевку. В песне певец-скотовод обращается к овце:
Манахн, манахн мацИдур нуух, Манцын Иолар Иатлн нуух, ХурИан хайсн чи
Хатрн таелад йовхич [Борджанова 2007, 424].
Наши, наши завтра будут кочевать,
Через реку Маныч переправляясь, будут кочевать,
Бросившая ягненка, ты, [овца],
Будешь скакать, скакать...
(Перевод автора статьи Б.Б. Манджиевой).
«При перекочевке огонь семейного очага увозят с собой и, установив очаг на новом месте, совершают обряд жертвоприношения огню» [Борджанова 2007, 126], произносят благопожелание «Нал тоэлЬно йерал» («Благопожелание, посвященное обряду жертвоприношения огню»):
Торскн орн-нутгтан, / Аае-ээжоэн, бээсн Иазр-усндан дееж;эн оргж;энэеидн. / Тевр суултэ, тевш семжтэ, / ТорИн нооста, цаИан толИата, / Шар толИата хоонэ кишг ирх болтха! / Аршм оертэ, улан Иалзн, шар цоохр малый / Кишг ирх болтха! / Тумн нээмн мицИн агт адуна - / Туунэ кишг ирх болтха! /Дорен нудтэ хар баргин - / Туунэ кишг ирх болтха! / Шил сээтэ ковудин - / Теднэ кишг ирх болтха! / Орлэ босад оркэн хэрулдг, /Ьалан тулэд, цээИэн чандг, / ЧигэИэн булэд, эркэн нердг, /Кедлмш кехлэ, кузуИэрн зуткэн ордг /Берэчудин кишг ирх болтха! [НА КалмНЦ РАН Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 171] // Родной стране, / Духам предков своих и местности нашей подношение совершаем. / С курдюком в обхват, с нутряным жиром с корыто / Тонкорунных белоголовых, / Желтоголовых овец стада пусть множатся! / Длиннорогих красных и жёлто-пёстрых [коров] / Стада пусть множатся! / Многотысячных скакунов табуны / Пусть множатся! / С белыми пятнами над глазами чёрные сторожевые псы / Пусть тоже размножаются! / Красивые юноши / Пусть счастливы будут! / Встав на рассвете, которые дымник открывают, / Огонь разведя, чай варят, / Пахтают кумыс и гонят араку, / Привычные трудиться в поте лица / Молодицы пусть счастливы будут! - перевод Т.А. Михалевой.
После обустройства на новом месте хозяин кибитки угощал родственников и соседей. Старший из присутствующих произносил благопожела-ние «Шин буурт нууж; ирснэ йорэл» («Благопожелание, произносимое на новом месте кочевки»):
Буухд утан бургж;, / Ну ухо тоосн бургж;, / Буурин буйн-кишг / Буусн эзнднъ халъдж;, /Хул, худл уга, /Хов-шив уга, / Чен, нохан аюл уга, /Хур-боранъ дуслж;, / Хурц нарнъ мандлж;, / Зурмна толИад хадлИта, / Зуухин амн тооста. / Укр, гууни сужу / Усн, таен элвг, / ХаалИар йовсн улс / ХажуИарн эс hapmxa. / Хэр, халунас ирснднъ / ХаалИин ундинъ белож;, / Хээстэ хотан кеж;, / Буурин елзэ халъдж;, / Бусдын аюлас зээлцИу, / Бурн-теге менд / Бугдэр амулц бээцхэтн! [НА КалмНЦ РАН Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 171] // Пусть над стойбищем вашим дым поднимется, / А во время перекочёвки пыль поднимется, / Пусть это место счастливым / Для нового хозяина будет! / Без воровства и лжи, / Без сплетен и пересуд [живите], / Пусть скот ваш плодится-множится, / Пусть благодатными будут дожди, / Пусть яркое солнце светит всегда, / Густой и высокой будет трава, / А коровы и кобылицы / В изобилии дают масла и молока! / Пусть те, кто в дороге, / Мимо нас не проедут, / Пусть незнакомыми будут, но [и в холод,] и в зной / Жажду пусть они утолят, / Приготовленное пусть поедят! / Пусть это место счастливым будет, / Без бед и несчастий, / Без потерь и утрат / В благополучии живите! - перевод ТА. Михалевой.
У калмыков существует множество поверий, среди которых присутствуют запреты, связанные со скотоводческой обрядностью. Согласно запрету, связанному с ногтями человека, необходимо было остриженные ногти закапывать в землю и тщательно притоптать ногой, чтобы ногти не выступали на поверхность и не попали в желудок скоту. Закапывать нужно было, приговаривая:
Би чамаг укрт бичэ заасв,
Чи намаг уклд бичэ за.
Би кегшн буурл евгн (эмгн) болсув.
Чи тецгр цаИан хад бел.
Текин евр тецгрт курен цагт
Темэнэ сул Иазрт курен цагт
Би чамд мерн хошта
Хен кумстэ ирнэв [Ользеева 2003, 148].
Я не выдам тебя корове,
Ты не выдай меня смерти.
Пусть я стану седовласым стариком (старухой).
Ты же станешь белой скалою.
В то время, когда бараньи рога достанут неба,
В то время, когда верблюжий хвост достигнет земли,
Я приду к тебе со своей кибиткой, Подарками и угощениями. (Перевод Б.Б. Манджиевой).
В старину некоторые калмыки верили в разные поверья и говорили, что «корова считается животным, которое стремится сделать что-нибудь неприятное, нехорошее людям» [Душан 2016,208]. По этому поводу в калмыцком фольклоре сохранились следующие поверья о корове:
Укрмал ж;оралхла -му йор. / Укр жоралхларн: «Хумха тайг, хумха тайг» гиж жоралдгчн. И Если коровы идут иноходью - плохая примета. / Корова, когда идет иноходью, говорит: «Высохший череп, высохший череп».
Укр мал хар санатаж,, кеерэс хэрхлэрн, хашаИан хээрж; хамхлхм гиж хэрдгж;. И Корова - злонамеренное животное, когда возвращается с пастбища, то идет с мыслью сломать скотный двор.
Укр хар санатаж;. Укр, унсн кун укр деерэс унхла, евдтхэ гиНэд, укр еврэн тэвж егдгж;. Укр тиим хар санатаж;. И Корова - злонамеренное животное, когда наездник падал с коровы, то она подставляла рога, чтобы человек ранился.
Укр мал киитнд дуртаж;. Тер юнгас) гихлэ, укр зуна халунд туруна салад ввкн хээлнэ гидгж, увлд цасн шухтнад бээхлэ, амрад бээдгж; [Алтн чеежтэ келмрч 2010, 103] // Коровы любят холод. Потому что, коровы говорят, что в летний зной у них тает жир меж копыт, им нравится, когда зимой под копытами скрипит снег. -перевод Б.Б. Манджиевой.
Овцы являлись основными животными в стаде. Наблюдения калмыков-скотоводов за их повадками сохранились в поверьях об овце:
«Хон мал ж;оралхла - сэн йор. И Если овцы идут иноходью - хорошая примета.
Хон: «МицЬн тумн, мицйн тумн» гиж ж;оралдгж;. И Овца, когда идет иноходью, говорит: «Тысяча туменов (тумен - букв, десять тысяч), тысяча туменов».
Лошадь являлась самым любимым животным кочевника, она ценилась дороже всего. Калмыки называли лошадь драгоценностью, потому как всадник не расставался со своим конем ни в будни, ни в праздники. Поверья, связанные с конем, подтверждают все положительные качества этого животного:
Мер унсн кун мерн деерэс унхла, бича евдтхэ гиНэд, мерн делэн делгж; егдгж;. Мерн тиим цаИан санатаж;. И Если наездник падал с лошади, то она подставляла шею, чтобы не было больно падать. Вот такое доброе животное - лошадь.
Хальмг кун мериг «мерн эрднь» гиж келдг. Тиигэд, мернэ толИа кеер кевтхлэ, кеду ж;ил болен болвчн, хумха толИаг яИж кевтв чигн чиклэд тэвх кергтэ. Тер цагт буйн болдг гиж келдг. Мернэ толИаг нар хэлэлИж тэвдгж;. И Калмык называет коня «конь драгоценный». Если в пути встречался иссохший череп коня, то сколько бы времени ни прошло, независимо, как бы он не лежал, необходимо было [остановиться, слезть с коня и] поправить его. Тогда человек заслуживал добродетель. Череп коня направляли к солнцу.
Мерн зултрИн оеснд йир дуртаж;. Тер юнгас) гихлэ, морн келдгж;: «Долан хонг-тан зултрИ идхлэрн, довун болад тарИлхв». И Лошадь любит степную траву прутняк. Потому что лошадь говорит: «Если в течение семи суток буду есть прутняк, то поправлюсь, словно холм».
Эмэлин омнк буург уга болхла, хальмг кун йорлдг бээж;. Тер толэд хальмг кун емнк буург уга эмэл йорлад пюхдго Гюж. И Если не было передней седельной луки, то калмык верил в примету. Поэтому калмык не седлал седло без передней седельной луки» [Алтн чссжкэ келмрч 2010, 103].
Калмыки, с древних времен занимавшиеся скотоводством, накопили богатый опыт обращения с четырьмя видами скота. По внешним признакам и повадкам животных кочевники могли дать животным характеристику, которая определилась в такой отдельный жанр устного народного творчества, как шинэ^ (примета).
Темэнэ шинж ХулИн чиктэ, Укр гестэ, Барс тавгта, Туула хамрта, Лу бийтэ, Moha нудтэ, Мерн делтэ, Хон нооста, Мечн бектэ, Така ерулгтэ, Ноха hyuma, haxa суултэ.
Приметы верблюда. С ушами как у мыши, С брюхом как у коровы, С лапами как у барса, С носом как у зайца, С телом как у дракона, С глазами как у змеи, С гривой как у лошади, С шерстью как у овцы, С горбом как у обезьяны, С пухом как у курицы, С бедром как у собаки, С хвостом как у свиньи. [Саглр ээжин туульс 1989, 13].
В приведенном устном произведении верблюд сочетает в себе признаки диких и домашних животных, его образ изображается, на первый взгляд, в простейших, но в то же время глубоких по значению сравнениях. Верблюд сочетает в себе исключительные качества сравниваемых животных.
В жизни кочевников верблюд являлся неотъемлемым атрибутом в хозяйстве, он не только помощник, но и дорогое существо. Калмыки почитали и уважали верблюдов. Они были лучшими перевозчиками больших грузов, в знойное время верблюд мог прожить без воды и еды до пятишести дней. Отличительная особенность верблюда от других животных связана с тем, что приплод он приносит раз в несколько лет и плод носит одиннадцать месяцев. Если только что родившегося верблюжонка кто-то потрогает руками, то верблюдица может отказаться от детеныша. В этом случае находили специального человека, который должен был исполнить заговорную песню. Исполнитель становился на колени перед верблюдицей и начинал жалостливо петь о судьбе верблюжонка:
Булгин усн кезэ / Ширгнэ болИнач, / Бобн-бобн боэкула? /БурИсн модн кезэ / Бу йена болИнач / Бобн-бобн боэкула? / Хом арймжар / Хомнулад уга, / Бобн-бобн боэк;ула. / Хойр бокэн / СертэлИэд уга / Бобн-бобн боэкула? / Ун телвулэд уга, / Бобн-бобн божула. / Утцн-маралж;н киисгдэд уга / Бобн-бобн боэкула. / Тен-бервэн тинилИэд уга, / Бобн-бобн боэкула. / Булгин усн кезэ / Ширгнэ болИнач, / Бобн-бобн боэкула? /Боре уга ботхан /Кезэ босна болИнач, /Бобн-бобн боэкула? // Вода в роднике / Когда, думаешь, высохнет, / Бобн-бобн боджула? / Дерево верба / Когда, думаешь, исчезнет, / Бобн-бобн боджула? / Груз на [ее спине] еще не навьючивали / При помощи веревки, / Бобн-бобн боджула. / Еще не торчат / [Ее] два горба, / Бобн-бобн боджула. / Когда она падала, не стремилась [встать], / Бобн-бобн боджула. / Легкий коврик еще не свалился [с ее спины], / Бобн-бобн боджула. / Подколенные сухожилия еще не выпрямляла, / Бобн-бобн боджула. / Вода в роднике / Когда, думаешь, высохнет, / Бобн-бобн боджула? / Верблюжонок без сухожилий / Когда, думаешь, встанет [на ноги]? / Бобн-бобн боджула? [Терскн Базрин дуд 1989, 51].
По свидетельству очевидцев, от такого пения верблюдица плакала, словно человек. «Тогда немного сцеживают молоко, обтирают им верблюжонка и подносят матери. Та после того, как тщательно обнюхает, облизывает и обычно принимает детеныша» [Ользеева 2003, 161]. К сожалению, в современное время все меньше остается исполнителей песен-прируче-ний, которые издревле бытовали в фольклорной традиции калмыков.
В духовной культуре кочевников, в народных верованиях и обрядах, в фольклоре конь занимает важное место. Именно благодаря верховому коню устанавливались различные контакты между кочевым и оседлым населением. Прекраснейшие описания коня, воспевающегося в сказках, эпосе и в других жанрах фольклора, соответствовали эстетическим запросам слушателей - ценителей красоты коня. «Почитание кочевниками-скотоводами коня - спутника, друга, обусловлено спецификой культуры. Конь делает для кочевника далекое близким; в сказках он наделяется сверхъестественными возможностями, могуществом, достойным хозяина-богатыря; в отдельных обрядах калмыков выступает в качестве символа транспортного средства между мирами. Представление лошади как оберега от нечистой силы отразилось в калмыцком обычае помещать лошадиную голову как магическую защиту неподалеку от кибитки, поставленной отдельно в степи» [Калмыки 2010, 459].
В калмыцком героическом эпосе «Джангар», сказках, мифах, легендах, песенной традиции встречаются различные масти коней, например, скакун Джангар-хана - «зеерд» (рыжий), богатыря Хонгора - «кок Иалзн» (серый с лысинкой), богатыря Санала - «буурл Иалзн» (чалый с белой полосой), а также встречаются такие масти коней, как «кеер» (бурый), «хул» (саврасый), «хоцИр» (соловый), «бор» (серый), «алг» (пегий), «Иалзн» (с лысинкой, с белой полосой), «саарл» (буланый). В сказочной и песенной традиции калмыков герои ездят на конях таких мастей, как «курнг» (бурый), «алтн шарИ» (золотисто-соловый), «ашнъалг» (белобокий), «амнь Иалзн» (с белой мордой), «саарл» (буланый), «харИалзн» (черный с лысиной), «чилмхар» (вороной), «сагсгсаарл» (буланый), «шарИ» (соловый), «цоохр» (пестрый), «бурхнзеерд» (рыжая), «кеер» (бурый), «хурдналг» (пегий), «кеер» (бурая), «бор» (сивый, серый) и многие другие.
К предметам и деталям конской сбруи относятся: седло, подушка седла, лука седла, тебеньки, торока, стремена, потники, подпруги, подхвостник, нагрудник, узда, удила, поводья, подшейная кисть, а также аркан, путы, переметные сумы. Седло является символом воинской полноценности мужчины, его достоинства. В эпосе седло описывается подробно со всеми принадлежностями и в соответствии с действительными особенностями его у кочевых народов. В песне Малодербетовского цикла «Джанга-ра» дается детальное описание седлания коня богатыря Хонгора:
Дегмецгн делтр талъвб, /Дегцмецгн тохм талъвб, /Дешме^гн эмэл талъвб, / Зурлдгч зуран экинъ / ЗууИин шар алтн худрИ / Гевдэд унв. / Шор сээхн суулинъ / Сеглэк; бээИэд, / Зуран хар мах дахулв; / Турмин алтн кевцг талъвхдан / Ту^ долан
мицк цокад, / Кв хорн таен тодгтэ татурар /Ьолшглуйин Кокиг чишктл тате. / Экни жирн зурИан олнгиг / Дарцг цаИан эрвц / Тасртл тате. / Лац шар алтн ом-рувчин / Далн хойр шар алтн товчинъ / Далын хар бэргр махнд / Дээвлтл татад товчлв; /Бумбин Улан ХопОрин ууднд цервулв [Джангар 1978, 58] // Серебром расшитый подпотник положили, / Сверху расшитый серебром потник постелили, / Как наковальня, широкое посеребрённое седло на нём укрепили, / На круп его с буграми мышц / Из освящённого жёлтого золота подхвостник / [Брошенный] упал, / Подобно кораллу красивый хвост его / Приподняв, / На крупе его затянули; / Турфанским золотом расшитую седельную подушку, / Точно семь тысяч раз взбив, положили, / С двадцатью пятью красивыми застёжками заднюю подпругу, / До ржания-крика Кёке доведя, затянули. / Должными шестьюдесятью шестью подпругами / Складчатый брюшной жир / До разрыва затянули. / Из ланов жёлтого золота нагрудник / Семьюдесятью двумя жёлто-золотистыми застёжками / На плечелопаточных буграх / Так застегнули, что зашатался [скакун]. / К дверям [дворца] бумбайского Улан Хонгора его подвели. - перевод ТА. Михалевой.
В устном народном творчестве монголоязычных народов выделяется своеобразный жанр - магтал (восхваление). Поющиеся стихотворные описания достоинств и красоты коня встречается в героическом эпосе «Джангар». По мнению Ю.М. Соколова, «Джангар» является «эпосом прославленных всадников <...> ни один эпос не уделил столько любовного внимания обрисовке коня, ухода за ним, его повадок, красоты, его качеств» [Соколов 1963, 24]. Б.Л. Рифтин выделил такую важную особенность в данном жанре, как «расчлененное, с явной гиперболизацией» описание коня [Рифтин 1982, 71].
В героическом эпосе «Джангар» после полной выстойки (те. определенного режима кормления) конь приобретает прекрасные признаки, «приводящие в восторг ценителей красоты коня» [Кичиков 1992, 253]:
Иомбин улан гесиг Нол талон авад, ЬолъшглуЬин зуркэн Тольтан йилИэд, Дарцг цаИан эрвц[гэн] Давсг талон авад, Чикн цацу далц цорИ болад, Нудн цацу кукл эрвц болад, Сэн бийэн сээр талон авад, Сээхн бийэн чееэк; талон авад, Хурдн бийэн
Дорен Иашг алтн турун талон авад, Туула сээхн зоота, Тошл сээхн йуйта, Ялмн сээхн хаата, Ецсг сээхн толИата,
Орм сээхн нудтэ, Оргн сээхн чееэк;тэ, Ол йо^хр
Дерен Иашг алтн турута
[Джангар 1978, 59]
Упругий красивый живот К хребту подобрав, Нежное сердце, Обросшее жиром, освободив [от него], Брюшной белый жир,
К паху подтянув [помчался он].
На загривке жир, что вровень с ушами был, растаял, На глаза налезавшая заплетённая чёлка растрепалась, Стать рысистую к крупу подбирая, Красу свою к груди подбирая, Резвость свою
К четырём золоту подобным копытам подбирая, Как у зайца, прекрасна спина у него, Гладки красивые бёдра его,
Как у тушканчика, прекрасны передние ноги его, Грациозна, красива голова его, Как свёрла бурава, остры глаза его, Широкая красивая грудь у него, Крепки
Четыре прекрасных копыта его.
(Перевод Т.А. Михалевой)
Таким образом, в калмыцкой фольклорной традиции конь является и спутником, и помощником героя, с его помощью богатырь преодолевает большие расстояния, совершает подвиги, побеждает врага, восстанавливает мир и гармонию на родной земле.
Самобытная афористическая поэзия калмыков включает различные жанры: пословицы, поговорки, загадки. В пословицах нашли отражение достоинства, привычки, повадки животных. «Пословицы и поговорки разных народов отражают типичные черты и качества, традиционно закрепленные за определенными животными. Особенностью пословиц и поговорок является антропоцентризм как проявление характерной традиции приписывания животным положительных и отрицательных черт человека» [Надбитова 2012 а, 161]. В представлениях калмыков овца занимает важное место, потому как данное животное является традиционным как в ритуальных действиях, так ив повседневной жизни кочевника. В устной народной поэзии сохранились следующие образцы:
Когшн хон ургмтхэ. И Старая овца пуглива. Малый турунд бух, / Махна турунд ууц. И Во главе стада бык, / Лучшая часть мяса - крестец [Пословицы, поговорки 2007, 56]. Хен суулин тела, / Кун урнэннъ тела. И Овца ради курдюка, / Человек ради детей [Пословицы, поговорки 2007, 45]. Ьанцхн хон чонын хотнь болдг. И Одинокая овца становится волку добычей [Пословицы, поговорки 2007, 150]. Хойр иньг ни болхла, нег иргин аренд багтдг, /Хойр иньг ни уга болхла, долан иргин аренд багтдг уга И Если двое дружны, то устроятся на шкуре одного барана, / Если не дружны, то не поместятся и на шкурах семи баранов [Пословицы, поговорки 2007, 101].
В калмыцком фольклоре бытуют пословицы о верблюдах. Они характеризуют повадки, нрав, характер, величину, силу, выносливость и многие другие положительные качества животного:
НурЬарн темой чицго,
УхаЬарн товчин чицго.
Ростом с верблюда,
Умом с пуговицу.
[Пословицы, поговорки 2007, 226]
Атн темог
АрЬмжин кучор ачдг.
Верблюда-кастрата
Навьючивают силой аркана.
[Пословицы, поговорки 2007, 365]
НомЬн темой
Ноолхд сон.
Спокойного верблюда
Хорошо теребить.
[Терски Ьазрин дуд 1989, 60]
Буульсн ицгиг ботхнднь кургж хацЬадг,
Бульглсн зуркиг иньгтнь кургж тогтнулдг.
Успокаивают ревущую верблюдицу, отведя ее к верблюжонку, Успокаивают трепещущее сердце, отведя к любимой.
[Пословицы, поговорки 2007, 394]
Суулин темони ацан кунд,
Суудрин барань ик.
Груз последнего [в караване] верблюда бывает тяжелым, Очертание тени бывает огромным.
[Пословицы, поговорки 2007, 417]
Куми кирорн, Темой тецгорн.
Человек по своим возможностям, Верблюд по своему вьюку. [Пословицы, поговорки 2007, 433].
Афористическая поэзия калмыков связана с особенностями животных. Наблюдения кочевника-скотовода выражены в следующих пословицах:
Аля кун алядан дурта
Ора мерн орадан дурта
Непутевый любит бездельничать,
Необузданный конь любит быть строптивым.
[Пословицы, поговорки 2007, 423]
Буульсн ицгиг ботхнднь кургж хэцЬадг, Бульглсн зуркиг иньгтнь кургж тогтнулдг.
Ревущую верблюдицу успокаивают, подводя к верблюжонку, Трепещущее сердце успокаивают, подводя к любимому.
[Пословицы, поговорки 2007, 363]
«Образ коня, его бег, быстрота и выносливость являются источником для поэтических метафор, сравнений и других изобразительных приемов в калмыцкой паремиологии» [Надбитова 2012 Ь, 285].
Теесн мерн тер Ьазртан курхлэ сон, Тиигнов гиен залу тер угдон курхлэ сон. Хорошо, когда конь, который везет, достигнет места назначения, Хорошо, когда мужчина, сказав, что сделает, держит слово.
[Пословицы, поговорки 2007, 23]
Гуухд - гул хурдн, гужрхд - ажрЬ хурдн.
Для бега - кобылица быстра, для выносливости - жеребец быстр. [Пословицы, поговорки 2007, 23].
Пословицы и поговорки калмыков, отражая национальную специфику этноса, представляют кочевой мир калмыка, его скотоводческий опыт, жизненные наблюдения, глубокие мысли и мудрость, выраженные в кратких афоризмах.
Таким образом, обращение к анализу понятия «кочевье» в фольклоре показало, что оно является многокомпонентным образованием и связано с постоянным передвижением кочевников. Калмыки-скотоводы выработали определенный метод чередования пастбищ, который давал возможность восстановления травяному покрову и обеспечивал скоту круглогодичный корм. Скот в фольклоре тюрко-монгольских народов воспринимается как символ богатства и благосостояния. Калмыки, с древних времен занимавшиеся скотоводством, накопили богатый опыт обращения с четырьмя
видами скота, который нашел отражение в калмыцких народных сказках, героическом эпосе «Джангар», обрядовой и афористической поэзии. Кочевой мир калмыка, его многовековой опыт, жизненные наблюдения, глубокие мысли и мудрость, сохранившиеся в фольклоре в виде уникальных образцов, являются подтверждением того, что скотоводство как традиционный способ хозяйствования являлось главным занятием калмыка-скотовода.
Список литературы Кочевое скотоводство в калмыцком фольклоре
- Алтайские народные сказки / сост. Т.М. Садалова. Новосибирск, 2002.
- Алтн чеежтэ келмрч Боктан Шаня. Хранитель мудрости народной Шаня Боктаев / сост., предисл., коммент. и прилож. Б.Б Манджиевой. Элиста, 2010.
- Бурятские волшебные сказки / сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров. Новосибирск, 1993.
- Джангар. Калмыцкий героический эпос. Т. 1. / сост. А.Ш. Кичиков; ред. Г.И. Михайлов. М., 1978.
- Калмыцкие богатырские сказки / вступит, ст. Б.Б. Манджиевой; сост. Б.Б. Манджиевой, Т. А. Михалевой, Ц.Б. Селеевой. М., 2017.
- Калмыцкие народные сказки / под ред. И.К. Илишкина, УУ Очирова. Элиста, 1961.
- Научный архив КалмНЦ РАН. Ф. 5, оп. 2, ед. хр. 171. С. 13. Запись Эрдни-Горяева М.Э.-Г. в г. Элисте от Амбековой Б.П. в 1991 г.
- Памятники фольклора монгольских народов. Т. 3. Сказки. М., 2017.
- Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая / сост. и пер. Б.Х. Тодаевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. Элиста, 2007.
- Саглр ээжин туульс (Сказки бабушки Саглар) / сост. Т.Г. Борджанова. Элиста, 1989.
- Терскн Иазрин дуд / сост. Б.Б. Оконов. Элиста, 1989.
- Тувинские народные сказки / сост. З.Б. Самдан. Новосибирск, 1994.
- Бакаева Э.П. Двадцать копеек - это семьдесят денег // Этнографическое обозрение. 2009. № 2. С. 13-16.
- Борджанова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста, 2007.
- Душан УД. Избранные труды / сост. В.В. Батыров, Т.И. Шараева. Элиста, 2016.
- Калмыки / отв. ред. Э.П. Бакаева, Н.Л. Жуковская. М., 2010.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар»: сравнительно-типологическое исследование памятника. М., 1992.
- (а) Надбитова И.С. Калмыцкие пословицы и поговорки о домашних животных // Участие калмыков в укреплении российской государственности: Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию российской государственности и Году российской истории (г. Элиста, 29 ноября 2012 г.). Элиста, 2012. С. 161-165.
- (b) Надбитова И.С. Образ коня в калмыцких пословицах и поговорках // Участие народов России в Отечественной войне 1812 г. Материалы Всероссийской научной конференции (г. Элиста, 11-14 сентября 2012 г.). Элиста, 2012. С. 283-287.
- Ользеева С.З. Калмыцкие обычаи и традиции. Элиста, 2003.
- Рифтин Б.Л. Из наблюдений над мастерством восточномонгольских сказителей (магтал коню и всаднику) // Фольклор. Поэтика и традиция. М., 1982. С. 70-92.
- Соколов Ю.М. «Джангар» и эпос народов СССР // Сборник материалов, посвященных 500-летию калмыцкого народного эпоса. Элиста, 1963. С. 24-29.
- Тюхтенева С.П. Одна черточка - одна сотня: к вопросу о способах подсчета скота у тюрко-монгольских народов // Oriental Studies. 2017. № 5. С. 130-140.
- Церенова Ж.Н. Концепт «кочевье» в калмыцкой, русской и американской лингвокультурах: дис. ... к. филол. н.: 10.02.20. Волгоград, 2005. URL: http://31f. ru/dissertation/page,2,474-dissertaciya-koncept-kocheve-v-kalmyckoj-russkoj-i-amerikanskoj-lingvokulturax.html (дата обращения: 15.01.2020).