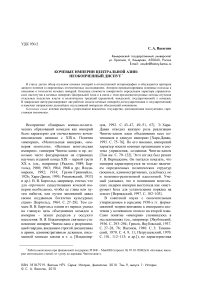Кочевые империи Центральной Азии: неоконченный диспут
Автор: Васютин Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье дается обзор изучения кочевых империй в отечественной историографии и обсуждаются критерии данного понятия в современных отечественных исследованиях. Автором проанализированы основные подходы к описанию и типологии кочевых империй. Показана сложность конкретного определения характера управленческих институтов в кочевых империях Центральной Азии и в связи с этим предлагаются разные методы изучения отдельных подсистем власти и политических традиций (архаичной, вождеской, государственной) у номадов. В завершение автор рассматривает две рабочие модели кочевых империй (догосударственная и государственная) и намечает направления дальнейших исследований имперских объединений кочевников.
Кочевая империя, суперсложное вождество, государство, дистанционная эксплуатация, "престижная экономика"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737203
IDR: 14737203 | УДК: 930.2
Текст научной статьи Кочевые империи Центральной Азии: неоконченный диспут
Восприятие обширных военно-политических образований номадов как империй было характерно для отечественного кочев-никоведения начиная с XIX в. Понятия «империя», «Монгольская империя», «империя монголов», «Великая монгольская империя», «империя Чингис-хана» и пр. довольно часто фигурировали на страницах научных изданий конца XIX – первой трети XX в. (см., например: [Радлов, 1989; Бартольд, 1900; 1963; 1964; 1968 и др.; Влади-мирцов, 1992; 1934; Грумм-Гржимайло, 1926; Хара-Даван, 1995; Рязановский, 1933] и др.). В. В. Бартольд, например, считал, что для «прочного существования кочевой империи необходимо, чтобы ее глава или путем набегов, или путем завоеваний давал своим подданным богатства культурных стран» [Бартольд, 1964. С. 27–28]. Тем самым В. В. Бартольд одним из первых указал на главную цель объединения номадов в империи – захват ресурсов у оседлого населения. В. Я. Владимирцов связывал становление империи Чингис-хана с реорганизацией гвардии, введением строгой дисциплины в армии, административным делением, письменной записью закона и т. д. [Владимир- цов, 1992. С. 43–47, 49–51, 67]. Э. Хара-Даван отводил важную роль реализации Чингис-ханом идеи объединения всех кочевников в единую империю [Хара-Даван, 1995. С. 75–76]. По его мнению, имперский характер носили военная организация и система управления, созданная Чингис-ханом [Там же. С. 79–122]. Этот взгляд был развит Г. В. Вернадским. Он пытался показать, что империя характеризуется не только наличием определенных политических структур (военных, административных, судебных), но и политико-религиозной идеологией. Ученый указывал, что в понимании монгольских лидеров империя выступала как «инструмент Бога для установления порядка на земле» [Вернадский, 1997. С. 102–103].
В советской науке с окончательным утверждением в середине 1930-х гг. формационной теории внимание к имперским системам у кочевников отошло на второй план. Само понятие «империя» упоминалось в исследованиях (см., например: [Якубовский, 1936. С. 293–294; Греков, Якубовский, 1937. С. 27–28, 76; Насонов, 1940. С. 3; Тихвинский, 1970. С. 4, 9, 11; Петрушевский, 1970. С. 101, 112–113; и др.]), но характеристика кочевых имперских систем велась почти исключительно с классовых позиций. Согласно точке зрения С. Л. Тихвинского, создание монголами империи было продиктовано «интересами феодализированной верхушки монгольского государства», которая стремилась к захвату новых земель, военной добычи и «феодальной эксплуатации населения богатых и экономически развитых стран» [Тихвинский, 1970. С. 6].
В 1960 – 1970-х гг. особая роль в разработке новых подходов к истории кочевников принадлежит Г. Е. Маркову. Он считал базовой и преобладающей у кочевников общинно-кочевую форму социально-политической организации. Только в годы войн и больших переселений, согласно теории Г. Е. Маркова, скотоводческие группы выступали как подразделения военной системы, племенные структуры упорядочивались и «воплощались в реальные военные соединения и политические образования», появлялся центральный аппарат управления, усиливалась власть вождей и т. д. В результате, как считал ученый, и возникали кочевые империи, оформлявшиеся структурно с целью грабежей и завоеваний в интересах «верхушки кочевого общества». В целом кочевые империи исследователь представлял как «временные, эфемерные образования», не имеющие прочного экономического базиса и легко распадавшиеся [Марков, 1967. С. 28–30; 1976. С. 312].
Понятие «кочевая империя» С. А. Плетнева использовала в своей концепции эволюции номадных обществ. Она полагала, что в условиях набегов соседей, внутренних конфликтов из-за соперничества «сильных аилов и орд» у кочевников возникала стоящая над ордами «организация» – раннеклассовое «объединение государственного типа», «империя». При этом исследовательница отмечала неразвитость государственных институтов «империй» (отсутствие регулярной армии, административного аппарата, налоговой системы) и их неустойчивость: после смерти «ханов-объединителей» начинались междоусобицы и «империи» исчезали. К имперским объединениям она отнесла гуннов эпохи Аттилы, Аварский каганат, Великую Болгарию, Тюркские каганаты, союзы половцев [Плетнева, 1981. С. 55–59; 1982. С. 40–72]. Следует отметить, что вряд ли уместным было объединение в рамках одной модели половецких племен- ных союзов и, к примеру, Тюркских каганатов. По степени централизации и структуре властных институтов они существенно отличались, а употребление термина «империя» по отношению к многочисленным половецким объединениям было совершенно некорректно. В список «империй» у С. А. Плетневой не попали держава Хунну, Уйгурский каганат, Монгольская империя, которые ученая отнесла к полуоседлой модели «каганаты» [Плетнева, 1981. С. 60; 1982. С. 78–123]. Такое разделение крупных кочевых объединений на «империи» и «каганаты» было искусственным.
Важные идеи о политических институтах кочевых народов высказал А. М. Хазанов. В монографии «Кочевники и внешний мир» [Khazanov, 1984; Хазанов, 2000] ученый подчеркивал нестабильность экономики кочевников. Поэтому интеграция номадов в крупные сообщества, по его мнению, происходила в ходе захвата богатств земледельцев, причем степень интеграции кочевников зависела от количества «прибавочного продукта… эксплуатируемых оседлых обществ» [Хазанов, 2000. С. 173, 269–272, 275, 278]. Именно с адаптацией номадов к воздействию оседлого населения ученый связывал возникновение разных типов («упрощенных теоретических моделей») кочевого государства. Первый тип представлен двумя вариантами: 1) номады оставались в степи, а зависимость оседлого населения от них сводилась к вассальноданническим формам; 2) кочевники и оседлое население входят в единое государство, возникает два правящих класса, существенно возрастает эксплуатация крестьянства, но рядовые кочевники сохраняют свое социальное положение и свою роль основной военной силы. В государствах второго типа кочевое и оседлое население интегрировано в политическом и географическом отношении, а положение номадной аристократии и правящей кочевой династии основывается на эксплуатации как оседлой части подданных, так и части рядовых кочевников. Для государств третьего типа характерно возникновение «единой социальной, экономической и политической системы, в которой происходит интеграция кочевников и земледельцев» [Хазанов, 1975. С. 257, 258; 2000. С. 457–459].
Работы А. М. Хазанова являются важным этапом в концептуальном осмыслении мно- гообразия и сложности процессов политического развития кочевых народов. Они во многом предвосхитили разработки российских исследователей 1990-х – начала 2000-х гг.
Ревизия марксизма и снятие в конце 1980-х гг. идеологических барьеров создали благоприятные условия для творческого синтеза достижений российского и зарубежного кочевниковедения, что означало развитие в русле тех методологических тенденций, которые господствовали в мировом научном сообществе в последней трети XX в. Среди них неоэволюционистские теории политогенеза, мир-системный и кросс-культурный анализ, историко-антропологические исследования, концепции мно-голинейности социальной эволюции. Каждое из этих направлений по-своему «конструирует» образы прошлого, факторы и пути общественно-политической трансформации. На этом фоне возросло внимание к теме кочевых империй. Развернулась дискуссия вокруг целого комплекса вопросов, связанных с характеристиками кочевых империй (критерии имперских систем номадов, их типология, являлись ли они государствами и т. д.).
Ведущая роль в изучении кочевых империй среди отечественных ученых принадлежит Н. Н. Крадину. Более 20 лет он развивает собственную концепцию номадных империй, апробированную на материалах истории Хунну [1996; 2001; 2007. С. 111–145], Жужаньского каганата [2000; 2007. С. 146–173], Ляо [2002; 2007. С. 174–194], Монгольской империи [2007. С. 261–286; Крадин, Скрынникова, 2006] и др. Значительное влияние на разработки Н. Н. Крадина оказали труды А. М. Хазанова, Дж. Абу-Луход [Abu-Lughod, 1989], Т. Барфилда [Barfield, 1992] и др. За основу характеристики имперских кочевых объединений он взял неоэволюционистское понятие «вождество». При этом исследователь исходит из убеждения, что создание «централизованной иерархии» происходило только для организации грабежей земледельцев или экспансии на их территорию. Именно в этой ситуации, возникали кочевые империи со специфической политической системой, названной ученым «ксенократи-ческой» (от греч. «ксено» – наружу и «кра-тос» – власть) так как, по мнению ученого, кочевые империи в отношениях с внешним миром напоминали государства (военноиерархическая организация номадов для изъятия престижных продуктов у соседей; международный суверенитет и т. д.), в то время как внутри были основаны на ненасильственных (консенсуальных и дарооб-менных) связях и в них не собирались налоги со скотоводов. Отсутствие права на легитимное насилие Н. Н. Крадин считает главным аргументом против существования государства у кочевников. Он полагает, что власть в кочевых империях базировалась на «престижной экономике»: удачливый в военном деле правитель поддерживал свой престиж с помощью раздачи своему окружению и племенным вождям военной добычи и поступающих от земледельцев в качестве дани и даров товаров. Сложные по своему составу и структуре кочевые империи Н. Н. Крадин трактует как «суперсложные вождества [Альтернативные пути…, 2000. С. 328–331; Крадин, 1992. С. 126–130, 147–152, 162–165; 2001. С. 138–159; 184–186, 204–209; 2007. С. 27–31, 131–132, 143–144 и др.].
Н. Н. Крадин отмечает, что степень централизации номадов прямо пропорциональна величине соседней земледельческой цивилизации. Соответственно этому в Центральной Азии на границе с Китаем возникали наиболее масштабные и консолидированные степные империи. В других точках взаимодействия кочевников и земледельцев, как считает ученый, у земледельческих обществ не хватало ресурсов для возникновения рядом с ними аналогичных имперских систем. В мир-системной проекции кочевой истории Н. Н. Крадин является сторонником концепции Т. Барфилда о «биполярной» системе взаимодействия аграрных мир-им-перий (мир-экономик) и кочевой периферии. В этом русле кочевая империя выступает как определенный способ политической адаптации номадов к влиянию мир-империй. Ключевую роль в отношениях кочевых империй и земледельческих центров Н. Н. Крадин отводит стратегии вымогательства на расстоянии – «дистанционной эксплуатации» (подарки от правителей земледельческих государств, доходы от неэквивалентной торговли с земледельцами, получаемые с помощью чередования набегов, угроз, мирных договоров) [Альтернативные пути…, 2000. С. 323–326; Крадин, 1992. С. 126–130; 2007. С. 95–108].
Специфику разных кочевых империй отечественный исследователь Н. Н. Крадин попытался отразить в их типологии: 1) типичные империи – кочевники располагаются в степи и получают от земледельцев прибавочный продукт с помощью «дистанционной эксплуатации» (Хунну, Тюркские и Уйгурский каганаты и пр.); 2) даннические империи – кочевники захватывают территории с земледельческим населением и получают дань в разных формах (Хазарский каганат, империя Ляо, Золотая Орда и пр.). Особенностью таких империй являются более регулярный характер эксплуатации, формирование бюрократического аппарата для сбора дани и контроля за данниками и, возможно, трансформация «метрополии» степной империи из вождества в раннее государство; 3) завоевательные империи – номады завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию (Кушанское царство), а на смену данничест-ву приходит регулярное налогообложение земледельцев и горожан. В результате возникает оседло-земледельческое государство с преобладанием в политической и в военной организации кочевников (см.: [Альтернативные пути…, 2000. С. 315; Кра-дин, 1992. С. 170–177; 2001. С. 45; 2007. С. 119] и др.).
Среди причин «неустойчивости» кочевых империй Н. Н. Крадин называет преимущественно внешние задачи интеграции, положение верховного правителя, вынужденного «балансировать в поисках консенсуса между различными политическими группами», «перепроизводство элиты», связанное со значительным ростом числа потомков верховного правителя, каждый из которых выступал как претендент на власть и ресурсы империи. В конечном итоге через 2–3 поколения это вело к междоусобицам и к гражданской войне. Распад империй был, как правило, следствием нескольких факторов: внутренние усобицы, локальные экологические катастрофы, нашествие врагов [Альтернативные пути…, 2000. С. 332–334; Крадин, 2001. С. 235–236].
Можно с уверенностью сказать, что подход Н. Н. Крадина к оценке кочевых империй как суперсложных вождеств и ксено-кратических государств занял одно из ведущих мест в отечественном кочевнико-ведении.
Иной взгляд на кочевые империи был предложен Г. Г. Пиковым [2002]. Собствен- ную трактовку данного термина он сформулировал, опираясь на пример киданьской империи Ляо. Во-первых, исследователь понимает под «империей» государственную полиэтническую структуру, которая объединяет население с разными укладами (кочевым и земледельческим). Во-вторых, особое внимание исследователь обращает не на структурное построение властной иерархии, а на имперскую идеологию (император Ляо являлся наместником Неба на Земле и обладал правом на управление всем миром и даже правом «творить свой миропорядок», покорять соседние народы) [Там же. С. 192–194]. В-третьих, в общественной системе киданьской империи Г. Г. Пиков выделяет «кочевое ядро» и периферию (земледельцы, охотничьи племена). Под «ядром» империи ученый понимает «регион, характеризующийся относительной этнической, государственной, политической, экономической и культурной гомогенностью и стабильностью», а под «периферией» – располагающиеся вокруг этносы, развитие которых связано с иной социальноэкономической средой. В связи с этим Г. Г. Пиков в противовес Н. Н. Крадину полагает, что в кочевой империи происходило формирование сложных экономических и политических связей, для которых характерно разрушение «локальных социальноэкономических и политических организмов и медленное складывание региональной системы» [Там же. С. 194–195]. Таким образом, характеристика ученым «кочевой империи» акцентировала внимание на идеологических и интеграционных показателях. Этот оригинальный взгляд вносит существенную коррективу в представление о номадных политиях как организации для рэкета против земледельцев.
В целом в 1990-е – начале 2000-х гг. наблюдается рост интереса к проблемам исторического анализа кочевых империй. Особенно часто полигоном для изучения кочевых империй служила Монгольская империя и ее эволюция (см.: [Скрынникова, 1997; 2002; Васютин, 2004; 2005; 2007; Кра-дин, Скрынникова, 2006; Крадин, 2007. С. 261–306] и др.). Определенный итог отечественным исследованиям по истории Монгольской империи подвела совместная монография Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрын-никовой «Империя Чингис-хана». Характеризуя общественно-политическую органи- зацию Монгольской империи начала XIII в., исследователи показали, что данная оценка может быть достаточно дифференцированной в зависимости от выбранной методологии. Тем не менее авторы выделяют несколько важных этапов в политической трансформации империи: 1) племенные политии и вождества середины – второй половины XII в.; 2) усложнение предгосудар-ственных потестарно-политических структур в первой четверти XIII в. при отсутствии «больших групп специальных функционеров»; 3) зарождение аппарата управления при Угэдэе; 4) завершающий этап оформления бюрократической системы и государства в годы правления Хубилая. Возникшие в империи экономические связи, торговые маршруты, разные центры взаимодействия со многими странами и территориями Евразии, создали «пространство», описываемое как мир-система [Крадин, Скрынни-кова, 2006. С. 443–471, 490–494, 497–502]. В «Заключении» совместной книги ученые твердо обозначили свой подход: Монгольская империя при Чингис-хане не являлась сформировавшимся государством, оставаясь суперсложным вождеством [Там же. С. 504–507].
Представленный обзор показывает, что в современных отечественных исследованиях доминирует оценка кочевых империй как догосударственных образований, за исключением политий, созданных в результате захвата номадами территорий с оседлым населением. Однако, на наш взгляд, подобная оценка излишне однозначна. Во-первых, имеющиеся в нашем распоряжении источники не всегда дают возможность четко определить характер властных институтов. В большинстве случаев можно говорить о разном соотношении признаков вождества и государства. Причем данное соотношение может быть достаточно динамичным. Во-вторых, каждая кочевая империя в пространственно-политическом отношении – явление неодномерное. Нередко там, где в состав империи входили территории с оседлым населением, городами, торговыми магистралями, завоеватели-кочевники прибегали к государственным практикам (сбор налогов и пошлин, главенство в городском управлении и контроль за местной бюрократией, издание распоряжений и постановлений и пр.). В то же время в центре империи, в степной зоне, власть осуществлялась пу- тем взаимодействия кочевого лидера с военно-аристократическим окружением и племенными вождями. Хотя и существовала иерархия надплеменных «управленцев», возглавлявших «крылья» и «тьмы», гражданский аппарат с государственными функциями в имперской ставке чаще всего отсутствовал. Но в отношении некоторых подчиненных племенных союзов и вождеств номадов политика центра могла сильно отличаться. Известно, что с отдельных кочевых групп дань собиралась (например, жу-жани получали от тюрок железные изделия). Археологические материалы Горного Алтая, Тувы и Хакасии позволяют предполагать, что в этих областях, например, в период господства в Центральной Азии тюрок и уйгуров были поселения и крепости с гарнизонами, возможно выступавшие и в качестве центров сбора дани. Но насколько устойчивой была такая практика, сегодня сказать достаточно сложно.
Центральную власть в кочевых империях вряд ли следует характеризовать как определенный «монолитный» тип политической практики. Она может быть дифференцирована на отдельные подсистемы – архаичные (кланово-линиджные), вождеские (импер-ско-ксенократические) и государственные, соотношение которых в каждой кочевой империи было различным. При этом баланс догосударственных и государственных компонентов власти был непостоянен и подвижен, а динамика эволюции имперских объединений номадов не была одновекторной. На примере Хуннской державы, Тюркских и Уйгурского каганатов мы можем видеть, как «прогрессивные» (направленные на устойчивое воспроизводство властных функций «центра» империи или их расширение) тенденции могли сменяться «регрессивными» (рост автономии отдельных сегментов империи; периодические «откаты» к архаичным клановым институтам управления, утрата имперского статуса центральной властью и т. д.). Порой эти противоречивые тенденции реализовывались одновременно. Поэтому политическая культура в номадных вождествах и ранних государствах не может быть описана в однозначных категориях.
В политической практике кочевых лидеров многие элементы архаичной политической культуры сохраняют свое значение в трансформированном виде в более сложных формах традиционной власти. Однако цен- тральное место в управленческих системах кочевых империй занимали политические традиции вождества (надлокальный уровень централизации в виде десятичной военноадминистративной системы с соответствующим распределением власти между членами клана правителя и лидерами подчиненных племен, жесткая дисциплина в армии, как средство реализации имперских форм власти, преобладание внешнеполитических механизмов получения прибавочного продукта и т. д.). Устойчивость такой власти впрямую зависела от успешности политических и военных практик вождя. Только в завоевательных империях сфера государственной подсистемы значительно расширяется (за счет заимствования опыта оседлых народов), постепенно поглощая другие подсистемы [Васютин, 2005. С. 65–66]. Именно имперская военно-административная система – та политическая конструкция, которая обеспечивала в рамках единой политии господство этнически сегментированного кочевого сообщества над эксплуатируемым оседлым населением.
Проведенное нами ранее сравнение Монгольской империи и Первого Тюркского каганата [Васютин, 2007] позволяет сделать ряд ценных выводов. В момент своего создания эти кочевые империи представляли собой суперсложные вождества. Схожие формы имела и последовавшая затем экспансия. Но были и существенные различия. Во-первых, в отличие от Первого Тюркского каганата, который даже в пору своего наивысшего могущества оставался типичной кочевой империей, властные структуры Монгольской империи на протяжении XIII в. постепенно усложнялись, достигнув в конечном итоге государственного статуса. Во-вторых, у тюрков и монголов различалась динамика процесса «перепроизводства элиты». В Первом Тюркском каганате данный процесс прослеживается уже через 30 лет после его основания, когда междоусобицы наметили последующий раскол данной политии. Монгольская империя через 30 лет своего существования продолжала вести активную завоевательную политику и находилась в фазе «роста», что позволяло постоянно пополнять ресурсы великого хана и обеспечивать за их счет лояльность его родственников и монгольской аристократии. В дальнейшем избежать масштабной внутренней войны в империи уда- лось благодаря рассредоточению потомков Чингис-хана по нескольким политико-географическим зонам (Монголия, Китай, Средняя Азия, Персия, Восточная Европа) и возросшим доходами Чингизидов в связи с введением регулярных налогов. Даже обособление улусов и конфликты между ними из-за спорных территорий и важных торговых центров второй половины XIII в. еще долгое время не могли разрушить стоявшую над улусами имперскую систему.
В-третьих, монголы использовали более жесткие формы подчинения кочевых народов (насильственные переселения, ликвидация элиты других номадных объединений, сеть «администраторов» над племенами), что обеспечивало беспрекословную лояльность кочевников власти великого хана. Контроль со стороны тюрок над зависимыми кочевниками был намного слабее. Не случайно в период кризисов Тюркских каганатов против власти тюрок открыто выступали сеяньто, уйгуры, кыргызы, карлуки и другие племена. В-четвертых, существенно отличались отношения Первого Тюркского каганата и Монгольской империи с Китаем. Если контакты китайцев и тюрок не выходили за пределы типичного взаимодействия мир-империи и ее пасторальной периферии, то монголы смогли объединить мир-империю и кочевую периферию в единую политическую структуру. В-пятых, специфику Монгольской империи наглядно характеризует ее постепенное превращение в мир-систему. Объединив под своей властью регионы с разными хозяйственными специализациями, великие ханы обеспечили функционирование в Евразии многосторонних торговых связей. В отличие от монголов, тюрки располагали очень ограниченными ресурсами и без завоевания Китая и Персии не могли обеспечить полноценное функционирование Шелкового пути.
Таким образом, более мощный и продолжительный завоевательный импульс привел в XIII в. к созданию Монгольской суперполитии, которая соединила три организационные формы – кочевую империю, государство и мир-систему.
Пример с Монгольской империей и Первым Тюркским каганатом показывает, что для определения характера властной системы в каждой кочевой империи необходимо выбрать более очевидную грань между вож-деством и государством, чем обозначенная в концепции Н. Н. Крадина разница между типичными, данническими и завоевательными империями. Прочное (на несколько десятилетий) завоевание номадами территорий с оседлым населением, перенесение политического центра в земледельческую часть империи (Караханиды, Ляо, Юань и др.) и использование местных фискальносудебных институтов отчетливо свидетельствуют об оформлении государственности. При этом дистанционная эксплуатация ресурсов других территорий с земледельческим и кочевым населением могла сохранять свое значение. Другая модель кочевых империй, при которой политический центр кочевников находится в степи, а дистанционная эксплуатация занимает ведущее место, определенно говорит о доминировании структур вождества. Исходя из этих критериев, наиболее очевидна существенная разница между типичными (вождества) и завоевательными (государства) империями. Данное утверждение можно взять в качестве рабочей гипотезы для дальнейших исследований имперских политий кочевников. Другое дело, что сами типичные и завоевательные империи должны быть дифференцированы на подтипы, так как их способы политической адаптации существенно различались. Отнюдь не одинаковы были политические структуры и в завоевательных империях. Остаются еще открытыми вопросы об имперской идеологии и исторической фиксации имперских достижений, обоснования имперского сознания и сакральности верховной власти. Здесь также заметна разница между пропагандистско-мемориальными текстами в типичных империях и традицией династийных хроник завоевательных политий кочевников. Но различия эти требуют специального изучения.
NOMADIC EMPIRES OF CENTRAL ASIA: THE UNFINISHED DISCUSSION