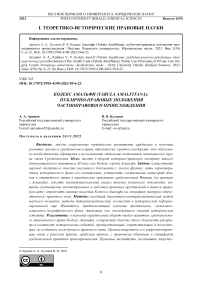Кодекс Амальфи (Tabula Amalfitana): публично-правовые положения частноправового происхождения
Автор: Арямов А. А., Кулаков В. В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 1 (59), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: многие современные юридические институты зародились и получили развитие именно в средневековом праве итальянских городов-государств, что обусловило необходимость обращения к исследованию отдельных источников итальянского права эпохи Средневековья. Цель: ввести в оборот историко-правовую доктрину такого документального памятника XI века, как Кодекс города Амальфи. Задачи: осуществить перевод доступного текста указанного документа с лингва франка; дать характеристику исторического фона его составления; установить соотношение категорий обычая и статутного права в юридических практиках средневековой Италии (на примере г. Амальфи); сделать институциональный анализ текста указанного документа; выявить соотношение частноправовых и публично-правовых предписаний в данном правовом акте; определить влияние наследия Кодекса Амальфи на специфику дискурса отечественного правового поля. Методы: всеобщий диалектико-материалистический метод научного познания; методы детерминистический, логический и исторический (сформулированный еще Фукидидом, предполагающий изучение предпосылок, экономико- социально-географического фона, движущих сил, последующего влияния исторических событий). Результаты: в научный юридический оборот введен памятник средневекового итальянского права Кодекс Амальфи; содержание текста этого документа раскрыто в контексте исторических событий, предшествующих, сопутствующих и последующих за созданием исследуемого правового акта. Проанализированы его корреспондирующие связи с римским правом, арабским правом, с правовыми обычаями и спецификой средневековой практики правоприменения. Правовые институты, получившие закрепление в нем, раскрыты в контексте симбиоза частноправовых и публично-правовых положений Кодекса. С позиции представлений о спиралевидном процессе общественной эволюции данный феномен и в настоящее время находит воплощение в конструировании модели национальной антикоррупционной политики: наиболее эффективным средством противодействия такому уголовно-правовому явлению, как коррупция, является реализуемая в исковом порядке гражданско-правовая конфискация обремененных пороком декларирования активов государственных служащих (см. подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ). Проанализированы взгляды средневековых правоведов на институт финансовой несостоятельности/банкротство как на вид особо квалифицированного мошенничества (с проекцией на современное российское правовое пространство). Заключение: исследование Кодекса Амальфи позволило выявить тенденции и закономерности эволюции правовой системы средневековых городов-государств режима талассократии и экстраполировать их на современные правовые реалии.
Римское право, средневековое варварское право, средневековое право городов, латынь, лингва франка, кодекс амальфи, обычное право, частное право, публичное право, симбиоз, талассократия, история права
Короткий адрес: https://sciup.org/147240434
IDR: 147240434 | УДК: 343 | DOI: 10.17072/1995-4190-2023-59-6-23
Текст научной статьи Кодекс Амальфи (Tabula Amalfitana): публично-правовые положения частноправового происхождения
Историко-правовая доктрина имеет многовековую историю, огромный массив документальных памятников был подвергнут скрупулезному анализу [4, с. 11]. В то же время многие правовые акты прошлых времен не были введены в научный юридический оборот; более того, они даже не имеют актуализированного перевода на современные языки.
На рубеже ХI–ХII веков в портовом городе-республике Амальфи, находящемся на итальянском побережье, был составлен сборник морских правовых обычаев (термин «морские» применяется весьма условно, так как существенная часть текста рассматриваемого документа посвящена вопросам, весьма далеким от тематики морских перевозок), который авторитетными представителями юридической истории традиционно рассматривается в качестве важнейшего источника средневекового торгового морского права (раздел частного права) – Capitula et ordinationes Curiae Maritimae nobilis civitatis Amalphae (Кодекс Амальфи) [17; 18; 19].
Кодекс Амальфи оказал существенное влияние на формирование торгового права Италии, Франции и Германии1. По своей сути это было текстуальное нормативное оформление обычаев морских отношений, которые начали складываться еще в древнеримский период и по времени своего возникновения были более древними, чем даже римское право времен Ранней республики. Однако представляется необходимым учитывать, что тогда не существовало разграничения частного и публичного права: в одном и том же акте соседствовали и частноправовые и публично-правовые нормы, представляя достаточно сложный симбиоз; более того, одна и та же норма могла одновременно содержать положения цивилистического и уго- ловно-правового характера; гражданско-правовые цели достигались криминологическим средствами и наоборот. Значение Кодекса Амальфи для юриспруденции в целом трудно переоценить. Данным правовым актом были введены в юридический оборот понятия «коносамент», «карго», «фрахт», «манципация» и др.
Проблематике средневекового итальянского права посвящены труды таких историков-цивилистов, как И. А. Базанов [2], О. С. Иоффе [6], А. С. Кривцов [7], И. А. Покровский [8], Г. Ф. Шершеневич [13], И. Е. Энгельман [15]. Однако историковеды-криминологи этим вопросам практически не уделяли внимания, а текст Кодекса Амальфи, к сожалению, до настоящего времени юристами детально не анализировался.
Дискуссия
Было бы неправильно воспринимать рассматриваемый документ исключительно в качестве акта консолидации средневековых варварских обычаев. Очевидна его генетическая связь с традициями Древнего Рима [3, с. 217]. Необходимо учитывать, что Амальфи в IV веке н. э. был основан на территории обитания древних энотров Константином Великим. Город имел тесные торговые и политические отношения с Константинополем (Византией) и до указанного периода не переставал быть носителем традиций римского права [8]. Средневековое итальянское право «не только удержалось от слепого подражания римскому праву, но сохранило его предания, ссылаясь на его источники, обращаясь к глоссам; но в то же время не было недостатка в новых положениях, вызванных развивавшимися потребностями» [22, р. 149], что отчетливо прослеживается в тексте Кодекса Амальфи (например, в части влияния «латинских панегириков» (panegyrici latini). В то же время представляется необходимым отметить, что по стилю юридической техники, по архитектуре конструкции правового акта
Кодекс Амальфи может быть отнесен к институциональному типу, что очевидно отличает его от памятников развитого римского права имперского периода, характеризующихся тенденцией к пандектной систематизации права.
Также следует отметить, что и морские отношения г. Амальфи с Тунисом и Египтом не могли избежать влияния арабского права на рассматриваемый документ; это нашло свое отражение в развитии понятия кабальной сделки. Кроме того, очевидна корреспонденция и с актами так называемого «варварского права», например «Фризской правдой» (lex Frisionum /лат./), закрепляющими элементарно-сословный характер общественных отношений. В то же время влияние актов южно-германского средневекового права, например Раффельштеттен-ского таможенного устава (Inquistio de theleo-nies Raffelstettensis /лат./ – Баварская восточная марка 906 г.), практически не прослеживается. Чем это обусловлено, трудно объяснить, поскольку итальянские средневековые города-государства имели тесные торговые, культурные и политические связи с южно-германскими странами.
Первоначально текст Кодекса Амальфи составлялся в жанре так называемого «итинера-рия» (itineror ari [iter] – путешествовать /лат./) – своеобразный жанр средневековой христианской латинской литературы путевых заметок (путеводитель). Предполагалось, что его положения будут носить исключительно рекомендательный характер. Но поскольку он был закреплен «моливдовулом» – двусторонней подвесной свинцовой государственной печатью (в отличие от «хрисовула» – двусторонней вислой печати из золота, которой заверялись правовые акты высшей силы или дипломатические акты), то сразу приобретал статус не частного произведения, а государственного правового акта. В дальнейшем (в постоянно обновляемых переписках) он стал обогащаться «ассизами» – указами сюзерена, как бы санкционирующими уже сложившиеся обычаи (преимущественно в сфере частного права), а также «статутами» – актами консолидации судебных решений по хроноло-гично-предметному признаку [6]. Его структура со временем приобрела неоднородный, «рыхлый» характер; вектор основных нормативных положений постоянно получал отклонение на второстепенные и даже фоновые вопросы.
В сравнении же с классическим городским средневековым правом городов Италии в рассматриваемом документе менее всего выражены так называемые цеховые соглашения (договоры публичной городской власти с той или иной городской корпорацией), что совершенно не характерно для юридических памятников данного региона в этот исторический период. В целом же Кодекс Амальфи является классическим актом талассократии – государственных образований, все сферы жизни которых в силу географических особенностей (политических, экономических, культурных, социальных, научных) подчиняются интересам морской торговли и навигации [7]. Нередко даже самые «сухопутные» явления обозначаются морскими терминами.
Текст Кодекса Амальфи дошел до настоящих дней на средневековой вариации примитивной латыни, которую скорее можно отнести к разновидности лингва франка, что создает существенные трудности в его переводе и установлении правовой мысли законодателя [16; 21; 22]. Варианты переводов различных авторов существенно отличаются друг от друга. Структуру текста образуют следующие части: 1. «Главы и уставы Морского Суда уважаемого гражданина» (65 статей); 2. «Обычаи Амальфийского гражданства периода военного правления»; 3. «Обычаи города Амальфи славят Бога»: здесь деления на статьи нет, а только указание на ее авторов – консула Домиана Лин-гвариуса и судью города Петра де Феликса; заверено свидетелями во главе с архиепископом города Амальфи Филиппом с представителем местного университета доктором права Иоанном Августом, графами: Андреем де Капуано Зингером, Джоном Баундиани, Джоном Бернардом Урсо, Роджером Капасантамом, Маль-теи Альфериусом де Платамоне, судьями (в том числе и из соседних городов Пизы, Сорренто и др.): Допнассы, Донадеи де Гиццоне, Николя де Сильты; нотариусами: Петром де Дюрантус, Константине, Филиппом Ромариусом, Иоанном Лео, Аксаролусом, Домианом Ромулусом и Фомой Баккафурмом – «старейшинами авторитетными, как сами древние обычаи». Все заверенное обеспечивается их «памятью и присягой», при этом провозглашалось, что на них не оказывалось давление «ни силой, ни обманом, и никаким иным обстоятельством». Структура рассматриваемого правового акта может быть отнесена более к институциональному, чем к пандектному типу.
Результаты
На наш взгляд, особый интерес представляет закрепление весьма примечательного принципа примата обычая над правом [14, с. 37], то есть при прочих равных условиях правовой обычай обладает большей юридической силой, чем норма права: «когда говорит обычай, закон бездействует»; «добрые обычаи более священны, чем законы»; «о чем говорит обычай, всякий закон умалчивает» (последнее можно понимать и как восполнение пробела в праве посредством применения обычая). Обычай предшествует праву, так как право создается на фундаменте исторически сложившихся обычаев; в то же время обычай следует за правом, так как закон толкуется и применяется под воздействием сформировавшейся в обществе системы обычаев. Указывается, что положения настоящего Кодекса одобрены предками с древнейших времен: «честь древних предков – залог вселенской истинности настоящих положений…». Нормативное закрепление получила следующая юридическая формула: «…насто-ящие обычаи записаны в этой книге таким образом, в каком они сформировались в древние времена, непреложно соблюдается с тех пор и обратное не присутствует в памяти людей…». Таким образом, получил раскрытие сущностный признак правового обычая – систематическое непрерывное (перманентное) повторение варианта поведения в типовой ситуации на протяжении длительного времени; при этом данный процесс должен быть прочно закреплен в общественном сознании. Также весьма примечательно продемонстрировано понимание соотношения права и обычая: авторы исследуемого правового акта отнюдь не полагали, что право пришло на смену обычаю, оба эти регулятора общественных отношений сосуществуют во времени и в пространстве, происходит их взаимодействие и взаимопроникновение (своеобразная юридическая диффузия); в случае коллизии между положениями и велениями обычая и права приоритетом обладает обычай. Приведенная выше норма в определенной мере может быть отнесена к категории коллизионных [5; 10, с. 430; 20, р. 320].
Также были официально задекларированы специфические цели составления рассматриваемого Кодекса:
– сокращение бремени непосильных расходов на бесконечные судебные тяжбы (представляется, что судебная волокита в итальянских средневековых городах-государствах была чем-то из ряда вон выходящим, если эту цель обозначили в качестве первой)1;
– ликвидация путаницы противоречивых судебных решений по одному или нескольким смежным предметам спора (с современной точки зрения можно это обозначить как обеспечение единообразия практики правоприменения; кроме того, данная правовая позиция может рассматриваться в качестве предтечи института преюдиции в судебном процессе);
– ликвидация пробелов в праве: «…едва ли можно найти какое-либо право…», что само по себе является залогом установления мира и спокойствия в государстве, гарантом «…чести правителя и обеспечением торжества воли Бога». В целом, идея как таковая о беспробельно-сти правового пространства была чужда юридической мысли рассматриваемого периода, тем ценнее данная историческая находка.
Примечательно, что необходимость письменного изложения обычаев (закрепление их в тексте официального документа) декларируется как гарант мира в государстве: «…чтобы предотвратить путь ссор…». Сами же обычаи должны быть описаны ясно и понятно. Ими должны руководствоваться граждане как на территории Амальфи, так и за рубежом; иностранным судам рекомендовано уважать обычаи Амальфи («так как они самые лучшие»). С определенной долей уверенности можно охарактеризовать такое правовое установление, как проявление принципа экстерриториального действия закона. Представляется необходимым отметить, что подобные положения встречаются и в других правовых памятниках указанного периода и региона: каждое государство полагало свои законы лучшими и настоятельно «рекомендовало» другим странам их применять.
Также был задекларирован статус неотчуждаемого права каждого амальтийца на право- судие, как по гражданским делам, так и по делам, которые предусматривают наказание в виде смертной казни (уголовным). И если в надлежащем месте не окажется необходимого государственного судьи, то выбирается третейский арбитр ad hoc (на конкретный случай в разовом порядке): «…и если бы в какой-либо части государства было бы только три амаль-тийца, один из них мог бы быть судьей двух других тяжущихся сторон». Действовал принцип: «…как угодно, но гражданину не должно быть отказано в правосудии – quod tibi placet, sed civis esse non negavit iustitia /лат./», «…лучше плохо, чем никак – melius malum quam nihil /лат./».
Примечательно, что гражданство г. Амaль-фи определялось не по гражданству родителей (принцип крови), не по месту преимущественного осуществления хозяйственной деятельности (принцип приоритетного негоцианства) и не по месту рождения (принцип почвы), а по месту нахождения жилища субъекта: «в любой части государства человек должен иметь свое жилище там…». При этом не устанавливалась дифференциация категорий жилища: основное или дополнительное, постоянное или временное, комфортное или нет и т.д. Главное требование к жилищу – в нем человек ночует (хотя бы и периодически), даже требование наличия очага не предъявлялось. Весьма распространенным явлением в средневековой Италии было проживание купца, ремесленника, банкира на «рабочем месте» (в помещениях торговой лавки, банка, мастерской и т.д.) – своеобразное совмещение функций помещения.
По месту жительства гражданин несет фискальное бремя и отправляет прочие повинности. Местом жительства ответчика определяется и территориальная подсудность дел. Если гражданин желает переехать на постоянное место жительства за границу (и/или перевезти туда свою семью), он должен сообщить об этом на форуме; по истечении одного года, одного месяца, одной недели и одного дня с этого момента он утрачивает покровительство города Амальфи. Данный период получил закрепление для того, чтобы кредиторы имели возможность реализовать свое право требования к гражданину; выведенные за рубеж активы в этот период также подпадали под взыскание, наложенное судом Амальфи. Сокрытие таких активов от взыскания по решению амальфийского суда оценивалось как мошенничество и наказывалось штрафом в тройном размере («третичное взыскание») от сокрытого имущества.
Закрепление темпорального принципа действия закона во времени весьма своеобразно и категорично: «кто раньше во времени, тот сильнее в законе, ибо нельзя заранее умереть – qui prius in tempore est fortior in lege, quia impossibile est, ut mori in antecessum /лат./» [15]. Но что значит приоритет во времени? Подлежит учету момент заключения сделки, ее исполнения, совершения действий или обнаружение намерения? В первом приближении принцип понятен, но в реальном правоприменении он создает множество проблем, решению которых посвящены приобщенные к тексту Кодекса конкретные судебные акты, устанавливающие исключения из общего правила.
Первая глава предусматривает специального адресата «известного/уважаемого гражданина». Статус гражданина города автоматически предполагал и обладание высокой честью как личного неотчуждаемого блага. Именно гражданин, носитель чести, имел право на судебную защиту своих интересов. Ущемление чести, например при банкротстве (быть банкротом было позорно), влекло и ограничение правового статуса. Примечательно, что характерно для Средневековья в целом: речь идет именно о чести как оценке личности в глазах окружающих (в этой части понятие чести вполне смыкалось с понятием деловой репутации); понятие личного достоинства как итога самооценки – категория более поздних периодов.
В исследуемом документе много внимания уделяется вопросам морского права. Весьма примечательно регулирование ситуации транзита полномочий стороны договора, предполагающей диффузию цивилистических и криминологических предписаний: функции мецена-та/торговца по просьбе лица, фрахтующего корабль, могут быть возложены на матросов (возникает своеобразный коллективный управляющий орган, решения которого принимаются голосованием – большинством голосов). Коллегиально избранный представитель обещает команде вести общее дело честно, он уполномочен заключать сделки и подотчетен как команде, избравшей его, так и меценату, зафрахтовавшему корабль. В таком случае обещавший вести торговлю несет ответственность (вплоть до смертной казни) за истинность своих слов и за возможный обман в уголовно-правовом порядке; при этом гарантом такой ответственности выступают руководители и иные члены гильдии/команды (субсидиарная ответственность). Наказанный таким образом объявляется вне закона: запрещается предоставлять ему еду, кров, транспорт (даже нельзя дозволять ему привязывать мула в собственном дворе или саду).
Неплатежеспособность по гражданско-правовым сделкам (если сумма долга превышала пять тар) предполагала, по усмотрению должностных лиц (на такое усмотрение влияли наличие у должника имущества, семьи или его возможность скрыться за границей), не только процедуру взыскания задолженности в судебном порядке с последующим возможным банкротством, но и помещение должника в долговую тюрьму, при этом оценивалось и описывалось его имущество в целях дальнейшей реализации на публичных торгах и погашения задолженности. Дихотомия правовых последствий неплатежеспособности реализовалась по усмотрению кредиторов.
Руководитель гильдии и(или) фрахтующее корабль лицо должны заранее задекларировать курс судна. Отклонение от курса категорически не допускалось. Активно практиковался такой способ каботажного плаванья, как «связка». Перевозки в буксируемой связке нескольких судов рассматривались как один объект мореплавания – «одно тело». Вся связка должна следовать заявленным курсом. Уход какого-либо судна из связки в автономное плавание рассматривалось как тяжкое правонарушение, караемое конфискацией судна и груза. Не предусмотренная курсовым графиком высадка на берег (помимо графика утвержденного маршрута) могла быть легализована лишь решением трех консулов (при этом из перевода текста Кодекса Амальфи не вполне ясно: любого из трех или всех трех одновременно). Даже если матрос сходит на берег в нарушение графика утвержденного маршрута в интересах всей команды (например, сошел на берег для покупки провизии для всей команды), то он в данный период времени пребывает на берегу за свой счет и не имеет права в этот период претендовать на свою часть коллективного дохода, на- рушение данного правила приравнивалось к мошенничеству [12, с. 432].
Из этого правила делалось исключение, корреспондирующее современным понятиям и крайней необходимости, и непреодолимой силы одновременно: «если бы они были оставлены в бесплодных местах, они были бы более благословенны, согласно решению консула…», «если кто-либо из членов команды будет схвачен пиратами против его воли во время плавания, то, несмотря на то, что он не будет служить обществу, он получит свою долю доходов… точно также если бы он был болен, в связи с чем понес дополнительные расходы» – применение института крайней необходимости и освобождение в связи с этим от ответственности нуждались в санкционировании верховной властью, действие же форс-мажора в санкционировании не нуждалось. Если же матрос ранен при защите своего корабля, то помимо своей доли дохода ему выплачивалась премия; когда же он претендовал на такую преференцию, мотивируя портовой раной (т.е. раной, полученной в бытовой ссоре), то привлекался к ответственности как мошенник. Налицо очевидная диффузия цивилистических и уголовноправовых юридических положений и установлений.
Когда корабль по объективным причинам (например, шторм или враждебные действия противников – портовая блокада) вернулся в порт, не пройдя всего задекларированного маршрута, капитан и команда вправе требовать возмещения затрат на лечение, питание и другие расходы как за полный маршрут. Но если капитан сделал такое возвращение преднамеренно, при отсутствии объективных оснований, чтобы получить необоснованный доход, он несет ответственность за тяжкое мошенничество, а вся команда является его соучастниками (доказательством их вины в таком деле служит получение ими своей доли неправедного дохода). Аналогичная ответственность распространяется и на ситуации преднамеренной порчи корабля в целях получить компенсацию от об-щины/гильдии. Разновидностью преднамеренной порчи или гибели корабля с намерением получить страховую компенсацию (страховое дело в рассматриваемый период в средневековых итальянских городах-государствах было весьма развито и процветало) являлись выход в открытое море или ненадлежащая швартовка в порту во время сильного шторма, когда отсутствовала необходимость в чрезмерно рискованных действиях. Очевидно, что в данном случае нашел свое проявление/объективизацию межотраслевой юридический институт обоснованного риска.
Средневековое общество традиционно характеризуется признаком сословности: статус представителя каждого сословия отличался от других, и город Амальфи не был исключением. Но даже присутствие в контракте публичной составляющей (например, при заключении государственного контракта – стороной в договоре выступал сам город) или заключение сделки между купцом и нобилем (представителями разных сословий) тем не менее не нарушали принципа равенства сторон договора («соглашение между равными»). Именно из торгового средневекового принципа равенства сторон хозяйственного договора впоследствии (через несколько столетий) эволюционирует демократический принцип равноправия.
Морское путешествие субъекта по делам государства, сопряженное с выполнением публичных функций, предполагало специфический механизм гарантии его чести и достоинства: если он будет каким-либо образом унижен, то государство, интересы которого он представляет, выплачивает ему компенсацию. Но если параллельно с публичной функцией он реализовывал еще и частные дела, в компенсации попранной чести ему будет отказано. Даже в той ситуации, когда реализация частного интереса была незначительной и несопоставимой с осуществляемой публичной функцией. Лицу не запрещается совмещать частные и публичные функции, но при таком совмещении защита его чести становится его личным делом, хотя его жизнь, здоровье, имущество продолжают оставаться под покровительством государства, интересы которого он представляет. В ответ за его убийство государство может даже объявить войну другой стране, но от клеветы и оскорбления он должен защищаться сам. В данном случае наблюдается проявление требования непересекаемости частных и публичных функций, своеобразный квазиконфликт интересов.
Избыточная вежливость в целях продать товар подороже или попытка за навязчивой вежливостью скрыть плохое качество товара
(весьма популярный во все времена и во всех странах прием) рассматривались как разновидность правонарушения/мошенничества. Провокация алчности (предложение явно завышенного дохода) признавалась также формой мошенничества: «…попал под чары большой оплаты – cecidit sub carmine a magna pretium /лат./». Аналогично и оказание предпочтения одному из состава нанятой команды по сравнению с другими (за исключением отдельных категорий, например писцов), равно как и отсутствие или некачественное осуществление финансового отчета капитана перед командой оценивались в качестве проступка, караемого крупным штрафом. По воле команды капитан был обязан отчитаться о финансовых делах общества. Не только оплата по договору, но и внеплановый дополнительный доход должны делиться капитаном открыто и пропорционально между всеми членами команды. Отклонение от этого правила рассматривалось как мошенничество.
К мошенничеству также относились и преднамеренное составление контрактов с двусмысленными формулировками, составление двух оригинальных вариантов текста договора с различным содержанием и прочее с целью поставить контрагента в невыгодное для него коммерческое положение. За совершение таких деяний предусматривалась кара в виде конфискации имущества. Аналогичному наказанию подвергаются и лица, неправомерно использующие в переговорах и при заключении сделки имя капитана корабля или имя гильдии, гарантирующее качество своего товара (своеобразная публично-правовая охрана деловой репутации и товарного знака). К мошенничеству относился и так называемый «обман по умолчанию», когда лицо, получившее от контрагента не соответствующий действительности запрос в форме утверждения (по типу: «…не так ли»), не предприняло никаких действий по разубеждению последнего в его заблуждении (молчаливое потворство заблуждению). Вопросам достоверности распространяемой коммерческой информации в исследуемом правовом акте уделялось весьма существенное внимание. Примечательно, что религиозные требы, осуществляемые за плату, по сущности (по крайней мере по юридическим последствиям) приравнивались к коммерческой услуге. Мошенничеством также являлось и обманное обеща- ние лжесвященника читать молитвы и петь псалмы во время морского путешествия, даже если такие действия предполагались в качестве платы за проезд (т. е. клирик отдельной платы за требы не брал). Мошенничеством признавался и безрезультатный молебен, когда крушение корабля произошло, несмотря на читаемые молитвы истинными прелатами (предполагалось, что священник в такой ситуации либо не проявил должного усердия в своем обращении к Богу, либо сам оказался грешен настолько, что подобным поведением нивелировал святость молитвы); обстоятельством, освобождающим от ответственности, в таком случае может служить присутствие на корабле очевидного грешника, что лишило «чистую молитву» своего эффекта. Реабилитирующими каноника обстоятельствами могли считаться осквернение третьими лицами предметов, используемых в процессе священной требы, осуществление в противовес молитве священника магических ритуалов какими-либо чернокнижниками и т. д. Таким вопросам уделялось самое пристальное внимание. Заметим, что сугубо духовные вопросы рассматривались юридически только в материальном ключе.
К мошенничеству приравнивалось и получение неосновательного вознаграждения по небрежности (случаи двойной оплаты одной оказанной услуги, которую принял исполнитель по неосторожности, не сверив должным образом платежные документы, – неосновательное удержание вещи); меценатам вменялось в обязанность «всеми средствами сопротивляться своей жадности». Правонарушением признавалось и искусственное, не вызванное необходимостью создание препятствий в коммерческих делах: «…имея дело с теми, кому нечего делать…»; в таком случае речь идет не столько об имитации кипучей деятельности для создания видимости работы в целях предъявления к оплате реально несуществующих услуг, сколько о формировании реальной опасности наступления опасных последствий для осуществления действительных усилий по ее устранению и требование уплаты компенсации за это.
В Кодексе Амальфи получил закрепление институт процентного распределения риска возможного ущерба во время морского плавания: доли могли быть равными или пропорциональными в зависимости от вклада в совмест- ное дело или от выполняемых в общем деле функций. Активно практиковалось страхование рисков, в котором прослеживалось понимание и попытка прикладного применения такого свойства риска, как вариативность развития ситуации, хотя о теории вероятности на тот момент говорить не приходилось. Договор о страховании рисков признавался действительным при паритете положительного и отрицательного отклонения риска: «тогда, как выигрыш был чистым результатом, так и убыток…» (когда каждому шансу получить убытки в равной мере соответствовал шанс получить дополнительную прибыль). При отсутствии такого паритета договор страхования морских рисков признавался в судебном порядке недействительным.
В качестве самостоятельного деликта, караемого штрафом в размере ста серебряных монет или заключением «во двор правителя» (примечательно, что без указания срока такого ареста), признавалось воздействие чар и колдовства на правомерное поведение гражданина или на вынесение судебного акта: под воздействием чар человек, который изначально намеревался действовать правомерно, совершает правонарушение или выносит неправосудное судебное решение. Традиционный для средневекового права способ защиты свободы воли человека. При этом не делалось принципиальной разницы между силовым воздействием и магическим; магия и чародейство воспринимались как объективное явление, считалось, что убить можно не только оружием или ядом, но и колдовством; также и понудить к чему-либо человека можно не только угрозой, но и волшебными манипуляциями.
Свобода воли также может быть вполне ущемлена не только колдовством, но и алчностью человека (ибо человек по природе своей грешен, манипулирование же поведением человека посредством использования такого греха сродни колдовству, так как и то и другое предполагает апеллирование к греховной сущности человека). Исходили из того, что необоснованно и избыточно щедрые подарки также являются неправомерными: «если передано более 100 монет золотом, то сердце не могло бы бороться с таким количеством золота…», такие сделки могли признаваться недействительными так как противны природе человека.
Обращают на себя внимание как специфика системы наказаний, так и процедура их применения: в качестве наказания предусматривались изъятие у собственника и обращение в доход государства не только конкретной вещи, но и также конфискация всего имущества (когда конфискуется все имущество, которое можно найти у обвиняемого); при этом если конфискация носит длящийся характер (в случае когда поиски имущества субъекта затянулись) и обвиняемый будет помилован («милостиво прощен»), конфискацию следует продолжать, она носит самостоятельный характер («то, что начато, должно быть окончено»). Такой подход объяснялся тем, что помилование осуществлялось в отношении уголовного наказания, а конфискация рассматривалась как цивилисти-ческое явление. В качестве отдельных видов наказаний предусматривались: предупреждение о недопустимости совершать впредь преступные действия, запрет совершать определенные действия и анафема (высшая мера наказания, более суровая, чем даже смертная казнь); причем исполняются эти наказания пресвитером соборной церкви Амальфи в процессе проповеди. В случае анафемствования происходит ритуальное погашение горящих свечей и объявление виновного «соучастником Иуды, предателя Господа нашего Иисуса Христа». Имеет место весьма распространенный вид уголовного наказания – шельмование посредством отождествления с общеизвестным злодеем.
Весьма подробно Кодексом Амальфи регулировались и наследственные правоотношения: так, отец-наследодатель не может завещать одному сыну имущества больше, чем другому. Имеет место законодательное закрепление презумпции равенства притязаний каждого из наследников. Такого рода равенство притязаний наследников гарантировалось не только в отношении наследования по закону, но и в отношении наследования по завещанию. Завещание завещанием, но презумпция равенства притязаний сыновей наследодателя (братьев, как полнородных, так и неполнородных) обладает приоритетом. Воля наследодателя не может доминировать над волей Бога, определившей кто чей родственник. Рассматриваемая презумпция, с точки зрения традиций римского права, относилась к категории абсолютных/неопровер-жимых. Отступление от такой презумпции бы- ло возможно лишь по согласию самих наследников-сыновей. Права наследниц-дочерей регулировались принципиально иначе.
Детальному регулированию подлежал переход права собственности на свадебное приданое от семьи жены к мужу в соответствии с оформленным брачным соглашением. Такое брачное соглашение могло содержать различные положения по разным вопросам, но определенные моменты определялись нормативно, независимо от содержания упомянутого договора. Каждый вид вещи предполагал самостоятельную процедуру оценки и автономный процесс определения момента перехода права собственности. Так, льняная ткань «меняла» собственника во время передачи «из рук в руки», при этом цена вещи определялась соглашением сторон (в спорных случаях в качестве арбитра мог быть приглашен рыночный староста), а золотые и серебряные монеты (изделия из драгоценных металлов) или медные/оловянные слитки – с момента заверения сделки нотариусом, в таком нотариальном действии обязательно принимал участие в качестве эксперта в вопросах ценообразования представитель цеха менял.
Примечательно следующее: предполагалось, что муж, как глава семьи, владеет всем имуществом семьи, в том числе принимает во владение и приданое жены, но распорядиться самостоятельно им не может. Может пользоваться сам, сдавать в аренду, но права на отчуждение такого имущества он лишен. По общему правилу при наследовании от отца приоритет по многим вопросам имеют его сыновья. Однако в случае смерти обоих родителей дочь приобретает право на имущество, входящее в приданое ее матери, без согласия братьев. Также родители могут передавать семейное имущество в приданое дочери, не спрашивая мнения других детей; мнение же последних о нарушении их имущественных интересов юридически незначимо. Если приданое было потрачено (отчуждено) мужем, то при наследовании возмещению вдове подлежит его (приданого) денежный эквивалент. Если приданое имело форму банковского вклада, то предусмотрена была процедура «восстановления вклада на имя наследника» – т. е. вклад в банке не переоформлялся на наследника, а как бы считался утраченным и подлежал восстановлению.
В некоторых случаях замужней жене принадлежит право отчуждения в период брачных отношений имущества-приданого помимо учета волеизъявления супруга (формально владеющего этими вещами и даже несущего бремя их содержания), хотя фактически он несет даже фискальное бремя на обладание этими вещами. Такие положения распространялись на случаи оплаты лечения себя и своих детей, выкуп родственников из рабства и т. д. Жена может при жизни назначить поверенного (поручителя/га-ранта), который после ее смерти обеспечил бы права сирот (ее детей) на имущество – приданое наследодательницы (в том числе и в наследственных спорах с другими детьми супруга). К действиям такого поверенного предъявлялись особо жесткие требования. Если же даже по небрежности он не исполнит свои обязанности, то признавался мошенником и нес соответствующее наказание.
Если вдова «не соблюдет постели супруга», т. е. после смерти мужа до истечения трехлетнего срока траура вступит в сексуальные отношения с другим мужчиной, то она утрачивает право на наследие имущества покойного супруга, за исключением той части, которая является ее приданым (у нее изымается унаследованное от супруга имущество в пользу других наследников). Наследственные споры могли инициироваться в течение трех лет после смерти наследодателя (предтеча современных сроков исковой давности). Более того, такая «неверная вдова» утрачивает право наследования за своими детьми от упомянутого супруга (за детьми супруга от других женщин она не имела права наследовать в любом случае). Нарушение траурного обета тайно признавалось «наследственным мошенничеством», и вдова могла утратить также и право на свое приданое. Если же она соблюла требования траурного приличия, то вправе унаследовать четвертую часть имущества покойного супруга-наследодателя и к тому же вправе рассчитывать и на свое приданое; на остальное могут претендовать дети и иные наследники. Когда стоимость приданого не покрывалась размером наследственной массы умершего наследодателя-супруга, наследница-вдова была вправе получить все имущество наследодателя. Таким образом устанавливался приоритет выдела и возврата приданого в очередно- сти погашения иных платежей из наследственной массы.
«Соблюдающая постель мужа» и после положенного срока траура вдова признавалась «эль донна» – «хозяйкой общих благ» (особый весьма почетный в итальянском средневековом городском обществе личный статус) и могла продолжать управлять имуществом покойного супруга без разделения наследственной массы между иными наследниками, независимо от того, будут ли дети проживать с ней или нет. Имеет место определенный аналог института фидуциарной собственности: так в полной мере реализовывались правомочия по владению и пользованию вещью, правомочие по распоряжению имуществом было ограничено; кроме того, на собственника возлагалось обременение заботиться о сохранности и улучшении имущества в интересах будущих его владельцев.
Если вдова сохраняет посмертную после супруга верность – «соблюдает брачное ложе» – более двадцати лет, то она уже не сможет повторно выйти замуж, чтобы исключить передачу имущества первого супруга второму в качестве приданого и тем самым ущемить права детей-наследников от первого брака. В таком запрете своеобразно находит проявление институт фидуциарной собственности на рассматриваемый вид имущества. Более того, представляется целесообразным акцентировать внимание на следующем юридическом нюансе: соблюдение «вдовьей верности» рассматривалось в качестве позитивного обстоятельства и порождало весьма существенные преференции для наследницы-вдовы, но до определенного временно́ го предела – двадцать лет, после чего бенефиция превращалась в весьма существенное обременение.
Весьма оригинально регламентировался институт крайней необходимости: если родители не накопили никакого имущества, находились в явной нужде, у них не было средств к жизни в силу их немощи или старости, то в судебном порядке они могут истребовать у своих взрослых детей возмещения расходов на собственное содержание, даже если дети имеют обоснованные претензии к ним; споры между детьми о распределении бремени содержания родителей не допускаются, определяющим фактором по персональным претензиям в таком случае является мнение самих родителей. Дан- ное правовое положение вполне можно воспринимать в качестве преддверия регулирования алиментных обязательств взрослых детей по содержанию своих неработоспособных бедствующих родителей. Причем в отличие от современных юридических реалий, предшествующее уклонение родителей в период их трудоспособности от обязанностей по воспитанию и содержанию своих, на тот момент пребывающих в малолетнем возрасте, детей особых правовых последствий не порождало. Также обращает на себя внимание активная процессуальная позиция истцов-родителей в разрешении вопроса о распределении бремени их содержания. Из текста исследуемого документа однозначно не следует: распределение такого бремени осуществляется с учетом гендерного различия или нет (т. е. возлагается как на сыновей, так и на дочерей, либо только на сыновей), но, учитывая факт употребления ряда терминов (обращения, глаголы) в мужском роде, а также исходя из контекста самого документа (содержание иных корреспондирующих положений), можно с определенной долей уверенности предположить, что речь идет только о сыновьях.
Оспорить право вдовы на наследование имущества покойного супруга было возможно посредством доказывания факта, что в свое время она вышла замуж, не будучи девственницей; но если она родила от этого супруга более трех детей, то это правило не применялось «независимо от того, была ли она в браке девственницей или развратницей». То есть факт зачатия в браке ребенка как бы нивелировал все последствия негативного добрачного поведения; супруг как бы принимал этот факт как приемлемое для него правовое явление. По принципу: если муж счел это допустимым для него, то никто другой обсуждать это не имеет права (никто не вправе заботиться о чести семьи, кроме главы этой семьи).
Также представляет весьма существенный интерес регламентация следующего случая. Если некто, «разлучник» (примечательный термин), увел жену из чужой семьи и муж, оставшись с детьми, умирает, то осиротевшие дети передаются на попечение «разлучнику» независимо от того, кто станет наследником умершего супруга. Вполне могло случиться так, что имущество унаследует брат наследодателя, тем не менее бремя содержания детей умершего воз- лагалось на «разлучника» (по принципу: не разлучай чужие семьи). Но если такой человек содержал более пяти лет чужих детей до достижения ими взрослого возраста, то в дальнейшем при наступлении собственной нетрудоспособности он был вправе в судебном порядке требовать возложения своего содержания на вышеупомянутых приемных детей.
Вполне могло случиться, что в наследственных отношениях претензии наследников друг к другу на наследуемое имущество образуют паритетную ситуацию. Тогда, по Кодексу Амальфи, в споре между наследниками о наследстве при прочих равных условиях приоритет имеет тот, кто нес бремя похорон наследодателя. Ритуал похорон включал в себя не только предание тела усопшего земле, но и отправление соответствующих церковных обрядов и организацию поминальной трапезы с последующей пролонгацией через несколько дней, и инициирование и оплату заупокойных поминальных служб в течение годичного периода.
В качестве наследия норм римского права в рассматриваемом правовом акте получило закрепление регулирование отношений узуфрукта: «если в качестве опоры для своей крыши я использую вашу стену, то стена будет общей для меня и для вас, как и земля, на которой она стоит, но я как пользователь стены обязан возместить вам половину ее стоимости; но, если в стене были окна (т. е. нарушено освещение и обзор), возмещение такого ущерба определяется по соглашению сторон, а если оно не достигнуто, то вновь возведенное строение подлежит сносу». В приведенном положении содержится весьма редкая для рассматриваемого периода ситуация нормирования (причем весьма жесткого) требований инсоляции жилых помещений. Также представляет интерес установление не просто обеспечения доступа к использованию чужого имущества, но и возникновения совместной собственности на земельный участок под таковым имуществом. Ничего не говорится о согласии собственника имущества на использование его вещи другим лицом в порядке института узуфрукта.
Отношения кредита, обеспеченного залогом, регламентированы более чем своеобразно: «…если в залог кредита передан серебряный сосуд и кредитор/залогодержатель докажет факт владения предметом залога, но размер кредита установить не удалось, то достаточно клятвы кредитора для определения размера долга, эквивалентного стоимости заложенного серебряного сосуда, в случае неоплаты долга кредитор становится собственником заложенной вещи». В приведенном тексте представляют интерес и процессуальные моменты – клятва кредитора как способ доказывания размера истребуемого долга, так и материально-правовые – переход кредитору права собственности на заложенную в порядке обеспечения кредита вещь при фикциальном установлении эквивалентности ее стоимости размеру долга по предоставленному ранее кредиту.
Оригинально и детально урегулирован процесс восстановления утраченных документов, которые сами по себе являются достаточным доказательством существования взаимных обязательств сторон сделки: «когда они случайно стерлись, неосторожно уменьшились или умышленно уничтожены…»; в таком случае основанием для восстановления утраченного документа может служить установление фактических отношений хозяйственного оборота. Примечательно, что не документ доказывает наличие коммерческих отношений, а установление факта отношений – основание для восстановления утраченного документа. Если провести аналогию с современным отечественным законодательством, то вышеприведенное положение корреспондирует утвержденному приказом ФССП России от 28 сентября 2015 г. № 15455 «Положению об организации работы по восстановлению утраченных исполнительных документов, исполнительных производств, либо отдельных документов, находящихся в составе исполнительных производств», части 3 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», пункту 4 части 1 статьи 220 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 265 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов». Таким образом, в действующем российском законодательстве установление юридических фактов не пре- следует цели восстановления документа, наоборот, отсутствие возможности восстановить документ является основанием для подачи заявления об установлении юридического факта.
Средневековая раздробленность Италии и развитость морских коммуникаций повышали риск того, что должник скроется от взыскате-ля/кредитора и суда, в силу чего по объективным причинам получили развитие цивилисти-ческие нормы, которые с позиции современного права могут относиться к конкурсному производству (хотя и не настолько детализированы, как в праве городов Пияченци и Бреши). Само понятие «банкрот» (от словосочетания «перевернуть/разбить скамью/лавку» – как символ запрета на профессию в связи с неплатежеспособностью – приставы приходили на торговую точку купца, банкира или менялы и в зависимости от ситуации разбивали или переворачивали лавку на рабочем месте должника) появилось в средневековой Италии.
Регулирование отношений несостоятельности прежде всего основывалось на традициях римского права и позднейших актах его толкования. Так, субъектность должника дифференцировалась на: а) fuggitivi – должник-беглец (скрывающийся) и б) decoctor – должник в общем смысле слова. Естественно, что к первым относились более взыскательно, уровень доверия к ним был крайне низким и обеспечительные меры применялись более жесткого типа, чем ко вторым, и даже в отношении общих обеспечительных мер перечень оснований для их избрания был более обширным.
Судебное разбирательство обеспечивалось активной позицией кредитора, который владел и распродавал имущество должника, осуществлял контакты с другими кредиторами; соглашениями кредиторов также определялась по-следовательность/очередность удовлетворения требований [11, с. 450]. Очевидна определенная приватизация публично-судебных функций, которая предполагает высокую степень рисков различных злоупотреблений.
Акцентируем внимание на следующем обстоятельстве: как уже отмечалось, в рассматриваемый исторический период отсутствовало обособление цивилистики от публичного права, имел место их интересный симбиоз. Примечательно, что природа банкротства (частноправового института) практически отождествлялась с понятием мошенничества (уголовно-правовым институтом); должник посредством экономического обмана уклоняется от уплаты долгов. «Pessimum genus hominum» /лат./ (это худший тип людей). Или еще жестче: «decoctor aequiparatur latroni et furi» /лат./ (банкрот равен демону и фурии) [22]. Необходимо иметь в виду, что в рассматриваемый период времени в праве торжествовало объективное вменение. Установление вины (в том числе направленности умысла), мотива, цели не являлось целью судебного процесса. Господствовал тезис: причинил вред, должен нести ответственность. Экономические отношения основывались на доверии между контрагентами. Любой случай причинения материального вреда в хозяйственной деятельности рассматривался как злоупотребление доверием либо обман, что обусловливало квалификацию действий должника как мошенничество.
Должник, не прибывший по требованию суда по первому же извещению, объявлялся вне закона, заочно исключался из корпорации и изгонялся из города, арестовывалось его имущество, в бесспорном порядке обращались взыскания на его банковские счета и вклады в цеховые кассы, за его поимку объявлялось вознаграждение (которое должны были выплачивать кредиторы солидарно), при его обнаружении он подлежал немедленному заключению в долговую тюрьму. Участь его была незавидной. Предусматривалось, что пребывание в долговой тюрьме осуществляется за счет самого заключенного либо за счет его родственников или друзей (имеются в виду не только питание, но и одежда, обогрев помещения, постельные принадлежности, средства личной гигиены); при этом если в тюремном заключении для должника создавались более или менее комфортные условия, то ему дополнительно вменялось еще и мошенничество. По принципу: на погашение долгов декларируется отсутствие денежных средств, а для создания комфортных условий в местах лишения свободы средств вполне достаточно. Если на содержание заключенного должника никто тратиться не желает, а личные средства у него отсутствуют, то его под присмотром пристава выводят на улицу для сбора подаяний «Христа ради» у обычных прохожих. При совершении не каждого тяжкого преступления формировался подобный усеченный пра- вовой статус преступника (например, для содержания лишенных свободы убийц предусматривалось выделение определенных средств из государственного бюджета и т. д.).
На должника не распространялось право убежища (так, например, он мог быть арестован даже в алтарной части храма, хотя такое право убежища вполне действовало в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления): оказание помощи и приюта ему рассматривалось как правонарушение, караемое крупным штрафом (как за помощь опасному преступнику). И даже несообщение в органы власти об известном месте нахождения такого разыскиваемого должника каралось по аналогии с попустительством тяжкому преступлению. Для поиска утаиваемого имущества к должнику допускалось применение пытки (тождественной мерам воздействия на лицо, совершившее тяжкие преступления). По степени тяжести пытки имели дифференциацию: обычная пытка (когда лицу причиняют физические страдания просто как средство стимулирования к уплате долга, при этом никаких вопросов ему не задают); пытка с допросом (когда испытуемому в процессе причинения страданий задают вопросы о месте сокрытия своего утаенного имущества, о персонах, которые могут выступить гарантами или поручителями по его обязательствам и т. д.); пытка «с пристрастием», которая сопровождалась причинением особых изощренных страданий и мучений испытуемому. Избрание того или иного вида пытки зависело от размера истребуемого долга, от упорства должника в нежелании погасить задолженность, от изощренности применяемых должником способов сокрытия им своих активов, от наличия (предположения о наличии) соучастников, способствующих сокрытию имущества должника.
Такая позиция основывалась на господствующем в Средние века в европейском праве объективном вменении, предполагающем неразвитость института вины в праве. Основанием для привлечения к ответственности был сам факт причинения вреда (в данном случае непо-гашение задолженности), что и послужило основанием трансформации частноправовой ответственности (взыскании задолженности) в уголовно-правовую (замена неоплаченной части долга заключением в долговую тюрьму). Однако с точки зрения общей теории систем и всеобщего закона парности, в таком случае предполагается наличие встречного вектора импульса «правовой энергии». При этом имела место и обратная связь: пребывание в долговой тюрьме само по себе не погашало частную задолженность, а служило как бы стимулом (понуждением) к уплате долга. Должник пребывал в заключении до тех пор, пока долг не был погашен (усилиями его родственников, друзей, членов корпорации). Хотя следует также отметить, что активно практиковалось применение института новации – замены одного обязательства другим, а также институтов гарантии и поручительства, встречались и случаи заключения соглашения о рассрочке погашения долга.
Необходимо акцентировать внимание на том, что должник приобретал статус банкрота не при вынесении соответствующего судебного решения, а с момента объявления о его неплатежеспособности кредитором (или им самим). Предъявлялось требование публичности оглашения такого объявления (в основном публичными местами служили пространства торгового рынка, городской площади перед муниципалитетом или кафедральным собором).
Примечательно, что взыскания по банкротным делам могли обращаться на имущество и личность родственников должника, как старших, так и младших поколений (по восходящей или нисходящей линиям родства, а также на братьев, сестер, кузенов и кузин и т. д.). Если же должник докажет собственную невиновность в наступлении неплатежеспособности (например, что подвергся нападению пиратов, стал жертвой действия вооруженных отрядов враждебного государства), то и тогда он не освобождается от ответственности, в отношении него лишь применяются льготные меры (он не подвергается пытке, не помещается в долговую тюрьму и т. д.).
Должники могут воспользоваться cessio bonorum (передача имущества доверителю) – mercatores falliti beneficium cessionis non habent (при этом торговцы, получающие выгоду от такой уступки, не имеют права требования) – и то лишь после прохождения шельмующего ритуала – cedens bonis in publico et notorio loco vadat nudus, ut posteriora ter ad lapidem vel columnam percutiat clemando «Cedo bonis»: передача активов в публичном месте с прохожде- нием по главным улицам города в обнаженном виде к позорному столбу, по которому следовало трижды ударить и сказать: «У тебя есть товар». Ритуальной части средневековых судебных процедур уделялось особо пристальное внимание, некоторые ритуалы, изначально происходящие из бытовых явлений, со временем приобретали сакральный смысл. Вышеприведенная фраза: «У тебя есть товар» – произносилась даже тогда, когда товар в натуре не передавался (был еще в процессе производства или был в обороте – путешествовал где-нибудь в Средиземном море в трюме торгового корабля). Хотя первоначально этот порядок соблюдался лишь при передаче вещи в натуре из рук в руки.
Активная роль кредиторов в банкротном процессе очевидна: любой кредитор был вправе запретить суду оглашать судебное решение должнику до тех пор, пока этот кредитор не убедится, что таким судебным актом не будут нарушены его правомерные интересы. Проблемы возникали при конкуренции требований нескольких кредиторов: одни кредиторы требовали скорейшего оглашения судебного решения, чтобы ускорить процедуру банкротства, а другие требовали приостановки оглашения судебного решения в целях мониторинга рисков для своих интересов. При такой конкуренции приоритетными были мораторные требования. Торжествовал принцип: не навреди. А должник из-под ареста и так никуда не денется. Также кредитор был вправе воспрепятствовать должнику составлять завещание, если таковым ущемляются права кредиторов. В данном случае должно направляться соответствующее требование нотариусу по принципу территориальности. Кредитор в некоторых случаях также имел право оспорить уже составленное завещание.
Если должник сам объявлял о своей неплатежеспособности (так называемый добросовестный должник – привилегированный статус участника рассматриваемого вида правоотношения), то заключение в долговую тюрьму заменялось домашним арестом; на него возлагалась обязанность добровольно передать все учетные документы суду, а активы – на ответственное хранение кредиторам до рассмотрения банкротного дела по существу и завершения процедуры банкротства. Чтобы избежать заключения в долговую тюрьму, должник мог представить встречное обеспечение либо поручительство корпорации, а также банковскую гарантию.
Находящийся за рубежом должник, желающий принять участие в банкротном процессе, но опасающийся риска заключения в долговую тюрьму, мог получить специальный охранный статус – salvo condotto /лат./ – охранную грамоту под гарантию выдавшего ее государства, позволяющую любому, кому предоставлено это право, путешествовать или оставаться в каком-либо месте без риска быть арестованным. Данный статус предусматривал иммунитет только от арестных мероприятий и применения пыток, весь иной спектр мер воздействия на должника не исключался.
Если после объявления одним кредитором неплатежеспособности должника другие кредиторы, будучи извещены о банкротном процессе, не явились в суд (налицо аналог современного цивилистического института «просрочка кредитора»), то они утрачивали право требования с данного должника по всем обязательствам, которые были предметом судебного разбирательства в данном банкротном процессе. Получила нормативное закрепление очередность удовлетворения требований кредиторов в зависимости от вида кредита и специфики долгового обязательства. Примечательно, что очередность удовлетворения требований иностранных кредиторов была самой последней – своеобразное закрепление приоритета защиты собственных интересов граждан (участников хозяйственного оборота).
Выводы
Если к рассматриваемой проблематике подойти с точки зрения естественнонаучного знания, с позиции общей теории систем, то возникают определенные аналогии. В естественных науках присутствуют такие понятия, как «гомеостаз» – процесс саморегуляции организма, необходимый для его выживания, и «биоциноз» – взаимодействие живых организмов между собой в рамках одной системы. Рассмотренный исторический памятник – Кодекс Амальфи – демонстрирует весьма своеобразный феномен, который условно можно назвать «гомеостазом биоциноза цивилистики и криминологии»: когда в порядке естественного развития системы городского права, основываясь на историче- ском наследии римского права, испытывая существенное влияние «варварских» правовых систем, сформировался уникальный «сплав» взаимообусловливающих положений цивилистики и публичного права, что обеспечило выживание гражданской общины в непростых условиях средневековой действительности. Выявленный контент находит свое проявление также и в современном отечественном праве: например, противодействие коррупции – однозначно криминологическая задача, однако на сегодняшний день наиболее эффективным средством противодействия коррупции является гражданско-правовая конфискация in rem (подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ) [1].
Список литературы Кодекс Амальфи (Tabula Amalfitana): публично-правовые положения частноправового происхождения
- Арямов А. А., Колыванцев А. С., Колыванцева М. А. Конфискационный ресурс антикоррупционной политики: компаративный анализ: хрестомат. учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2019. 320 с.
- Базанов И. А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства. М.: Статут, 2004. 587 с.
- Боголепов Н. Учебник истории римского права: пособие к лекциям. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1895. 350 c.
- Вольтер. Избранные страницы / пер. Н. Хмельницкой. СПб., 1914. 220 с.
- Гаспари А. История итальянской литературы. Т. 1: Итальянская литература средних веков. М.: Изд-во К. Т. Солдатенкова, 1895. 408 с.
- Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. М.: Статут, 2003. 780с.
- Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном гражданском праве. Юрьев, 1898. 465 с.
- Покровский И. А. История римского права. СПб.: Летний сад, 1999. 422 с.
- Суворов Л. С. Западное влияние на древнерусское право. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1895. 286 c.
- Чичерин Б. История политических учений. ХIХ в. М.: Изд-во А. Шклова, 1877. Ч. 4. 609 с.
- Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. СПб.: Изд-во бр. Башмаковых, 1909. Т. 3. 455 с.
- Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4: Торговый процесс. Конкурсный процесс. СПб., Изд-во бр. Башмаковых, 1909. 453 с.
- Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Изд-во бр. Башмаковых, 1915. Т. 2. 550 c.
- Штоль Г. В. Мифы классической древности: в 2 т. 3-е изд. М.: Изд-во Н. И. Мамонтова, 1896. Т. 1. 496 c.
- Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование. Юрьев, 1901. Репринт. М.: Статут, 2003. 509 с.
- Archivio storico italiano. Jssif raccolta di opera e documenti. La storia D’Italia. Appendice. Tomo 1. Firenze. 1842-1844. 594 p.
- Capitula et ordinationes curiae maritinıae nobilis civitatis Amalphae. Napoli, 1844. 40 p.
- Delle antiche consuetudini e leggi maritime delle provincie Napoletane. Notizie e monumenti/publ. per cura di N. Alianelli. Napoli, 1871. 289 p.
- Laudati C. La tabula di Amalfi. Bari, 1894.
- Les Vies des hommes illustres de Plutarque. Amsterdam: Chez R. & G. Wetstein, 1724. 575 p.
- Renouard A. C. Traité des faillites et banqueroutes. Paris: Guillaumin, 1840. T. 1. 534 p.
- Scaccia S. Tractatus de commerciis, et cambio. § VII, sl. V, n. 149.