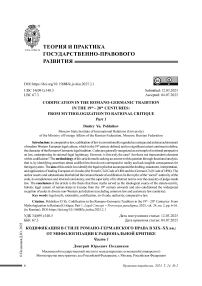Кодификация в стиле романо-германского права в XIX–XX вв.: от мифологизации к рациональной критике. Часть 1
Автор: Полдников Д.Ю.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: отраслевую кодификацию права в компаративистике принято считать уникальным и трудным достижением западноевропейской правовой культуры Нового времени, которое в XIX в. определило и во многом до сих пор определяет стиль романо-германского права. Как правило, кодексы признаны триумфом рационального взгляда на право, опорой его рационально-легальной легитимности. Однако так ли это на самом деле? Нет ли в кодификации трансцендентных элементов? Методология статьи подразумевает поиск ответа на данный вопрос с опорой на функциональный анализ, то есть выявление утверждений о кодифицированном законе, которые не соответствуют действительности и лишены реальных последствий для правовой системы. Целью настоящей статьи служит выявление правовых мифов, сопутствовавших разработке, принятию, толкованию и применению ведущих гражданских кодексов Европы (Гражданского кодекса Франции 1804 г. и Германского гражданского уложения 1896 г.). Автор утверждает и обосновывает, что за рациональным фасадом кодификации стоят мифы «сакрального» авторитета кодекса, его полноты и непротиворечивости, а также превосходства его абстрактных норм над казуистикой прецедентного права. Выводом статьи является тезис о том, что указанные мифы выступали идеологическим источником законоцентричной целостной правовой системы государств-наций в Европе с XIX в., а также обусловили широкую рецепцию кодексов в самых разных незападных юрисдикциях (за исключением стран общего и обычного права). Ключевые слова: правовой миф, рациональность, кодификация, гражданский кодекс, авторитет, сравнительное правоведение.
Правовой миф, рациональность, кодификация, гражданский кодекс, авторитет, сравнительное правоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149592
IDR: 149149592 | УДК: 34(091):340.5 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2025.2.1
Текст научной статьи Кодификация в стиле романо-германского права в XIX–XX вв.: от мифологизации к рациональной критике. Часть 1
DOI:
Кодификацию законодательства принято считать наиболее сложной и совершенной (в сравнении с учетом, инкорпорацией, консолидацией) формой систематизации нормативных правовых актов, направленной на «коренную, внутреннюю и внешнюю переработку действующих нормативных правовых актов путем подготовки и принятия нового кодифицированного акта компетентными государственными органами» [10, c. 385]. В указанном смысле кодификация – это уникальное творение правовой культуры Западной Европы Нового времени, которое стало переломным моментом в истории европейского права и до сих пор во многом определяет стиль правового мышления юристов в самой многочисленной правовой семье современности [33, p. 257].
С точки зрения исследователей модернизации европейских и незападных обществ, разработка и принятие кодексов высшее правовое выражение рациональности социального действия в ее содержательном и формальном измерении. Первое подразумевает осоз- нание индивидом своих интересов и выбор адекватных средств их достижения, второе системную оценку поведения по законам логики и причинно-следственной связи [14, т. 3, c. 425]. По М. Веберу, именно такая рациональность наиболее релевантна для анализа права и бюрократии, поскольку предполагает следование формально установленным правилам и процедурам, независимо от конкретного результата или этических соображений [2, c. 56]. Этим объясняется стремление формализовать, подчинить формальной логике, облечь в рамки четкой процедуры все юридически значимые виды деятельности от законотворчества до правоприменения.
Вместе с тем за рациональным фасадом кодификации скрыты трансцендентные феномены, в том числе мифы. На взгляд признанного знатока романистической традиции М.Х. Гарсиа Гарридо, «ход истории... от Свода Юстиниана VI в. к гражданским кодексам характеризуется, в числе прочего, длительным процессом мифологизации некоторых принципов и “догматов”, которые считаются неизменными и имеющими универсальную ценность» [3, c. 132], например, признание позитивного права законченным и совершенным настолько, насколько оно является воплощением государства.
Мифы изучаются разными науками неодинаково. Философия трактует их как архаи- ческую форму синкретичного общественного сознания, которая воплощает коллективный опыт осмысления жизни (ее смысла, ценностей) поколениями предков, а потому воспринимается на веру, некритично [14, т. 2, c. 581], и в античной цивилизации вытесняется логосом, рациональной формой мышления [9, c. 122]. На языке культурологии мифы предстают специфическими культурными архетипами, моделями поведения, созданными обществом (стихийно или целенаправленно) на основе упорядочения и обобщения социального опыта. Социологи понимают под мифами нарративы, призванные обеспечить социальное единство (идентичность), легитимность порядка, общие ценностные ориентиры, мировоззрение. В политологии миф рассматривается с позиции подмены знания и понимания фактов политики образами, символами, вымыслами [14, т. 2, c. 580].
Мифы правовых систем Нового времени и современности редко становятся предметом изучения правоведов. В основном речь идет о тех, кто склонен к социокультурному подходу, в рамках которого правовая реальность мыслится как система текстуальных, ментальных, праксиологических феноменов, каждый из которых находится во взаимодействии друг с другом [20, c. 76]. В этом контексте миф права предстает как ценностная основа правовой реальности, как «реальность более высокого уровня... эстетически выраженная мечта о справедливости... (которая) рождается в недрах народного духа» [7, c. 1], ключевого метафизического понятия правоведов с подачи исторической школы права Ф. Савиньи.
В отличие от презумпций и фикций в праве, мифы, очевидно, не могут быть опровергнуты формальными средствами доказывания, поскольку опираются на веру, метафизическую основу. Вышедшие из доверия мифы превращаются в социальные иллюзии, или неадекватные действительности представления о правовой системе. Научная рациональность правовой системы не исключает потребности в политических и правовых мифах. Последние позволяют приписывать социальным явлениям то или иное ценностное значение (традиционные ценности), а значит, становятся идеологическим источ- ником позитивного права. Кроме того, они находят свое выражение в презумпциях, фикциях и нормативно закрепленных ритуалах (например, при организации судопроизводства). Вместе с тем соотношение представленных выше понятий в теоретико-правовой науке до сих пор четко не установлено, что затрудняет исследование конкретных мифов кодификации.
В данной статье утверждается, что правовые мифы в указанном смысле сопутствовали кодификациям, основанным как на естественном праве, так и на позитивизме Нового времени, и во многом обусловили их внедрение в Европе, а затем и за ее пределами. Декодификация права и развитие научной рациональности правоведения в XX в. поставили под сомнение соответствие мифов кодификации действительности, а значит, превратили их в социальные иллюзии , чреватые утратой кодифицированным правом действенности и легитимности из-за неадекватности потребностям общества, его представлениям о ценностях, материальным условиям жизни.
Акцент исследователей на выражении мифов в правосознании и формах права позволяет использовать для их изучения функциональный анализ , разработанный в рамках направления социологической юриспруденции: выявления утверждений о кодифицированном законе, которые не соответствуют действительности и лишены реальных последствий для правовой системы [24, p. 809].
Предмет исследования ограничен кодификацией гражданского права, поскольку именно она определила стиль и теорию отраслевой кодификации романо-германской правовой семьи (civil law в англоязычной компаративистике). Акцент сделан на двух великих кодексах: Гражданском кодексе Франции 1804 г. (далее – ФГК) и Германском гражданском уложении 1896 г. (далее – ГГУ), которые не только явились основой национального гражданского законодательства, но и во многом определили теорию отраслевой кодификации в Европе, а также стали наиболее успешными «экспортными» моделями в незападных юрисдикциях во многом благодаря трем мифам, рассмотренным далее.
-
1. Мифы отраслевой кодификации
-
1.1. «Сакральный» авторитет кодексов
-
Несмотря на декларативный разрыв с правом «(феодального) старого порядка», с введением кодексов в действие французские юристы XIX в. продолжили средневековую традицию написания комментариев на текст Свода Юстиниана, наделяя его почти сакральным авторитетом писаного разума [15, с. 423]. Хотя в данном случае авторитет, или способность определять поведение субъектов без насилия (по М. Веберу), опирался не на традицию, а на формальную рациональность, первые комментарии отличает абсолютное уважение к ФГК, отождествление права с кодексом, буквализм толкования, отсутствие всякой оригинальности, истории права, философских рассуждений и критики [32, p. 69]. Лишь спустя столетие ученые-правоведы осудили «сакрализацию» кодекса «школой экзегезы», раскрыв, помимо воли законодателя, другие важные источники права и обусловленность правотворчества и правоприменения изменчивым социальным контекстом.
Французский миф об авторитете кодекса сопутствовал введению ФГК в действие в оккупированных войсками Франции странах, где затем на его основе были приняты собственные гражданские кодексы (Нидерланды 1838 г., Италия 1865 г., Португалия 1867 г., Испания 1889 г.). Ведущая роль мифотворцев принадлежала законодателю и юридической школе экзегезы. Все основные юридические трактаты были доступны в оригинале или переведены с французского на национальные языки [26, p. 277].
В германских землях Центральной Европы (за исключением Австрийской империи, принявшей ГК 1811 г.) авторитет кодекса обсуждался (А. Тибо, Ц. фон Лингенталь), но уступил авторитету метафизического «народного духа» (Ф. Савиньи) или самой научной доктрины пандектистов (Г. Пухта, Г. Дернбург, Б. Виндшейд и др.). Последняя претендовала на рациональность закрытой системы норм, но критерием истинности суждений о ней являлась логика и системная целостность правил, а не их укорененность в социальной действительности (чего требовал научный пози- тивизм О. Конта). В результате декларативный отказ от метафизического обоснования норм права ссылкой на «народный дух» (по Ф. Савиньи) или естественный разум породил «небеса юридических понятий», сатирически изображенные Р. Иерингом в одноименном эссе 1884 года. Однако созданный с опорой на достижения научной доктрины кодекс (ГГУ) быстро подчинил ее своему авторитету, породив «текстуальный позитивизм» (по Ф. Виакеру) питательную среду для иных мифов отраслевой кодификации.
-
1.2. Полнота и непротиворечивость кодекса
Рефлексируя о причинах следующего мифа кодификации, французский теоретик-цивилист К. Атиас отметил: «мечта сменилась мифом, когда современники Гражданского кодекса поверили в то, что он тождествен гражданскому праву и включает его все целиком» (цит. по: [8, с. 169]). Историку несложно связать истоки данного представления с предпринятой Юстинианом консолидацией «всех нерушимых установлений нашего государства» (по указу «Omnem» 533 г.). Это авторитетное утверждение императора дало средневековым схоластам основание именовать результат «Сводом цивильного права», то есть полным его собранием [6]. В «Ординарной глоссе» XIII в. Ф. Аккурсий утверждал: «в своде права можно найти все (необходимое)», а «наука права заключает в самой себе и начало, и цель» (Glossa ad Inst. 1.1) (цит. по: [15, с. 122]). Сторонники юснатурализма Нового времени заменили полноту Свода полнотой (беспробельностью) предписаний естественного права, выведенных из верных аксиом (принципов). Например, такова позиция С. Пуфендорфа в трактате «О праве природы и народов в восьми книгах» (1672 г.). В его понимании позитивное право требуется лишь для конкретизации предписаний о формальностях сделок, сроках, видах ответственности и т. п. (цит. по: [31, S. 180]).
Составители проектов кодексов Нового времени перенесли это свойство естественного права на позитивный закон и, как следствие, запретили судьям отказывать в правосудии «под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона» (ст. 4 ФГК) [23, с. 18]. Прочие кодексы XIX в. (за исключением буквально переведенных с французского в период правления Наполеона I) не содержали точно такого же предписания, но подразумевали аналогичный запрет, лишая судью возможности отказать в вынесении решения с мотивировкой, аналогичной non liquet (лат. «не следует, не ясно») по римскому праву.
При составлении ФГК презюмируемая (а по сути, мифологизированная) полнота закона достигалась за счет системности законотворчества и ясности языка закона, выражающего в нормах «не искусство логики... а здравые понятия простого отца семейства», как советовал Монтескье в кн. XXIX., гл. XVI своего трактата «О духе законов» [13, с. 546].
Разработчики ГГУ опирались на системное видение права в доктрине профессоров-пандектистов. Начиная с Г. Пухты они ставили системе права высокую планку логической безупречности и непротиворечивости в мельчайших деталях. Любая правовая концепция должна быть включена в общую систему и не противоречить ей. Тем самым исключается принятая в средневековом римско-каноническом праве диалектическая игра между общим правилом и исключениями, а также принятое во французской доктрине количественное соотношение правила и исключений: правило применяется к большинству случаев, тогда как исключение действует лишь в некоторых особых обстоятельствах. Представление Г. Пухты о системе исключает такое сосуществование правила и исключений, подобно правилу Евклида о сумме углов треугольника, всегда равной 180°. Если действительно выявлено исключение из общего правила, то единственный выход – изменить правило.
Вместе с тем ни элегантно-ясный ФГК, ни профессионально отточенное ГГУ не соответствовали мифу полноты правового регулирования своего предмета. Так, несмотря на все усилия разработчиков, уже первая редакция ФГК содержала двусмысленности и пробелы. В их числе:
– неточное значение термина «вещи» (choses) в определении права собственности в ст. 544 (только материальные объекты или же все имущество (biens), включая права на вещи?);
– неясные критерии определения незаконности (неправомерности) основания договора (cause licite), предусмотренного, но не определенного в ст. 1108, 1131, 1133 (судебная практика Франции так и не установила четких критериев, вплоть до исключения данного условия в ходе реформы ФГК 2016 г.);
– неопределенность понятия вины (faute) как одного из условий возмещения вреда за правонарушения по ст. 1382.
ГГУ заслуженно считают более последовательным и точным законом. Но при внимательном рассмотрении можно выявить ряд пробелов. Так, в книге 2 обязательственного права [4] отсутствуют:
– предписания насчет преддоговорной ответственности (хотя концепцию culpa in contrahendo обосновал еще Р. Иеринг и после реформы 2002 г. она закреплена в § 311 (2), 241 (2) ГГУ);
– нормы насчет скрытых недостатков товара;
– нормы об изменении договорных обязательств в случае существенного изменения обстоятельств (в условиях гиперинфляции после Первой мировой войны этот пробел суды преодолевали со ссылкой на принцип добрых нравов § 242, пока необходимые нормы не были внесены в § 313 в ходе реформы 2002 г.);
– а также не конкретизирован принцип защиты прав из договора третьих лиц (§ 328);
– в положениях об отдельных видах договоров недостаточно подробны нормы о трудовом договоре, несмотря на важность наемного труда (§ 611 не содержал никаких предписаний о рабочем времени, отпуске, порядке увольнения и т. д.).
Пробелы в ведущих моделях гражданских кодексов Европы «мигрировали» вместе с рецепцией кодексов в других государствах. При этом суды и комментаторы XIX в. воздерживались от критики кодексов не из-за невнимательного прочтения, а скорее из уважения к их авторитету и веры в их полноту. Лишь в конце XIX в. французские юристы признали наличие некоторых пробелов в ФГК и попытались их объяснить изменением экономических и социальных условий после 1804 года.
-
1.3. Превосходство абстрактных норм кодекса над казуистикой судебной практики
Поиск справедливого решения конфликтов в традиционных обществах почти всегда опирается на конкретику дела (казуса) и опыт рассмотрения аналогичных дел судьями. Этот опыт нашел отражение в казуистичном стиле норм источников права «старого порядка» и ранних кодификациях (от «кодекса» Юстиниана до Прусского земского уложения 1794 г.). Причиной тому относительная неразвитость абстрактного мышления знатоков обычаев и прагматичный опыт римских юристов, которые называли нормы (regula) кратким изложением существа аналогичных дел (Павел, D.50.17.1) и предупреждали об опасности определений (Яволена D.50.17.202).
-
2. Мифы кодификации и ее рецепция в ходе модернизации правовых систем
Иной подход сложился в ходе кодификации права Европы Нового времени под влиянием теорий естественного права [28]. «Геометрический стиль» рассуждений о праве подразумевал дедуктивное выведение правил из аксиом разума, с тем чтобы составить из них сборник обобщенных правил, применимых к разрешению казусов по модели категорического силлогизма. Именно такой ход мысли позволял прийти к верному результату в любых науках, как предлагал уже Рене Декарт в «Рассуждениях о методе...» 1637 года. Реализация указанного подхода к правосудию предполагала абстрактный стиль норм закона, формализацию их применения, а также запрет судебного прецедента. Все эти требования выполнены в ходе разработки и введения в действие ФГК.
Создатели проекта ФГК воплотили идеал просветителей, найдя компромисс между «демоном казуистики» первых кодексов и крайней абстрактностью трактатов юснату-ралистов. По словам Ж.-Э. Порталиса, «назначением законов является установление, широкими мазками, общих правовых максим; следовательно, необходимо определить плодотворные принципы, не опускаясь до мелких вопросов, могущих возникать по каждому поводу» (цит. по: [8, с. 406]).
Законодатель обязал судей указывать основания (мотивы) своих решений (по Закону от 16–24 августа 1790 г.) и запретил им выносить решения в виде общего распоряжения (ст. 5 ФГК). В сочетании с мифами авторитета и полноты кодекса это породило представление о крайне формальном применении закона путем решения категорического силлогизма, что и выразил краткий стиль решений Кассационного суда Франции с начала XIX и до конца XX в. [12, c. 526].
Школа экзегезы также поддержала миф о судьях – служителях закона («говорящих устах закона», по Монтескье) вместо мифа о судьях – «оракулах права» при «старом порядке». Миф о превосходстве правосудия на основе кодифицированных норм получил распространение в Европе вместе с ФГК. В Германии его поддержала доктрина профессоров-пандектистов, которые в XIX в. развили представление о системности права, особых приемах его толкования (герменевтики) и применения (алгоритм Subsumption). Учение о применении права как дедуктивной (силлогистической) модели превращения общих норм закона в судебные решения, определяющие права и обязанности сторон, создал и объявил важной частью теории частного права Ф. Са-виньи [19, т. 4, с. 157]. В его основу положена важная для пандектистов презумпция полноты и непротиворечивости системы права, которую доктрина поддерживала путем толкования явного и скрытого содержания закона [5, с. 87].
Судьям же надлежало «относиться с почтением» к закону и запрещалось «наполнять» текст закона собственным смыслом, ведь пытаться улучшить закон – значит ставить себя выше законодателя [19, т. 1, с. 408]. Концептуальное обоснование подкреплялось ссылкой на римское право указом 529 г. Юстиниан запретил судьям выносить решения «по примерам (то есть судебным решениям), а не по законам» (Кодекс 7.45.13) [11, с. 179]. Напротив, свойственное английскому праву судейское правотворчество подверглось осуждению, поскольку оно «нелогично и пагубно... препятствует более мудрому последующему решению судьи... и служит потребностям ленивого судьи... Прецедентное право существует там, где нет никакого научного знания или теории, чтобы обогатить и направлять юридическую практику и законодательство» [25, p. 29]. Однако миф о превосходстве абстрак- тных норм кодекса над казуистикой прецедентов задавал высокий стандарт системной целостности и взаимосвязи всех видов юридической деятельности, которому все сложнее было соответствовать в XX веке [29].
Три рассмотренных мифа содействовали становлению «законоцентричных» национальных правовых систем, а те, в свою очередь, способствовали укреплению сильных национальных государств и развитию индустриальных капиталистических обществ, которые в XIX в. подтолкнули модернизацию одних незападных обществ и колонизовали другие.
В XIX–XX вв. отраслевая кодификация права стала важным фактором расширения влияния романо-германской правовой семьи в ходе модернизации незападных обществ. Кодексы распространялись в незападном мире не только путем экспансии права европейских метрополий в их колониях, но и при проведении реформ в (полу)зависимых странах, где правящие элиты признавали традиционное право препятствием прогрессивному развитию, а кодифицированное право цивилизованным средством его ускорения. Предметом кодификации чаще всего становились пять-шесть профилирующих отраслей права конституционное, гражданское (иногда с выделением торгового), уголовное и процессуальное. Принятие кодекса по европейской модели влекло за собой обращение к опыту его доктринального толкования и судебного применения, а вместе с тем и заимствование рассмотренных выше мифов кодификации.
Мир иберо-американского права. Не менее половины стран Латинской Америки, несмотря на обретение независимости, в XIX в. кодифицировали свое право по образцу бывших метрополий. В частноправовой сфере они преимущественно опирались на ФГК и подражавший ему ГК Чили 1855 года. Так принятие новых кодексов повлекло за собой рецепцию иностранных комментариев к кодификационным положениям. Это, в свою очередь, обусловило сближение юридического мышления многих латиноамериканских юристов и судей с их европейскими современниками [30, p. 133–142].
В частности, разработчик ГК Чили 1855 г. Андрес Белло выступал за кодификацию в Чили (и других странах Латинской Америки) в первую очередь для установления правовой определенности, содействия национальному единству и модернизации общества после обретения независимости от Испании. Он считал, что хорошо структурированный и доступный кодекс может заменить сложный и часто противоречивый свод колониального права, способствуя созданию более справедливой и предсказуемой правовой среды [30, p. 137].
Аналогичных взглядов придерживался разработчик ГК Аргентины 1869 г. профессор Далмасио Велес Сарсфилд. С его подачи ст. 22 ГК предусматривала: «То, что прямо или косвенно не указано в какой-либо статье настоящего Кодекса, не может иметь силу закона в гражданском праве, даже если такое положение ранее действовало либо в силу общего закона, либо в силу специального закона» [27, p. 151]. При этом кодекс в XIX в. носил скорее символическое значение для аграрного общества с уровнем грамотности не выше 20 %.
На исламском Ближнем Востоке кодекс как форма права считался чуждым шариату вплоть до реформ Танзимата в Османской империи, частью которых стала масштабная кодификация торгового, уголовного, процессуального права, в основном по французскому образцу. Своеобразием отличался свод предписаний (Маджалла) обязательственного и процессуального права 1876 г.: по форме он соответствовал отраслевому кодексу, но по содержанию обобщал исламское правоведение (фикх).
Маджалла ввел в исламское право миф авторитетного кодекса для светских судов и обобщающий стиль правовых норм (правил, дефиниций, принципов), выведенных из казуистики ведущих юристов Ханафитской школы специалистами Высшего судебного совета. На выражение в кодексе стандартов цивилизованного права указывал руководитель кодификационной комиссии в 1860–1876 гг. Ахмед Джевдет-паша: «Как известно Вашему Высочеству, та часть шариата, которая касает- ся мирских вопросов, делится на три категории: вопросы брака и семьи, сделки в целом и уголовное право. Право всех цивилизованных народов подтвердило эти три раздела, из которых посвященный сделкам называется гражданским правом» (цит. по: [16, с. 576]). Однако в отличие от ФГК Маджалла не претендовал на полноту регулирования и формализм применения. Он не регулировал семейные и наследственные отношения, а также допускал толкование норм по методу предпочтения (истихсан) лучшего решения с учетом мнения знатоков шариата.
Указанный прием позволил обосновать соответствие шариату кодексов в других исламских странах. Так, мусульманские правоведы (факихи) университета Аль-Азхар пришли к заключению, что большинство норм ГК Египта 1883 г., следующего ФГК, в той или иной форме уже зафиксированы различными толками фикха, не противоречат императивным положениям шариата и отвечают общим интересам мусульман [21, с. 112].
В Восточной Азии эру кодификации открыли буржуазные реформы Мэйдзи последней трети XIX в., в ходе которых правительство реализовало программу принятия пяти кодексов, подготовленных на основе сравнительного изучения законов ведущих европейских стран. Разработка и принятие ГК 1896 г. не обошлись без дискуссий о совместимости индивидуализма норм частного права с «азиатскими ценностями» (почтительности к родителям и властям, моральных обязанностей- гири индивида перед группой), но это не помешало мифологизации кодекса. Один из разработчиков проекта профессор гражданского права университета Токио Нобушигэ Ходзу-ми в начале XX в. доказывал, что японское право стало частью романо-германской правовой семьи [16, с. 379].
Японский опыт кодификации восприняли правительства поздней империи Цин (без особых успехов), Китайской республики (ГК 1929– 1931 г.) и единственного независимого королевства Юго-Восточной Азии – Сиама (Таиланд, ГК 1925 г.). Историки обоснованно ставят вопрос о значительном расхождении «права в кодексе» и «права в жизни» с учетом особого контекста (Юго-Восточной Азии). Но оно не влияло на обращение к мифам кодификации.
Даже в Британской Индии введение прямого правления короны по Акту об управлении Индией 1858 г. ознаменовалось принятием серии консолидированных актов и Уголовного кодекса 1860 г., которые превратили англо-индусское право, по мнению современников, в «(упорядоченный) космос» по сравнению с «хаосом» прецедентного права метрополии. При этом специфика юридической техники кодификации (консолидации) не исключала общности мифов авторитета и полноты консолидированных актов, которые позволяли всего за несколько часов прочтения получить весьма полное и точное представление о позитивном праве [22, с. 22].
Обретя независимость во второй половине XX в., большинство стран европейских метрополий сохранили и реформировали кодексы вместо возврата к доколониальному традиционному праву.
Даже в социалистических странах , несмотря на идеологический разрыв с буржуазным правом, народные правительства активно использовали форму кодификации. Стиль во многом определили кодификации Советской России первой волны в 1920-е гг., затем в 1950-е. Советская теория права в 1960-е гг. провела четкое различие между формами систематизации права. С.Н. Братусь четко назвал кодификацию «сам(ой) выс-ш(ей) форм(ой) систематизации, поскольку кодекс – единственный нормативный акт (закон), построенный по определенной системе и регулирующий либо всю совокупность однородных общественных отношений, то есть определенный их вид, либо по крайней мере основную, важнейшую часть таких отношений» [18, c. 3]. Мифы авторитета и полноты кодекса, по признанию В.В. Лазарева, препятствовали доктринальному обсуждению пробелов в советском праве [17, с. 429].
По примеру РСФСР кодексы принимали или реформировали как республики Союза ССР, так и государства социалистической ориентации. В народных демократиях Восточной Европы модель советской кодификации наложилась на «буржуазную» благодаря общности трех рассмотренных мифов.
КНР, напротив, отличалась поздней кодификацией права. Первые кодексы были приняты лишь в период реформ Дэн Сяопина (на- чиная с УК и УПК 1979 г.). Причиной тому сомнения руководства КНР в целесообразности управления страной на основе принципа законности. Мао Цзэдун не без оснований связывал с законностью и рационально-легальной легитимностью рост бюрократии и ослабление революционного порыва. В конце XX в. реформаторы сделали ставку на консолидацию гражданского права [1, с 422].
Лишь политический курс на завершение строительства социалистической правовой системы с китайской спецификой открыл дорогу принятию ГК в 2020 году. Председатель КНР Си Цзиньпин в докладе 15 июня 2020 г. приветствовал принятие ГК КНР как «крупное достижение в развитии социалистического верховенства закона в новую эпоху» и важную веху, которая «систематически интегрирует гражданско-правовые нормы, разработанные на основе многолетней практики в течение более чем 70 лет [строительства] Нового Китая» [27, p. 202].
Столь высокая оценка отраслевого кодекса в XXI в. благоприятствует мифологизации его достоинств учеными и практиками, но уже не выглядит бесспорной с учетом западноевропейского опыта неизбежной декодификации права и более реалистичного взгляда правоведов на порожденные кодификацией мифы или иллюзии в XX веке.
Продолжение следует...