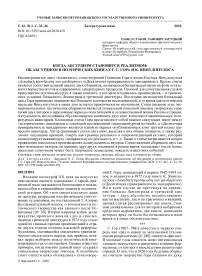Когда абсурдизм становится реализмом: об абсурдном в поэтических книгах Г. С. Гора и К. Яннулопулоса
Автор: Заруцкий Павел Станиславович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается цикл «блокадных» стихотворений Геннадия Гора и книга Костаса Яннулопулоса «Δεκαδικήπροσήλωσητωνμανδαρίνων» («Десятичная приверженность мандаринов»). Целью статьи является сопоставительный анализ двух сборников, являющихся беспрецедентными на фоне остального творчества поэтов и современных литературных процессов. Основой для сопоставления служит присущая им поэтика абсурда, а также контекст, в котором создавались произведения, - в трагических условиях блокадного Ленинграда и греческой диктатуры. Последние десятилетия блокадный цикл Гора привлекает внимание все большего количества исследователей, в то время как поэтическое наследие Яннулопулоса в наши дни остается практически не изученным. Сопоставление этих экспериментальных поэтических сборников является уникальной попыткой анализа творческих стратегий двух авторов в переломные периоды политической и художественной жизни России и Греции. Актуальность исследования обуславливается значением двух книг в контексте национальных литературных авангардов. Блокадные стихи Гора представляют собой важное связующее звено между «историческим» авангардом и советской послевоенной «неподцензурной поэзией», а «Десятичная приверженность мандаринов» является одной из первых опубликованных книг третьей волны греческого авангарда. Автор сравнивает стихи двух книг, выделяя в них общие элементы, а также различия: ощущение времени, смерть как граница реального и сопровождающий ее смех, который символизирует искаженную, «неправильную» реальность, и т. д. Также в статье затрагивается вопрос проявления идеологии в произведениях вышеуказанных авторов. Сопоставления сборников двух так явно непохожих авторов, не знавших друг друга, писавших в разное время, показывает тем не менее, насколько созвучным может быть творческое осмысление тяжелых и жестоких событий.
Греческая литература, русская литература, авангард, абсурд, смех в литературе, обэриу
Короткий адрес: https://sciup.org/147226553
IDR: 147226553 | УДК: 82(091) | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.429
Текст научной статьи Когда абсурдизм становится реализмом: об абсурдном в поэтических книгах Г. С. Гора и К. Яннулопулоса
Влияние катастроф XX века на искусство невозможно оценить однозначно. Старый, привычный язык оказывается беспомощен и нежизнеспособен в страшнейшие моменты человеческой истории. Об этом свидетельствует даже не цензура, репрессии или физическое уничтожение художников, но поставленный Т. Адорно фундаментальный вопрос о возможности поэтического творчества как такового после Освенцима [10: 30]. Вторая мировая война делит искусство прошлого века на «до» и «после»; падение греческой диктатуры в 1974 году стало одной из главных причин произошедшей в стране двумя годами позднее языковой реформы. Художник, оказавшийся свидетелем травматического опыта своего народа, как правило, вставал перед выбором между политической ангажированностью и молчанием. Однако известны примеры, когда именно данный опыт создавал уникальные творческие эпизоды. К подобным стоит отнести цикл «блокадных» стихотворе-
свидетельствует в своих воспоминаниях И. Бах-терев:
«Тогда Заболоцкий подал правильную мысль: присмотреться к окружавшим нас литераторам и наиболее, говоря современным языком, перспективных включить в особый список кандидатов, не говоря им, упаси бог. А затем следить за их творчеством, стараться направить. Такой список был постепенно создан, в него входили поэты и прозаики. Вот кого я вспомнил: Варшавский, Синельников, Корпачев, Тювелев, Геннадий Гор, Дой-вбер Левин» [2: 77].
Однако собственное «обэриутское» творчество Гор всю жизнь хранил в строжайшем секрете. Лишь в 1981 году после смерти писателя его родственниками были обнаружены рукописи 95 стихотворений, датируемых 1942-1944 годами. Данные стихотворения являются авторской попыткой фиксации и осмысления пережитого им в блокадном Ленинграде, который он покинул с эвакуационным эшелоном в апреле 1942 года. В нечеловеческих условиях «полужизни», кровопролития и каннибализма именно обэриутский абсурдизм со свойственным ему гиперболизированным акцентом на глубокую неестественность ужасных событий позволил Гору максимально правдиво запечатлеть увиденное им в осажденном городе.
К. Яннулопулос (1948-1997) представляется полной противоположностью Гора: оставаясь до конца жизни приверженцем авангарда, он так и не посвятил себя литературному творчеству. В Греции он известен как основатель суще -ствовавшего с 1977 по 1981 год журнала «TZaZ» («Джаз»), глава музыкального лейбла, организатор фестивалей и радиоведущий. Знатокам поэзии известны его переводы битников Г. Кор -со, Р Бротигана и Л. Ферлингетти. Однако собственное его поэтическое творчество остается практически неизвестным, даже несмотря на тот факт, что без упоминания Яннулопулоса не обходится ни одно исследование греческого авангарда 1970-х годов. В 1965-1970 годах Яннулопулос активно экспериментировал со звуковой и визуальной составляющими поэзии; написанные им в этот период работы в жанре «конкретной поэзии» (и впоследствии опубликованные в вышедшей под его редакцией всемир -ной «Антологии конкретной поэзии») являются первыми из известных греческих образчиков данного направления. Единственная книга автора, «Десятичная приверженность мандаринов», была напечатана в 1972 году в маленькой типографии на средства его друга, ускользнув от внимания цензуры увядающего, но все еще грозного режима. Сборник состоит из 114 небольших произведений, по своей форме представляющих собой некий гибрид верлибра и дневниковых заметок. В отличие от ранних работ автора, в которых угадывалось влияние дада, зауми, звуковой и конкретной поэзии, стихотворения «Десятичной приверженности мандаринов» за- труднительно определить не только по форме, но и по стилистике. Но абсурдизм и неожиданные сочетания слов и образов, которые не разрушают, но лишь добавляют убедительности конструируемой автором вселенной, позволяют говорить о том, что в 1972 году в Греции времен военной диктатуры молодой Яннуло-пулос неосознанно позаимствовал ряд методов из творческого арсенала ленинградских обэри-утов, подобно тому как за тридцать лет до него это абсолютно осознанно сделал Гор.
В произведениях обоих писателей при одинаково отчетливом присутствии авторских «я» абсолютно по-разному передается ощущение времени. Если у Гора время нелинейно, но движимо (от авторского возвращения в детство до ощущения неминуемой смерти в ближайшем будущем), то поэтическая вселенная Яннулопулоса застряла в некоем безвременье. Ощущением замкнутости и граничащим с обреченностью страхом перед неизменностью этого состояния переполнена вся книга: «Вдруг мне кажется, что спустя столько тысяч возрастов небеса так и не отверзутся. Мог бы кто предвидеть, что нечто столь завораживающее окажется пустой суетой?»1. Или:
«Мой маленький мир, на что ты смотришь?
Тебя свела с ума
История? Согнись хорошенько и увидь клетку своего разума. Не требуй рассудительности.
Хватит с нас границ, Насилия, отцов поездов и нас» (riavvouXonouXo^: 16).
Герой Яннулопулоса принимает свою реальность как данность и действует согласно ее законам, герой же Гора ощущает себя «выбитым» из его действительности в некое враждебное подпространство: «И небо вдруг окаменело»2 или:
«<...>
Вдруг море погасло.
И я
Остался без мира, Как масло» (Гор: 126).
В противовес обжившемуся в своем мире герою Яннулопулоса герой Гора - невольный гость. Быть может, именно поэтому одним из центральных образов в поэзии последнего является река, в которой тонут деревья, дома, сердце и лирический герой, но которая продолжает свое течение, в то время как у Яннулопулоса это неподвижные деревья и звезды.
Поэтические вселенные обоих авторов пограничны. В мире блокадного Ленинграда Гора смерть является единственной безус -ловной реальностью, она довлеет и берет свое, а сама жизнь перестает приниматься на веру: «Нас несут в подвал. И я кричу: / - Живой! Живой! / Но мне не верят» (Гор: 49). В мире же Янну-лопулоса смерть - это то, что еще можно «заштукатурить», от чего можно отвернуться: «Никто не хотел услышать усопшего» (Γιαννουλόπουλος: 15). В Ленинграде Гора дети обречены еще в материнской утробе: «Еще беременный живот, / Да крик зловещий в животе, / Да сын иль дочь, что не родятся» (Гор: 48). Но и в подаче греческого автора участь ребенка видится едва ли менее мрачной: «Вот и младенцы рождаются, умирают, не поняв, не почувствовав, слепые, глухие, одинокие, и всегда ничто, всегда боль» (Γιαννουλόπουλος: 21).
В контексте обстоятельств маркером смерти, а точнее, не-бытийности у обоих авторов выступает и само авангардистское письмо. К. Ичин считает, что именно трагедия обэриутов 1930-х годах, а не смерть Маяковского, обозначила «конец так называемого русского авангарда, от которого отреклись все его представители…» [6: 103]. В подцензурной Греции начала 1970-х годов диктатура была «единственной существенной и тяжелой данностью» [13: 74], и греческая экспериментальная литература продолжала развиваться преимущественно в иммигрантской среде. Таким образом, «мертвый» язык авангарда был способен не только подчеркнуть «неправильность» описываемой реальности, но и зафиксировать некий «потусторонний» опыт авторов. Смерти и обреченности у обоих поэтов сопутствует не плач, но смех:
«<…>
Но лето в закрытые окна придет И солнце затеплит в квартире. И конь улыбнется недужный И дятел ненужный, На папе улыбка сгниет.
Мышь убежит под диван
И мама растает, и тётка проснется В могиле с рукою прощальной В квартире, в могиле у нас» (Гор: 29).
и
«Морской конек не смог взлететь. Сейчас все так самозабвенно смеются. Смеется и подобострастная рысь. Все скопление треугольников сделалось равнозначным. Некий ослепленный Бог верит, что он не слепой» (Γιαννουλόπουλος: 11).
Смех и улыбки в данном случае являются индикаторами некоей искаженной реальности, в которой привычные законы теряют силу. Ян-нулопулос, как и другие представители послевоенного греческого авангарда, ориентировался на творческие практики своих предшественников – греческих сюрреалистов. Смех и абсурд в его творчестве также уходят корнями в сюрреализм, а точнее, в черный юмор, «нередко имеющий нотки трагедии» и,
«…подобно иронии Сократа, открывающий перед нами безграничность, пустоту, бездну, протяженность ограниченного в нескончаемое и дающий необозримые возможности, выходящие за узкие рамки повседневной жизни» [12: 25].
Стоит также отметить, что соседство «смеховой культуры» и смерти имеет глубокие фольклорные корни, что, в частности, нашло отражение и в творчестве русских авангардистов, в первую очередь – наиболее ценимых обэриутами поэтов А. Крученых и В. Хлебникова [8: 380]. Хлебниковской цитатой воспользовался и А. Александров, когда, подразумевая обэриутов, написал, что «[о] тех, кто пришел после Велимира Хлебникова, тоже можно сказать, что их смех отравлен “смехом смерти”» [1: 15].
В своем поэтическом творчестве Яннулопу-лос сторонился любой идеологии; в первую очередь его поэзия была реакционна по отношению к климату, царившему в кругах греческой интеллигенции. Однако в Греции времен диктатуры политический подтекст обретала не только форма произведения, но даже само имя автора [5: 200]. И конечно же, молодой приверженец поэтических новшеств и один из первых апологетов «свободного» джаза в Греции не мог в собственном творчестве избежать рефлексии на тему творческой несвободы, в которой оказалась его страна. В этом контексте кажется закономерным, что поэт оказался среди задержанных во время восстания в Афинском политехническом университете в 1973 году. В отличие от других, открыто левых авангардистов, чьи первые публикации пришлись на закат греческой хунты (Т. Хитирис, А. Пагулатос, К. Триандафиллу), Яннулопулос ощущает себя скорее потерянным, нежели готовым сражаться. Данное состояние иллюстрирует стихотворение сборника под номером 74, которое вполне можно считать авторским автопортретом:
«Я маленький плывущий котенок. Поначалу я дрожал, но после привык. Часто срезал кору с сердец ангелов и глотал сочащееся масло подобно поездам, глотающим свои пути. В итоге это не пошло мне на пользу. Глаза мои перестали смотреть в мою сторону и стали устрицами, беспрестанно играющими с белками моей политической ипостаси. Поэтому с тех пор я не молюсь вечерами. Боюсь» (Γιαννουλόπουλος: 31).
Гор, даже в своих ранних работах не отступавший от просоветского содержания, оказался вне идеологии перед лицом блокадного ужаса. Пограничная ситуация, оспаривающая своим существованием глобальные концепции и упраздняющая привычный язык как средство описания, упразднила также и перепуганного советского писателя, которым Гор был в некоей другой ре-альности3. «Я выстрел к безумью. Я – шах / И мат себе. Я немой. Я уже / Ничего и бегу к ничему» (Гор : 47), – пишет он. Эта ипостась Геннадия Гора не испытывает никаких иллюзий насчет своей участи:
«Двое меня на поляну к осине попросят, А третий наденет на шею веревку.
И девушки будут смеяться воровки
Глядя на ноги мои что так странно висят» (Гор: 97).
Пограничность текстов Гора и Яннулопуло-са проявляется не только в условиях, в которых они были написаны , но также и в историях двух национальных авангардов. Известный Гору «исторический» русский авангард более не был жизнеспособен, но также не пришло еще время для русского неоавангарда, взявшегося развивать достижения своего предшественника «через дополнение приоритета формы над содержанием стремлением к реконструкции утраченного значения слова и наполнением его новым “сущностным” смыслом» [7: 42]. Поэтический сборник Яннулопуло-са также пришелся на переходный период между второй и третьей стадиями формирования греческого авангарда. По словам Э. Арсениу, эта третья стадия, начавшаяся в 1970-х годах, характеризуется смещением акцента с политического потенциала авангарда на формирование новой культурной идентичности [11: 414]. Более того, стихи, написанные «в стол» (в случае Гора) или ориентированные на крайне ограниченный круг читателей (в случае Яннулопулоса), нельзя в полной мере рассматривать с позиции авангардистского проекта снятия «автономного искус- ства через его растворение в жизненной практике» [3: 83]. Анализируя прецеденты ложной деавтономизации искусства, П. Бюргер ставит вопрос: «Не обеспечивает ли разрыв между искусством и жизненной практикой пространство свободы, внутри которого мыслимы альтернативы существующему положению дел» [3: 84]. Возможно, этому пространству свободы и принадлежат два анализируемых цикла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление «блокадного» цикла Гора и «Десятичной приверженности мандаринов» Яннулопулоса обнаруживает множество параллелей между творчеством двух никогда не знавших друг друга поэтов, писавших в разных странах, в разное время, при разных обстоятельствах. После войны Геннадий Гор вновь стал «благонадежным» советским писателем, Яннулопулос же после падения режима обратился к другим видам деятельности. «Я не пишу / Я живу / Я действую»4, заявил он в одном из своих стихотворений. И в некоторой степени оба данных поэтических сборника стоит отнести к категории «действий», нежели к писательским экспериментам.
WHEN ABSURDISM BECOMES REALISM: THE ABSURD IN POETRY BOOKS OF GENNADY GOR AND KOSTAS GIANNOULOPOULOS
This article discusses “sieged Leningrad” poems by Gennady Gor and the book of Kostas Giannoulopoulos Δεκαδική προσήλωση των μανδαρίνων (The Decimal Commitment of Tangerines). Its aim is to make a comparative analysis of two collections, which are unprecedented against the background of the rest of the two poets’ works and contemporary literary processes. The basis for the comparison is their inherent poetics of the absurd, as well as the context in which the works were created, the tragic and inhuman atmosphere of besieged Leningrad and Greek military junta of 1967–1974. In recent decades, the Gor’s siege cycle has attracted the attention of an increasing number of researchers, while the poetic legacy of Giannulopoulos today remains virtually unexplored. The juxtaposition of these experimental poetry collections is a unique attempt to analyze the creative strategies of the two authors during the critical periods of the political and artistic life of Russia and Greece. The relevance of the study is determined by the importance of two books in the context of national literary avant-gardes. Gor’s siege poems are an important link between the “historical” avant-garde and the Soviet post-war “uncensored poetry”, while The Decimal Commitment of Tangerines is one of the first published books of the third wave of Greek avant-garde. The author of the article compares the poems of two books and highlights common elements and differences between them: the sense of time, death as the boundary of reality and the laughter accompanying it, which symbolizes a distorted, “wrong” reality, etc. The article also analyzes the way ideology is represented in the works of Gor and Giannoulopoulos. All in all, we can notice that grave and brutal events can be responded to similarly by absolutely different authors, who wrote in different times and circumstances and never new each other.
Cite this article as: Zarutsky P. S. When absurdism becomes realism: the absurd in poetry books of Gennady Gor and Kostas Giannoulopoulos. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2020. Vol. 42. No 1. P. 32–36. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.429
Список литературы Когда абсурдизм становится реализмом: об абсурдном в поэтических книгах Г. С. Гора и К. Яннулопулоса
- Александров А. А. Эврика обэриутов // Ванна Архимеда. Л.: Худож. лит., 1991. С. 3-34.
- Бахтерев И. Когда мы были молодыми (невыдуманный рассказ) // Воспоминания о Н. Заболоцком: Сб. / Сост. Е. В. Заболоцкая, А. В. Македонов, Н. Н. Заболоцкий. 2-е изд., доп. М.: Сов. писатель, 1984. С. 57-100.
- Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C press, 2014. 198 с.
- Довлатов С. Мы начинали эпоху застоя // Довлатов С. Блеск и нищета русской литературы. М.: Азбука "Классика", 2010. С. 179-185.
- Заруцкий П. С. Безграничное пространство поэтических инноваций // Иностранная литература. 2019. № 4. C. 199-205.
- Ичин К. Авангардный взрыв: 22 статьи о русском авангарде. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2016. 383 с.
- Соколова О. В. От авангарда к неоавангарду: язык, субъективность, культурные переносы. М.: Культурная революция, 2019. 294 c.
- Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. Т. 1. М.: RA, 1997. 392 с.
- Юрьев О. А. Заполненное зияние-2 (Рец. на кн.: Гор Геннадий. Блокада: Стихи / Пер. с русского с параллельным текстом. Вена, 2007) // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. С. 260-272.
- Adorno Th. W. Kulturkritik und Gesellschaft // Adorno Th. W. Gesammelte Schriften. Bd. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt, Darmstadt, 1997. S. 11-30.
- Aposviou E. Νοσταλγοίκαιπλαστουργοί: έντυπα, κείμενακαικινήματαστημεταπολεμικήλογοτεχνία. Αθήνα: Τυπωθήτω. A0qva: Типюбцтю, 2003. 448 a.
- ΒαλαωρίτηςΝ. Τοχιούμορστονελληνικόυπερρεαλισμό // Διαβάζω. 1985. No 120. Σ. 23-32
- ΤριανταφύλλουΚ. Commun ground or under ground // ΤοΑθηναϊκό Underground 1964-1983. Αθήνα: Athens Voice Books, 2012. Σ. 73-82