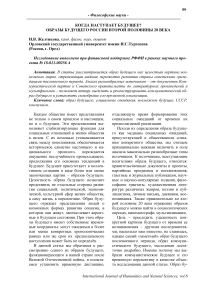Когда наступает будущее? Образы будущего России второй половины 20 века
Автор: Желтикова И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8 (23), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ будущего как целостная картина возможных миров, отражающая видение перспектив развития страны советскими гражданами послевоенного периода. Анализ разнообразных источников - от документов Коммунистической партии и Советского правительства до литературных произведений и мультфильмов - позволяет автору выделить и реконструировать коммунистический образ будущего и установить своеобразие его временной локализации.
Образ будущего, социальные ожидания, возможное будущее, ссср, коммунизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170190452
IDR: 170190452
Текст научной статьи Когда наступает будущее? Образы будущего России второй половины 20 века
Каждое общество имеет представления не только о своем прошлом и настоящем, но и о будущем. Эти представления выполняют стабилизирующие функции для социальных отношений и жизни общества в целом. С их помощью устанавливается связь между поколениями, обеспечивается историческое единство настоящего и национального прошлого, порождается ощущение неслучайности происходящего, продолжения его основных тенденций в будущее. Будущее присутствует в коллективном сознании в виде более или менее законченных картин - образов будущего. Целостность образа будущего позволяет представить не отдельные стороны развития социальной, политической, экономической, культурной сфер жизни общества, а саму жизнь в перспективе. Образ будущего отражает представления людей о возможных формах развития социума, в котором они живут, запечатлевает вероятные в будущем состояния. При этом образы будущего имеют собственные временные координаты: могут ожидаться в более или менее конкретных хронологических рамках или же срок их предполагаемого наступления может быть не определён.
В данной статье мы обратимся к рассмотрению одного из образов будущего, функционирующего в нашей стране после Великой Отечественной войны, и попытаемся установить временную дистанцию, отделяющую время формирования этих социальных ожиданий от времени их предполагаемой реализации.
Исходя из определения образа будущего как медианы социальных ожиданий, присутствующей в общественном сознании конкретного общества, мы считаем принципиально важным включить в поле анализа максимально разнообразные типы источников. К источникам, выступающим носителями образа будущего, относятся: правительственные документы и проекты, партийные программы и постановления, газетные и журнальные публикации, научные и научно-популярные издания, философские трактаты, художественная литература различных жанров, поэзия и публицистика, личные письма, дневники, воспоминания. Также применительно ко второй половине 20 века отражение образов будущего можно найти в социологических опросах, кинематографе, мультипликации.
Цель - проследить удаленность конкретной картины будущего от времени ее возникновения - другими исследователями, насколько нам известно, не ставилась, однако самый «заметный» образ будущего послевоенного периода, образ коммунистического будущего, исследован достаточно подробно. Именно поэтому мы выбрали коммунистическое будущее и его временную перспективу в качестве объекта исследования данной статьи. Образ бу- дущего первого послевоенного десятилетия всесторонне изучен А.А. Фокиным в монографии «Коммунизм не за горами» [1]. Автор работает с широким кругом источников, главными из которых выступают партийные документы, публикации в центральной печати, литературные и публицистические произведения. Генеральный хозяйственный план 1951-1970 гг. явился объектом рассмотрения М.А. Симонова [2], проследившего развитие идей материального обеспечения перехода к коммунизму в период с 1948 по 1953 год. «Письма во власть», отражающие динамику отношения советских граждан к коммунистической перспективе, проанализированы в серии статей О.Д. Поповой [3, 4, 5]. Отражение светлого будущего в советском кинематографе и мультипликации рассмотрены в статьях С.Н. Еланской [6] и В.П. Васильевой [7] соответственно. Кроме работ, посвященных исследованию конкретных аспектов видения будущего, или определенных типов источников, интерес для нас представляют исследования повседневной жизни и взглядов советских людей в интересующий нас период: такие, как монографии П. Вайля и А. Гениса [8], реконструкция общественных, в том числе оппозиционных, настроений указанного периода в исследованиях Ю.В. Аксютина [9], А.И. Лушина [10], Я.М. Боковой [11]. Отдельно в этом ряду работ хотелось бы отметить четырехтомный труд Б.А. Грушина [12], посвященный анализу социологических исследований общественного сознания граждан Советского Союза и России.
Коммунистический образ будущего – это достаточно обобщенное название для социальных ожиданий, присутствующих в русской культуре в 19-20 веках и связанных с наступлением совершенного общественного устройства, построенного на принципе всеобщей справедливости. В 80е годы 19 века в России впервые картины будущего начали испытывать на себе влияние идей Маркса о завершающей формации развития человеческой истории. На рубеже веков коммунистическое будущее было одним из самых популярных вариантов социальных преобразований, на первый план в нем выступало отсутствие частной собственности, эксплуатации, нивелирование социальных различий и уравнительное распределение продукции. Хотя наступление совершенного общественного строя уходило в отдаленную перспективу, начало преобразований ожидалось в ближайшем будущем.
В первые послереволюционные годы коммунистический образ будущего наполнился утопической экспрессией - это был не столько проект, сколько мечта, неслучайно одним из его выразителей становится поэзия, а ключевым лозунгом - мировая революция. Начало мирового обновления планировалось немедленно, наступление самого бесклассового общества ожидалось в перспективе нескольких десятилетий. Образ коммунистического будущего 20-40-х гг. 20 века представлял собой менее экзальтированную и более рационализированную картину строительства коммунизма в отдельно взятой стране в условиях вражеского капиталистического окружения. Для видения перспективы этого времени важен момент перестройки социальных отношений на принципах коллективизма, который можно встретить в градостроительных проектах с домами-коммунами, комбинатами питания, масштабными яслями-садами-школами, пролетарской поэзии и прозе, в образе человека будущего как «колесика и винтика» гигантской индустриальной машины. В этом варианте коммунизм отодвигался, по меньшей мере, на полвека, и актуально живущие поколения строили светлое будущее для своих детей и внуков.
Коммунистический образ будущего 5080-х гг. с одной стороны сохранил преемственность обозначенным установкам, с другой - приобрел весьма заметные отличия. Первым отличием коммунистического образа будущего послевоенного времени выступает его обращенность к конкретному человеку, а не коллективу. В картинах будущего акцентируются различные стороны повседневной жизни и коммунизм предстает действительно «светлым», удобным и безопасным будущим. Второе отличие касается временной удаленности, пожалуй, впервые в россий- ской истории коммунизм предстает не неопределенно удаленной перспективой, а вполне конкретной двадцатилетней границей.
Большинство исследователей коммунистического образа будущего считают, что основные его черты намечаются партией и правительством, транслируются средствами массовой информации и уже в таком виде утверждаются в сознании граждан. Первым правительственным наброском коммунистического будущего в послевоенное время можно считать проект Генерального хозяйственного плана, разрабатываемый особым отделом Госплана СССР. С 1948 года под руководством Н.А. Вознесенского, а после его отставки, М.З. Сабурова, продолжилась работа над Генеральным хозяйственным планом развития СССР, начатая еще в 1941 году. Основной целью этого документа являлось экономическое обеспечение построения в СССР полного коммунистического общества. Своеобразным толчком к его разработке послужила речь И.В. Сталина от 9 февраля 1946 года. Как следует из документа, сроки подготовки экономической базы к переходу советского общества к коммунизму определялись в перспективе двадцати лет. Хотя проект Генерального хозяйственного плана 1951-1970 гг. так и не был завершен, а работы над ним прекратились в 1953 году в связи расформированием отдела перспективного планирования, многие ключевые идеи легли в основу III программы КПСС. Генеральный хозяйственный план предполагал увеличение объема валового выпуска продукции с 1951 по 1970 гг. в 3,5 раз, ставил задачи превзойти уровень производства товаров на душу населения в капиталистических странах, укрепить технико-экономическую независимость СССР, что должно было позволить осуществить программу преобразования социалистического общества в коммунистическое [2, с.30-34].
При всей масштабности данного проекта, решающе влияние на формирование нового образа коммунистического будущего принадлежит все же не ему, а III программе КПСС [13], принятой на XXII съезде партии [14], ее предварительному обсуждению в печати, трудовых коллективах, первичных партийных ячейках. В ней сохраняется намеченный в предыдущем проекте принципиально новый момент в видении коммунистического будущего – четкая временная локализация наступления светлого будущего. Как и в Генеральном плане, в Программе удаленность коммунизма составляет двадцать лет. Озвученная с партийной трибуны, представленная в официальной печати, эта идея превращала коммунизм из неясного, постоянно отодвигаемого горизонта в событие, достижимое в реальном времени. Еще большую реалистичность этой перспективе придавали промежуточные контрольные даты – вехи приближения к ней. Двадцатилетний срок позитивных социальных ожиданий позволил утверждать, что «уже нынешнее поколение советских граждан будет жить при коммунизме». В программе КПСС были обозначены три главные задачи, решить которые предстояло в отведенное до 1980 года время, – это 1) создание материально-технической базы коммунизма, 2) развитие коммунистических общественных отношений, 3) воспитание нового человека [14, с. 167].
Временная конкретизация наступления коммунистического будущего требовала уточнения и самого образа коммунизма, что и делалось в соответствующих документах. В III Программе партии коммунизм определялся как «бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники…» [13, с. 2]. Главными параметрами коммунистического будущего в рассматриваемой программе выступали конкретные показатели развития производства: тонны выплавки стали, увеличение мощностей производства в тяжелой и легкой промышленности, конкретные цифры выработки сельскохозяйственной продукции, достижение определенных демографических показателей. Именно экономический рост и создание обозначенной материально-технической базы должны были свидетельствовать о наступления «коммунизма в основном», «когда удовлетворятся непосредственные запросы, материальные и духовные потребности первой необходимости» [15, с.194]; то, что в дальнейшем развитие общества будет продолжено, подразумевалось само собой.
При всей своей конкретности именно экономические показатели меньше всего влияли на образ коммунистического будущего. Гораздо более значимыми для него были «второстепенные», с точки зрения Программы, параметры, такие как: обеспечение граждан государства продовольствием с постоянным повышением его качества и количества, строительство жилья для каждой семьи, развитие городской инфраструктуры и увеличения в ней мест культурного досуга, способствующих саморазвитию и самореализации личности, сближение города и деревни, выражающееся в приближении сельских поселений к городским по уровню комфорта проживания, использование в сельском хозяйстве технических приспособлений, приближающих деревенский труд к промышленному производству, снижение различий в оплате и образе жизни рабочих, колхозников и интеллигенции, региональное перераспределение производства для выравнивания хозяйственных показателей союзных республик [13].
Следует согласиться с оценкой П. Вейлем и А. Генисом степени непосредственного знакомства советских граждан с первоисточником образа коммунистического будущего: «Программу КПСС читали немногие. О восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста – то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах» [8, с. 29]. Учитывая степень идеалогизированности советского общества, можно быть уверенными, что такие официальные каналы трансляции образа коммунистического будущего, как пресса, радио и телевидение, передавали его основные параметры с минимальным искажением, но уже в более развернутом виде, неоднократно подчеркивая скорые сроки его наступления. Цен- тральные газеты «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Крестьянка», «Работница», журналы «Коммунист», «Агитатор», «Вопросы истории КПСС» соединяли идеологически выверенные статьи, раскрывающие отдельные стороны коммунистического будущего с письмами читателей, излагающих собственное видение светлого будущего. С 1961 года на радио стали выходить передачи, целью которых стала популяризация приближающегося общества. Сами их названия – «Здравствуй, будущее», «У великого рубежа», «Коммунизм – наше лучезарное завтра», «Единой семьей к единой цели» – показывают не столько информационный, сколько пропагандистский их характер. Сказанное можно отнести и к таким телепередачам, как «Коммунизм – прямое продолжение социализма», «Труд при коммунизме», «Каждому по потребностям – коммунистический принцип распределения» [1, с.92-94].
О.Д. Попова считает, что «письма граждан во власть» – в ЦК КПСС, Совет министров, лично товарищу Н.С. Хрущеву и другим членам политбюро – «четко демонстрируют, что коммунизм как образ будущего в 60-е годы формировался под влиянием пропаганды и сложившихся противоречий в жизни советского общества» [5, с.845]. В то же время анализ «писем во власть», обращений в журналы и газеты, дневников и воспоминаний, показывает вариативность представлений коммунистического будущего советскими гражданами. «Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивно- го землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники» [8, с.24]. В своих письмах женщины выражали пожелание учитывать рожденных и воспитанных детей в общий трудовой стаж, рабочие считали необходимым установить потолок в оплате труда для работников творческих профессий, крестьяне выступали против дачных участков и мелкобуржуазных торговцев сельхоз продукцией [5, с. 844].
Фокин в своей монографии обобщает частные представления коммунизма советскими гражданами в несколько подтипов. Первый – «аскетический коммунизм» – ориентирован на уравнительные тенденции более ранних вариантов видения коммунистической перспективы. Второй – «потребительский» коммунизм – подчеркивал множество бесплатных благ, доступ к которым будет у всех граждан страны. Третий – объединял скептические настроения, от сомнения в сроках наступления коммунизма до сомнения в его принципиальной возможности [1, с. 122-123]. Определенную динамику отношения населения к коммунистическому будущему фиксирует Попова, сравнивая содержание и характер писем 60-х и 70-х годов. В последних чувствуется возмущение авторов обманутыми надеждами, неисполненными обещаниями, отсутствием реального движения к коммунизму, несовпадением социальной реальности и деклараций. Сам тон писем свидетельствует о дистанцировании населения от партийного руководства, потери доверия к нему [4]. Однако Попова признает, что «все возмущения касались именно конкретной власти, а не самой идеи строительства коммунизма» [3, с. 133].
Обобщая анализ писем и воспоминаний советских граждан, можно заметить, что по мере удаления от момента провозглашения двадцатилетнего переходного периода к коммунизму степень доверия к исполнению обещаний уменьшалась. Если, по заключению Фокина, в 60-е годы, вплоть до их конца, достаточно большое число респондентов действительно надея- лись жить в светлом будущем, а скептики, по большей части, сомневались в выполнении всего комплекса «коммунистических обещаний», рассчитывая при этом на «частичное» их выполнение, то к середине 70-х годов, как следует из анализа Поповой, образ коммунизма выступает скорее идеалом, к которому можно и должно стремиться, с которым следует сравнивать далекую от него действительность, чем как реальная перспектива. На основании работы Лушина [10] можно заключить, что к 80-м годам образ коммунистического будущего заметно теряет и актуальность, и приверженцев, слабеет и постепенно к 90м годам уходит из общественного сознания советского человека.
Интересный аспект исследования коммунистического завтра затрагивает С.Н. Еланская, стремящаяся проследить, как ожидание светлого будущего нашло отражение в кинематографе. Особый интерес данный очерк имеет потому, что автор нарочито избегает анализа фантастических фильмов, в которых герои из далекого будущего «бороздят просторы Вселенной». При всем достоинстве данных лент, мы склонны рассматривать их скорее в рамках образа космического, чем коммунистического будущего. Еланская же останавливается на кинофильмах, отражающих повседневную жизнь ее современников, таких лентах, как: «9 дней одного года» (реж. М. Ромм, 1961), «Прощайте, голуби!» (реж. Я. Сегель, 1966), «Шумный день» (реж. Г. Натансон, 1960), и показывает, как их герои с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее. В этих картинах нет пафосных размышлений о необходимости четным трудом приближать великое будущее, но само поведение героев, их диалоги демонстрируют перспективный оптимизм. Автор приходит к выводу о том, что «вера в светлое будущее, причем, совсем недалекое была прочна» и базировалась она на чувстве надежности жизни, ее правильности [6, с. 177]. Собственно, подобных лент, героями которых выступают простые советские люди со своими малыми и большими проблемами, лент, наполненных светлым чувством уверенности в завтрашнем дне, можно назвать гораздо больше: «Девчата» (реж. Ю. Чулюкин, 1961), «Я шагаю по Москве» (реж. Г. Данелия, 1964), «Дети Дон-Кихота» (реж. Е.Карелов, 1966), «Офицеры» (реж. В. Роговой, 1971), «Большая перемена» (реж. А. Коренев, 1972), «Когда я стану великаном» (реж. И. Туманян, 1979), «Москва слезам не верит» (реж. В. Меньшов, 1979), «Влюблен по собственному желанию» (реж. С. Микаэлян, 1982) и многие другие. В них передается или создается ощущение надежности мира, малого и большого социума, надежды на светлое и прекрасное будущее. Конечно, можно сказать, что подобные фильмы стали результатом прямых рекомендаций советским кинематографистам «Быть активными помощниками партии в воспитании человека эпохи коммунизма», транслируемых, например, журналом «Искусство кино» (1962. №2, с. 1) [7, с. 105], однако мы склонны полагать, что творческие коллективы, работающие над художественными фильмами, отражали и собственное видение будущего.
Рассмотрение образа коммунистического будущего послевоенного Советского Союза мы, вслед за предшественниками, начали с правительственных текстов как главного источника интересующих нас идей. Также мы по умолчанию приняли заключение о решающем влиянии именно идеологического программирования содержания образа будущего, функционирующего в массовом сознании. Однако обращение к литературным «портретам» коммунизма обнаруживает, что в художественных и публицистических текстах эта тема поднималась задолго до пресловутого XXII съезда КПСС.
Одна из самых ярких картин коммунистического будущего была создана Иваном Ефремовым в романе-эпопее «Туманность Андромеды», создаваемом в 19551956 годах и увидевшим свет в журнальном варианте в 1957 году. В романе, а также его продолжении «Час быка» и «Глаз змеи» (1963-1968), Ефремов порывает с фантастикой «ближнего прицела» и переносит действие в 3234 год. Таким образом, время действия космически приключений, разворачивающихся на фоне небывалого, счастливого общества отстоит от читателя на 1300 лет, и это учитывая то, что автор «приблизил» происходящее по сравнению с первоначальным вариантом. Несмотря на такую удаленность, общество будущего в романе описывается со всеми подробностями, начиная от особенностей социальной структуры и гендерных ролей, до развития искусства и форм проведения досуга. Еще одним показательным в плане описания коммунистического будущего романом является «Гость из бездны» Г. Мартынова. Это, по нашему мнению, необоснованно забытое произведение было начато автором в 1951 году и десять лет «пролежало в столе». Его героя реанимируют через 18 веков после захоронения и вместе с техническими чудесами будущего он сталкивается с психологической проблемой адаптации в социально совершенном мире. В научно-художественных очерках М. Васильева «Репортаж из XXI века», изданных в 1958 году, как следует из названия, действие происходит в следующем веке и сосредотачивается на достижениях в различных областях науки. В романах 60-х годов, написанных, казалось бы, уже после обозначения горизонта будущего, авторы продолжают изображать значительную временную перспективу. Два века временной дистанции закладываются Стругацкими в роман с серией зарисовок о будущем «Полдень, XXII век». Неопределенное, но очень далекое будущее описывается С. Гущевым в романе «Мы из Солнечной системы».
Учитывая развитие образа коммунистического будущего в советской литературе, мы можем сделать поправку к изначальному утверждению о доминировании партийных документов и официальной пропаганды в деле создания образа будущего 6080-х годов. Правильнее будет говорить все же о разделяемых большинством общества социальных ожиданиях, которые актуализируются после победы в мировой войне и развиваются как на государственном, так и на индивидуальном уровне. Причем образ коммунистического будущего, на наш взгляд, следует рассматривать в длительной временной перспективе, и представления о приближении коммунизма 60-х го- дов интерпретировать в качестве одного из ского народа. Позитивный образ будущего этапов развития данного типа социальных ожиданий.
В этой статье на примере коммунистического образа будущего мы попытались проследить временное изменение горизонта будущего. Даже на таком относительно небольшом промежутке времени, с которым мы работали, было отмечено, что удаленность будущего может восприниматься по-разному – в масштабах жизни одного поколения, двух-трех поколений, неопределенной удаленности. Ближе всего коммунистическое будущее ощущалось в революционное десятилетие и после XXII съезда КПСС. Если факторы, «приближающие» будущее в первом случае, еще требуют исследования, то относительно рассматриваемого периода мы видим при- чины такого сокращения перспективы в относительной стабильности социума и устойчивых тенденциях его развития. 60-е годы 20 века ознаменованы для Советского Союза целым рядом событий, способствующих положительной самооценке тогдашнего социума. Восстановление хозяйства после разрушительнейшей войны, из которой советский народ вышел победителем, успешное противостояние Западу в холодной войне, успехи космической программы, второе место после США в создании и испытании ядерного оружия – все это создавало ощущение правильности социалистического пути развития, возможности добиться на нем новых успехов и, в целом, надежности и уверенности в завтрашнем дне. Именно это, на наш взгляд, позволило не только Коммунистической партии и Советскому правительству провозгласить двадцатилетний срок строительства коммунизма, но и заставило по- сродни мечте, а распространяем ли мы эту мечту на свое будущее или будущее потомков зависит от окружающей социальной реальности.
С литературным запечатлением образа коммунистического будущего складывается несколько иная ситуация. В художественных произведениях время, разделяющее настоящее читателя и героев будущего, как правило, неопределенно длительно. Говоря неопределенно, мы имеем в виду срок, превышающий лично обозримое будущее, то, в котором не может очутиться ни читатель, ни его дети, ни внуки, ни прапраправнуки. Мы думаем, что это происходит по двум причинам. Во-первых, потому что писатели при создании своих произведений работают с глубинными, ар- хетипическими слоями коллективного сознания, которые консервативны и слабо подвержены влиянию текущие событий. Во-вторых, писатели, изображая неопределенно далекое будущее, гарантируют свободу полета своей фантазии. Тем примечательнее для нас, что фантазия эта располагается в поле общих социальных ожиданий.
Анализ источников и исследовательской литературы позволяет нам предположить функционирование в интересующий нас период не одного, а четырех образов будущего. Кроме рассмотренного в этой статье коммунистического образа будущего, в общественном сознании советских граждан присутствовали также образ будущего покорения космоса, образ будущей мировой войны и альтернативный образ будущего. Анализу этих социальных ожиданий мы надеемся посвятить следующие наши работы.
верить в него значительную часть совет-
Список литературы Когда наступает будущее? Образы будущего России второй половины 20 века
- Фокин А.А. «Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950-1960-х годов. М., 2017.
- Симонов М.А. Проект построения коммунистического общества в СССР по Генеральному хозяйственному плану 1951-1970 гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 2. С. 27-35.
- Попова О.Д. "Правительство живет при коммунизме, а мы в нищенстве.".: мысли и думы советского народа накануне 50-летия октября // Уральский исторический вестник. 2017. № 3 (56). С. 127-135.
- Попова О.Д. «В ЦК те же помещики и капиталисты…»: восприятие советскими людьми социального неравенства в СССР в 1960-е годы // Новый исторический вестник. 2016. № 2 (48). С. 72-81.
- Попова О.Д. Образ коммунистического будущего глазами советских людей (по материалам «писем во власть» в 50-60 годы ХХ века) // В сборнике: Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы Материалы 15-й Международной конференции. 2018. С. 842-846.