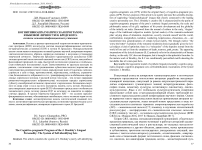Когнитивно-прагматическая программа языковой личности И. Бродского: система самоидентификационных установок
Автор: Иванов Дмитрий Игоревич, Лакербай Дмитрий Леонидович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье в рамках оригинальной теории когнитивно-прагматических программ (КПП) исследуется система самоидентификационных когнитивно-прагматических установок (КПУ) в поэзии И. Бродского. Непосредственной целью статьи является выведение на новый уровень научной дескрипции опорных «автопсихологических» образов, напрямую связанных с ведущими установками творческой личности. Творчество Бродского характеризуется цельностью КПП логоцентрической синтетической языковой личностью (СЯЛ) поэта, масштабом и философской природой его дара, быстротой поэтического развития и глобальностью изначально поставленных задач. Заимствованные из арсенала культуры на раннем, «элегическом» этапе традиционные субъектные модели (лирические маски) романтико-модернистского плана, варьирующие идеи отчуждения, скепсиса, суровости к себе и миру, противостояния, маргинализма, изгойства, странничества, безнадежности, избранности и т.п., трансформируются в обобщения определенных лирических мотивов. Сквозной мотив «чем хуже - тем лучше» (вариация романтико-модернистского избранничества) постепенно придает лирическому субъекту своеобразный оптимизм; происходит «переселение» безнадежно-смертного из мира утрат и зла в пустоту посмертия, памяти, пути, поэзии. Возникающие инкарнации лирического героя (ИЛГ) обозначают прежде всего особенности человеческого удела, поэтому ранние ИЛГ не исчезают, но доводятся до афористичных формул. В зрелом творчестве Бродского ИЛГ - это условно персонифицированные мотивы, обозначающие неизбежную участь человека-героя-поэта.
Логоцентрическая модель синтетической языковой личности, когнитивно-прагматическая программа, когнитивно-прагматические установки, самоидентификация, инкарнации лирического героя, и. бродский
Короткий адрес: https://sciup.org/149127114
IDR: 149127114 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00062
Текст научной статьи Когнитивно-прагматическая программа языковой личности И. Бродского: система самоидентификационных установок
В настоящей статье на конкретном «жизнетворческом» и поэтическом материале продолжается многолетняя авторская разработка метадисци-плинарной концепции, связующей (в рамках антропоцентрической парадигмы современного гуманитарного знания) литературоведение, философию языка, семиотику культуры, когнитивную лингвистику, лингво-культурологию. Язык в его глобальном культурологическом измерении представляет собой меж- и метадисциплинарный объект, требующий постоянного переосмысления самой конфигурации научного знания. Одним из вариантов такого переосмысления является применяемая авторами исследовательская стратегия, этапы которой можно представить в виде последовательности ключевых терминов: антропоцентрическая парадигма (АП) - синтетический текст (СТ; поначалу в изучении отечественной рок-культуры) - центрирующая его синтетическая языковая личность (СЯЛ; поначалу там же) - когнитивно-прагматическая программа (КПП СЯЛ) [см.: Иванов 2016, 2017 Ь; Иванов, Лакербай 2017].
Теория СЯЛ, являясь метадисциплинарной концепцией, убедительно продемонстрировала, как именно возникает и работает авторский художественный синтетический текст в рок-культуре, но оказалась методологически применима и к другим объектам, давая новое, менее произвольное и субъективное, прочтение нестандартных дискурсивных ситуаций, связанных с текстом и/или автором («уличный», «политический», «квартирный» или «стадионный» формат поэтического слова, феномен «потаенного» писателя, вся авангардная традиция, всегда - жизнетворческий путь гения-мифотворца). Синтетическая языковая личность (СЯЛ) - по сути, семиотически понимаемый текст субъекта в культуре, оформленный как перевоплощенный (в вербальном, аудиальном, сценическом, жизнеповеденческом - любом семиотизируемом пространстве) когнитивно-прагматический след его уникального творческого / жизнетворческого «я». Смысл же этого текста субъекта (СЯЛ) воплощает когнитивно-прагматическая программа (КПП) - целостная система когнитивно-прагматических установок (КПУ), имеющая сложную динамичную структуру, в рамках которой происходят усвоение, трансформация и развитие базовых (коллективных и индивидуальных) «чужих» программ. Нам уже не раз доводилось писать о внутренней цельности (именно в указанном смысле) идейно-художественного мира Иосифа Бродского и жесткой однонаправленности его жизнетворческого развития, что в значительной мере обусловлено «логоцентрической моделью СЯЛ поэта, отличающейся системной идеецентричностью субъекта текста, глобальностью проблематики, особым (героическим, пророческим, избранническим и пр.) типажом поэтической личности» [Иванов, Лакербай 2017, 282]. Для построения своей КПП Бродский, сразу отстраняясь от «метафизически опустошенной» советской действительности и ментальности («.. .мы начинали на пустом - точнее, пугающем своей опустошенностью - месте...» [Бродский 1997-2001, I, 14]), выбирает универсальную метанарративную программу Поэта-избранника / изгоя, актуализирующую неомиф Судьбы Поэта в культуре вне зависимости от авторских намерений. Метафизически понимаемая пустота становится и точкой отсчета, и «программной» опорой для одинокого героического пути: «Пустое пространство потенциально содержит в себе структуры всех подлежащих созданию тел <...> поэтому пустота богоподобна <...> “вытесненность” поэта, его место вне - не только проклятие, но и источник силы - это позиция Бога...» [Лотман М., Лотман Ю. 1996, 743].
В русле формирования КПП можно, прежде всего, выделить два отчасти последовательных, отчасти взаимообусловленных когнитивных процесса: а) целеполагание (формирование системы целевых КПУ); б) «глубокую» самоидентификацию личности (формирование системы самоидентифи-кационных КПУ). Цель (система целевых КПУ) в рамках теории КПП -это, «во-первых, когнитивно-ментальный элемент, аккумулирующий все когнитивные процессы сознания / самосознания; во-вторых, свойственная каждой личности “первопотребность”, трансформация которой определяет специфику когнитивного роста человека» [Иванов 2017 а, 101]. Целеполагание, в случае мощного и бескомпромиссного таланта играющее роль «универсальной потребности», благодаря логоцентризму СЯЛ Бродского уже на рубеже 1950-х-1960-х гг. проявлено в его поэзии четко и недвусмысленно. Так, принципиальными целевыми установками можно считать: 1) сам непрерывно осмысляемый и разнообразно воплощаемый жест отказа - не политически, но метафизически устанавливаемое несовпадение с обесцененной социальной действительностью; 2) «компенсирующее»
этот глобальный отказ «величие замысла» - одинокий творческий рывок в иное, настоящее ценностное пространство; 3) естественный для мощного таланта-одиночки на «руинах цивилизации» романтико-героический пафос, постепенно остужаемый и остраняемый экзистенциальным отчаянием и аналитизмом, но типологически продолжающий детерминирующее воздействие на самого поэта и его поэзию; 4) онтологизацию идеи поэзии (впоследствии - обожествление Языка) как творящейся бесконечности, позволяющей «взлететь» надо всем тленным; 5) «восстановление» культурной преемственности (прежде всего с модернистской эпохой). Рассмотрим зарождение подсистемы самоидентификационных КПУ в поэзии И. Бродского.
«Жест отказа» (своеобразного «самоисключения» из идеологической сферы советского социума, причем, как следует из эссе самого поэта «Меньше единицы» [см., наир.: Бродский 2001, V, 7-28], довольно рано получившего осознанные мотивировки) в сочетании с масштабом таланта и глобальностью задач детерминирует использование в раннем творчестве Бродского целой серии традиционных для романтико-модернистской парадигмы лирических «масок», а точнее (ибо лирика Бродского в классическом смысле есть лирика исключительно автопсихологическая, а не ролевая) - инкарнаций лирического героя (ИЛГ - уточняющий термин применяется для указания на систему когнитивно-прагматических инкарнаций авторского «я» в тексте; традиционный термин ЛГ является менее системным). Здесь к услугам поэта - богатый арсенал моделей, варьирующих идеи отчуждения, «безочарованности», скепсиса, суровости к себе и миру, противостояния, маргинализма, изгойства, странничества, безнадежности, надежды только на себя и свой путь, избранности и т.п. Настоящая классификация этих «ликов» еще впереди, пока же лишь очертим общие контуры проблемы. Во-первых, стоит вспомнить афористичную формулу самого Бродского: «...скорость внутреннего прогресса // больше, чем скорость мира» [Бродский 1997-2001, II, 184]. Общеизвестна стремительность творческого развития поэта: начав в конце 50-х, он уже в начале следующего десятилетия оформляет первый вариант собственного художественного мира, быстро и глубоко осваивая сначала риторико-публицистический стиль, затем «языки» романтических жанров элегии и баллады - и практически тут же создавая свой неповторимый жанр «больших стихотворений», масштабных лирико-философских не столько «полотен», сколько «лавин», в которых перемешиваются современность и античность, медитация и напор, неоклассицизм и необарокко, пронзительный лиризм и беспощадная «резиньяция». Иными словами, мы имеем дело не с застывшей хоть на какое-то время панорамой, а с движущимся потоком лавы, пожирающим попадающиеся по пути формы и переиначивающим весь пейзаж (т.е., по крайней мере, с начала 60-х гг. трансформационная составляющая моделирования КПП сильнее репродуцирующей). Во-вторых, Бродский в силу различных объективных причин - настоящий мифотворец [см.: Степанян 1993], а мифологическая логика энигматична и позволяет соединять как звенья одной цепи вещи с трудом совместимые (требующие восстановления тонких реалий менталитета личности и эпохи). Так, например, в программном эссе «Меньше единицы» описывается «самая несправедливая страна в мире», страна-казарма, где ложь (по радио, на уроке и пр.) есть норма жизни, правители - «выродки», герой-ребенок ненавидит любую «тиражность»; соответственно настоящее бытие есть бытие «вопреки», и воспевается отчужденное от «бардака и абракадабры» советского социума неформальное поколение: «Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто не умел писать по-русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее» [Бродский 2001, V, 24]. Но вот куда более трезвое признание в интервью Д. Глэ-ду: «Мы все пришли в литературу Бог знает откуда, практически лишь из факта своего существования... из умственного, интеллектуального, культурного небытия... никак и ничем не подготовленные... В те времена я был абсолютный дикарь» [Глэд 1991, 26, 30]. Генетическое «варварство» и интуитивная культурная преемственность (рядом с которой вся «легальная» поэзия объявляется «абсолютным вздором») здесь полностью синхронизированы, что требует решения предварительных задач (отделения «объективного» историко-культурного знания от политико-идеологических предпочтений). И, наконец, в-третьих: вышеупомянутая стремительность творческого развития означает и быстрые радикальные изменения в репертуаре ИЛГ в зоне «переходов». Все это усложняет общую картину.
Пожалуй, наиболее простыми выглядят ИЛГ первого этапа (конец 50-х гг), где юный поэт, несмотря на отталкивание от господствующей идеологии, в целом использует вполне советский способ конструирования стихового пространства, идет ли речь о «памятнике лжи», «пилигримах», «глаголах», «испанце Мигуэле Сервете» или «еврейском кладбище». Это риторико-публицистическая традиция, в рамках которой сочетаются материализация идеологем, ослабление стилистической иерархии по причине не стилистического, а схемно-эмблематического принципа использования слов, «рекомбинации сочетаемости традиционной поэтической лексики и политизации ее ассоциативных рядов» [Морыганов 1993, 68], установка поверх стилистического конфликта на риторическую экспрессию. «Это был “большой” нормативно-конвенциональный стиль, зависимый от вне-эстетических систем ценностей, и “ученичество” Бродского проходило в поле его ослабевшего, но вовсе не исчезнувшего притяжения» [Лакербай 2000, 26]. Ранняя поэтическая риторика у Бродского, однако, оригинальна изнутри: место опустошенного идеологического мифа, «лика государства» заняла личность поэта, опирающаяся на интуицию первородства и логос-ности поэзии и пытающаяся кодифицировать эти сильные, но туманные ощущения. В результате, помимо объективированных героев (евреи, пилигримы, Сервет), появляются условно-риторические обозначения ЛГ («Я счастлив за тех, // которым с тобой, // может быть, // по пути» [Бродский 1997-2001,1, 19]; «И мы завоем от ран. // Потом взалкаем даров...» [Бродский 1997-2001, I, 22]; «Меня окружают молчаливые глаголы <...> небо метафор плывет над нами!» [Бродский 1997-2001, I, 28]), в которых скорее угадывается одиночество «я» внутри неопределенно-поколенческого «мы» - таких же одиночек.
Однако вырисовываются контуры этих «я» и «мы» уже на границах большой трансформации в 1960-1961 гг, когда исчерпанность риторических решений буквально взрывает поэзию Бродского романтико-элегическим драматизмом и трагизмом, взрывает количественно и качественно: тексты растут в объеме, превращаясь в рамках «лирического дневника» [Куллэ 1998, 104], «тавтологического лирического монолога» [Лакербай 2000, 43] в циклы и лирические поэмы (и даже «романы»); это лирика, «впавшая в “элегический звук” и преобразившая элегический жанр (до степени, когда “миропорядок трагичен чисто фонетически” <.. > переполненная ощущением неполнозначности слов в главном “событии” жизни -Времени; преисполненная собственной значимости и фатально устремленная к смерти и исчезновению человека и человеческого; перенапрягающая элегический канон в попытке догнать недостижимое, выразить невыразимое...» [Лакербай 2000, 43]. Перед этой метафизической и экзистенциальной бездной, бормочущей «страшное», в этом «несчастливом кружении событий», «пустоте часов» [Бродский 1997-2001, I, 36] и «я», и «мы» сугубо страдательны, потеряны, беспомощны, живут «на ощупь» («О Господи, что движет миром, // пока мы слабо говорим...» [Бродский 1997-2001,1, 35]; «Как мало на земле я проживу, // все занятый невечными делами...» [Бродский 1997-2001, I, 36]), и даже надежда на «весь я не умру» упирается в неизбежность смерти как условия («Хвала развязке. Занавес. Конец. // Конец. Разъезд. Галантность провожатых, // у светлых лестниц к зеркалам прижатых, // и лавровый заснеженный венец» [Бродский 1997-2001, I, 36]). Одиночество, бесприютность и странничество сразу абсолютны: «Зима, зима, я еду по зиме, // куда-нибудь по видимой отчизне, // гони меня, ненастье, по земле, // хотя бы вспять, гони меня по жизни» [Бродский 1997-2001, I, 136]. В то же время здесь начинается и крепнет характерный для Бродского сквозной мотив «чем хуже - тем лучше» (вариация романтико-модернистского избранничества), постепенно придающий лирическому герою своеобразный оптимизм, романтически переселяющий безнадежно-смертного из мира утрат и зла в пустоту посмертия, памяти, пути, поэзии (таков облик «идеального небытия» у Бродского): «Как хорошо, что некого винить, // как хорошо, что ты никем не связан, // как хорошо, что до смерти любить // тебя никто на свете не обязан» [Бродский 1997-2001, I, 71]; «Бессмертия у смерти не прошу. // Испуганный, возлюбленный и нищий, - // но с каждым днем я прожитым дышу // уверенней и сладостней и чище» [Бродский 1997-2001, I, 137]; «Как легко нам дышать, // оттого, что подобно растенью, // в чьей-то жизни чужой // мы становимся светом и тенью // или больше того - // от того, что мы все потеряем // отбегая навек, мы становимся смертью и раем» [Бродский 1997-2001,1,202].
В «Петербургском романе» (1961), где лирический герой живет и ды- шит на полях «петербургского текста» русской литературы и напоминает временами «чудака Евгения», его черты одновременно конкретизированы и обобщены чертами литературно-компендиумического облика. Город здесь вместилище летящего и отчуждающего времени: вечность «с безумной правильностью улиц, безумной каменностью лиц» - городу; утраты, страдания, одиночество, разлука, смерть души, безумие, бред - человеку. «В романе // не я, а город мой герой...» [Бродский 1997-2001, I, 53] - но город лишь «зеркальная рама» для «портрета героя на фоне мчащейся Невы» [Бродский 1997-2001,1, 59], ибо это портрет времени и во времени. И «себе наматывать на горло // все ожерелье фонарей» [Бродский 1997-2001, I, 59], и «ждать автобуса и века // на опустевшей мостовой» [Бродский 1997-2001,1, 48], и «твердить одну и ту же фразу» [Бродский 1997-2001, I, 50], и искать любви, и уезжать - всё едино: герой есть прежде всего человек (философский план), а человек есть гонимый призрак, не могущий нигде задержаться душой. Высокая степень философской рефлексии организует внешне спонтанное поэтическое экзистирование: произведение стремится длиться до тех пор, пока не исчерпан «экстенсивный ресурс» эмоции, темы, манеры. Так происходит в «Госте» (апофеоз и предел «не-полнозначности» речи относительно Времени), в «Петербургском романе» (предел монотонной «однозвучности»), в «Июльском интермеццо» (предел ритмо-метрического варьирования одного мотива). На содержательном уровне «экстенсивный ресурс» чувства открыт и исчерпан почти одновременно: «приходит время сожалений» [Бродский 1997-2001,1, 35]; «ничто не стоит сожалений, // люби, люби, а всё одно» [Бродский 1997-2001,1, 38]. Шествие персонифицированных представлений (буквальное в поэме «Шествие», где «романсы», «гимн баналу», - это амплуа Бродского, дающие возможность наивно-непосредственного выплеска чувств и мыслей; «актера» дополняет суфлерско-режиссерский комментарий) - это, прежде всего, сам поднявшийся до философской рефлексии герой-поэт: «фрагментированный», богооставленный, отчуждаемый от себя подлинный сын XX века: «Вот так всегда, - когда ни оглянись, // проходит за спиной толпою жизнь, // неведомая, странная подчас, // где смерть приходит, словно в первый раз // и где пикто-пикто не знает нас» [Бродский 1997-2001, I, 83]. «Свое» здесь означает «чужое»; все одинаковы и все одиноки («и одинокость, одинакость» [Бродский 1997-2001,1, 37]); толпа за спиною - это «ты», и отличия несущественны, когда во всех лицах и судьбах - общность удела. «Я», «ты», «они» равнозначны, и отчужденность индивидуального сливается с конкретностью общего. Бродский и далее будет прибегать к дистанцирующе-обобщающей отчужденной автоадресации (равнозначности личных местоимений), например, в стихотворении «Ты поскачешь во мраке...» (1962).
«Элегический» этап начала 1960-х принципиален для формирования системы ИЛГ. Как справедливо отмечал А. Ранчин, Бродский прежде всего философичен: «Индивидуальная судьба поэта предстает одним из вариантов удела всякого человека <...> Эмоции лирического героя у Бродско- го - не спонтанные, прямые реакции на частные, конкретные события, а переживание собственного места в мире, в бытии. Это своеобразное философское чувство - глубоко личное и всеобщее одновременно» [Ранчин 2001, 146]. Осознание Бродским интегрального смысла нового поэтического речения - «временения» речи как непрерывно умертвляемой жизни - позволило реализовать полноту трагической экзистенции автора, развернуть мотивно-образную структуру, задать и погрузить в пространство философской рефлексии основные антиномии бытия и творчества. Апофеоз неразрешимости антиномий поставил это сознание в ситуацию героя античной трагедии, ощущающего и непреодолимость судьбы, и amor fati, и любовь к жизни. Таким образом, возникла сцена, на которой будет формироваться «пространство автора» всей поэзии Бродского.
Поэтому на протяжении всего творческого пути поэта «обнаруженные» в начале 1960-х ИЛГ будут (при всей эволюции поэтического стиля - но при постоянстве системы целевых КПУ) развиваться, уточняться, но прежде всего - доводиться до предела философской, безжалостно-аналитической рефлексии, до издевательски-четких сентенций. Так, уже в 1962 г. поэт резко останавливает бегущее и летящее время лирического героя, начинает остранять элегический лиризм аналитикой и, занимаясь самоидентификацией в игре по новым правилам, иронически варьирует цитированную выше элегию 1961 г: «Былое упоительней грядущего. // И прожитым уверенней дышу. // Ни облика, ни голоса петушьего // Теперь в себе уже не нахожу» [Бродский 1997-2001,1, 185]. В силу этого в зрелом творчестве Бродского ИЛГ - это условно персонифицированные мотивы, обозначающие неизбежную участь человека-героя-поэта. Например, вышеуказанный мотив «чем хуже - тем лучше» (и связанная с ним инкарнация героя-странника, причем в самоизгнании, самоисключении, ибо это и есть совпадение с временем) воплощается в 1972 г. в чеканную формулу стоического «доверия» к невзгодам бытия: «Точно Тезей из пещеры Миноса, // выйдя на воздух и шкуру вынеся, // не горизонт вижу я - знак минуса // к прожитой жизни. <.. > Только размер потери и // делает смертного равным Богу» [Бродский 1997-2001, III, 19]. Этот двойной (античный и современный) образ героя легко возводится сразу к двум ИЛГ, оформившимся десятилетием раньше (стихи можно выбирать почти наугад, так велика целостность КПП поэта). Первая ИЛГ появляется в одном из первых образчиков «надэлегической» рефлексии с характерным названием «Инструкция опечаленным». Герой-путешественник (он же поэт, как следует из эпиграфа), глотавший «позеленевшие закуски в ночи в аэродромном ресторане», привычно чувствует себя бездомным, но в силу «прекрасное™» бездны и «бездонности» одиночества не медитирует, а жестко обобщает: «Не следует настаивать на жизни // страдальческой из горького упрямства. // Чужбина так же сродственна отчизне, // как тупику соседствует пространство» [Бродский 1997-2001, I, 172]. Вторая ИЛГ вводит излюбленный зрелым Бродским античный план. Античный сюжет здесь начинает проступать из метафизической тьмы как предел человече-

ского знания о мире и драматическая модель, обозначая многие будущие инварианты Бродского: «Мы снова проживаем у залива, // и проплывают облака над нами, // и современный тарахтит Везувий, // и оседает пыль по переулкам // И стекла переулков дребезжат. // Когда-нибудь и нас засыпет пепел. // Так я хотел бы в этот бедный час // приехать на окраину в трамвае, // войти в твой дом, // и если через сотни лет // придет отряд раскапывать наш город, // то я хотел бы, чтоб меня нашли // оставшимся навек в твоих объятьях, // засыпанного новою золой» [Бродский 1997-2001, I, 188]. Секрет органичности «бесшовного» соединения античности и современности - в авторской убежденности: античность есть не древняя, а вся история, отражающая сущностную неподвижность объемлющего мир времени. Выход в эту (для человека выглядящую посмертной) неподвижность - залог новой «жизни» лирического субъекта, с печальным любопытством узнавшего бы себя в пустоте от человека Помпеи, оставшейся в окаменевшем пепле. Но это античность сегодня - в древности она не была ни античностью, ни пеплом; Бродскому нужен ее философский космос, куда можно вписать постэсхатологического лирического субъекта. Сам «конец света» лишен драматизма, ибо он уже состоялся - если перевести современность на язык метафизики, то в неподвижном времени. Таким же образом можно проследить взаимосвязь ИЛГ и связанных с ними мотивов (например, «вычитания», «метонимизации» ЛГ «мозгом», «зрачком» или «россыпью черного на листе») в разные периоды творчества поэта. Разумеется, со временем возникают и более авторизованные ИЛГ, опирающиеся на базовые инварианты (философ-киник в «Двух часах в резервуаре», свидетель постапокалиптической эпохи в «Einem alien architekten in Rom», «современный Овидий» в «Новых стансах к Августе» и т.д.).
Итак, цельность КПП логоцентрической СЯЛ поэта, неуклонное следование рано сформировавшимся целевым установкам, в сочетании с философской природой дара, стремительным развитием, глобальностью задач и мощью таланта приводят к оригинальному восприятию и переработке традиционных субъектных моделей романтико-модернистского плана. Начиная с «элегического» этапа, ИЛГ Бродского формируются как тотальные обобщения определенных лирических мотивов: их персонификация подчеркивает прежде всего особенности человеческого удела, поэтому ранние ИЛГ позже уточняются и доводятся до афористичных формул, изменяясь стилистически, но не по сути.
Список литературы Когнитивно-прагматическая программа языковой личности И. Бродского: система самоидентификационных установок
- Глэд Д. Беседы в изгнании: русское литературное зарубежье / пер. с англ. М., 1991.
- Иванов Д.И. Особенности моделирования системы целевых когнитивнопрагматических установок синтетической языковой личности: общие вопросы // Вестник славянских культур. 2017. Т.
- Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности: в 2 т. / Гуандунский университет международных исследований (Китай). Т. 1. Логоцентрическая модель синтетической языковой личности: структура и общие вопросы (на материале русской рок-культуры). Иваново, 2016.
- Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности: в 2 т. / Гуандунский ун-т междунар. исследований (Китай). Т. 2. Логоцентрическая модель синтетической языковой личности: компонентная структура, система концептов (на материале русской рок-культуры). Иваново, 2017.
- Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Теория субъектности текста и русская поэзия ХХ века. Иваново, 2017.
- Куллэ В. «Поэтический дневник» И. Бродского 1961 года // Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба: итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 97- 107.
- Лакербай Д.Л. Ранний Бродский: поэтика и судьба. Иваново, 2000.
- Морыганов А.Ю. Стилевые процессы в русской поэзии второй половины 1920-х годов (Проблема стилевой рефлексии): дис.... к. филол. н. Иваново, 1993.
- Ранчин А. «Человек есть испытатель боли...»: религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм // Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: интертексты Бродского. М., 2001. С. 146-174.