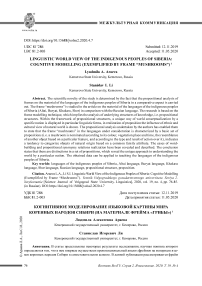Когнитивное моделирование языковой картины мира коренных народов Сибири (на материале фрейма "грибы")
Автор: Араева Людмила Алексеевна, Ли Станислав Игоревич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены некоторые результаты исследования, научная новизна которого определяется тем, что в нем впервые осуществлен пропозициональный анализ фреймов на материале языков коренных народов Сибири в сопоставительном аспекте. В данной публикации рассматривается фрейм «грибы», эксплицированный в алтайском, бурятском, хакасском, шорском языках (в сопоставлении с русским). Работа базируется на методике фреймового моделирования, предполагающей обращение к глубинным пропозициональным структурам знания. В пределах таких структур реализуются пропозиции, проявляющие под влиянием конкретной языковой формы и этнокультурных особенностей уникальный способ познания мира конкретным народом. В результате пропозиционального анализа номинаций грибов установлено, что для фрейма «грибы» в изучаемых языках характерен один и тот же набор пропозиций (гриб назван по цвету, по месту произрастания, по времени произрастания, по сходству с другим объектом на основе определенного признака, по действию), которые указывают на тенденцию к категоризации предметов природного происхождения на основе общего фамильного признака. Выявлены и описаны случаи реализации отношений словообразовательно-пропозициональной синонимии. Показаны различия в наборе пропозиций и объяснены причины их возникновения. Полученные результаты могут быть использованы в процессе преподавания языков коренных малочисленных народов Сибири.
Языки коренных народов сибири, алтайский язык, бурятский язык, хакасский язык, шорский язык, русский язык, пропозициональная структура, пропозиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149131584
IDR: 149131584 | УДК: 81'286 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.4.7
Текст научной статьи Когнитивное моделирование языковой картины мира коренных народов Сибири (на материале фрейма "грибы")
DOI:
28 января 2019 г. в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось открытие Международного года языков коренных народов мира. Основной задачей проведенных в течение года мероприятий было сохранение находящихся под угрозой исчезновения языков. Всеобщая декларация о культурном разнообразии, принятая ЮНЕСКО в 2001 г., является правовым документом, в котором культурное разнообразие признается достоянием человечества, а его охрана – конкретным этическим обязательством, неотделимым от уважения к человеческому достоинству (URL: .
Значительным разнообразием характеризуется языковой ландшафт России. Особого исследовательского внимания требуют языки коренных народов Сибири. В статье рассматриваются шорский, алтайский, бурятский и хакасский языки. Шорский язык используется только в быту. Шорцы – тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири, главным образом на юге Кемеровской области. Их насчитывается около 13 тысяч человек, свыше 60 % считают родным языком русский. Алтайский, бурятский и хакасский языки, являясь языками коренных народов Сибири, сохраняются как на бытовом, так и на государственном уровне. Алтайский язык относится к тюркской языковой семье, в России насчи- тывается около 80 тысяч носителей этого языка 2, они проживают преимущественно в Республике Алтай. Бурятский язык относится к монгольской ветви, в России насчитывает около 400 тысяч его носителей, они проживают преимущественно в Республике Бурятия. Хакасский язык относится к тюркской группе, в России насчитывается около 75 тысяч его носителей, они проживают преимущественно в Республике Хакасия. В Алтайской, Бурятской, Хакасской республиках государственными языками являются русский язык и алтайский, бурятский или хакасский язык соответственно. Сохранение родного языка и культурных традиций выступает первостепенной задачей в этих республиках. При этом количество носителей данных языков, как и шорского языка, стремительно сокращается. Это обусловлено тем, что для поступления в вузы России и карьерного роста необходимо хорошее знание прежде всего русского языка. В 2002 г. бурятский язык, несмотря на его государственный статус, был занесен ЮНЕСКО в список исчезающих языков. В связи с вышесказанным неслучайно, что в настоящее время государство проводит политику, направленную на сохранение национальной культуры, важное место в которой занимает концепция развития языка, призванная стать ориентиром и организационной основой решения проблемы языковой идентичности как ключевого элемента культуры и самосознания (подробнее см.: [Ру-пышева, 2016, с. 5]).
В начале XIX в. В. фон Гумбольдт высказал мысль о том, что естественный язык не является абсолютно достоверным отображением мира, а отражает его творческое преобразование в процессах субъективного моделирования. По мнению немецкого философа, различные языки представляют различное видение мира: «язык есть его [народа] дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить что-то более тождественное» [Гумбольдт, 1984, с. 68]. Создание картины мира в собственной языковой вселенной позволяет человеку упорядочить свою жизнь, свободно ориентироваться в окружающем мире.
Л. Вайсгербер объясняет понятие языковой картины мира через метафору звездного неба: «Объективно данный мгновенный срез с картины мира человека состоит из столь громадного числа отдельных явлений, что он не в состоянии охватить каждое из них; лишь наиболее выдающиеся звезды получают наименование. Чтобы духовно овладеть всем остальным, человек должен некоторым образом упорядочить это множество. Так, с давних времен звезды на звездной картине неба объединяются в группы. Отдельные звезды на этой картине держатся друг за друга только благодаря некогда осуществленной и закрепленной в языке классификации, с помощью которой упорядочено ночное небо. С объективным положением и подлинными взаимоотношениями звезд на небе эта картина не имеет ничего общего. Само собой разумеется, что у разных народов эта классификация звездного неба осуществлялась различным образом» (цит. по: [Караулов, 1976, с. 244]).
При когнитивном моделировании языковой картины мира необходимо сопоставление языков разных народов, которое часто осуществляется посредством сравнительно-сопоставительного метода. Его значимость подчеркивал в своих работах Г.Д. Гачев: «Каждый новый изученный национальный тип культуры становится прожектором-объяснителем всех предыдущих: вносит поправки к предыдущим тезисам, бросает на них новый свет и добавляет им в доказательности. Каждый одновременно – и объект, и инструмент» [Гачев, 1988, с. 8].
Целью данного исследования является описание фрагмента языковой картины мира, отражающей представления коренных народов Сибири о таких природных объектах, как грибы.
Материалы и методы исследования
Для анализа взяты наиболее известные обыденному сознанию наименования таких грибов, как белый гриб, белый груздь, бледная поганка, волнушка, дождевик, лисичка, масленок, моховик, мухомор, опенок, подберезовик, подосиновик, подтопольник, рыжик, сморчок, черный груздь. У коренных народов Сибири исстари считалось, что грибы – еда только для животных (оленей, белок, мышей), человек может использовать их для охоты или врачевания. В связи с этим названия грибов в исследуемых языках появились относительно поздно. У телеутов, например, сохранилось только общее наименование для всех грибов – мешке. Многие грибы шорцы, алтайцы, буряты и хакасы называют заимствованными из русского языка словами.
Материал для исследования отбирался из словарей рассматриваемых языков: «Бурятско-русского и русско-бурятского словаря» (2004), «Русско-хакасского словаря» (1961), «Русско-алтайского словаря» (1963), «Хакасско-русского словаря» (1953), «Шорско-русского и русско-шорского словаря» (1993), «Этимологического словаря тюркских языков» (1980). Для сопоставления привлекался материал русского языка, извлеченный из «Словаря русских народных говоров» и «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера. Кроме того, использовался материал, полученный от информантов – носителей описываемых языков: алтайского языка – Керексибесовой Урсулы Валерьевны, магистранта КемГУ (Кемерово); бурятского языка – Кулеховой Анны Михайловны, учителя русского языка МБОУ СОШ № 18 (Братск); хакасского языка – Боргоя-ковой Тамары Герасимовны, доктора филологических наук, профессора, директора института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета (Абакан); шорского языка – Косточакова Геннадия Васильевича, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка, литературы и методики преподавания НФИ КемГУ (Новокузнецк).
Для достижения поставленной цели применяется метод пропозиционально-фреймового моделирования – один из эффективных методов когнитивного анализа языка, используемый для моделирования фрагментов языковой картины мира. При анализе языковых единиц обнаруживаются пропозициональные структуры знания, представляющие собой абстрактные суждения предикативно связанных между собой актантов. В пределах пропозициональных структур (далее – ПС) реализуются пропозиции (далее – П), проявляющие под влиянием конкретной языковой формы и этнокультурных особенностей уникальный способ познания мира конкретным народом.
Одно из центральных понятий когнитивного моделирования составляет фрейм. В современной лингвистике существует три базовых подхода к исследованию фрейма – лингвокогнитивный (А.Н. Баранов, А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Минский, Н. Хомский и др.), лингвокультурологический (В.И. Карасик, В.В. Красных, В.А. Маслова и др.) и психолингвистический (Р. Абельсон, И. Гоффман и др.). Наиболее признанным в когнитивной лингвистике является понимание фрейма как относительно самостоятельной структуры организации знаний и опыта человека в стереотипной ситуации. Мы анализируем фрейм с лингвокогнитивных и лингвокультурных позиций. При этом фрейм определяется как пропози-ционально организованный фрагмент языковой картины мира. Конкретные стереотипные ситуации (пропозиции) реализуются в пределах пропозициональных структур знаний, направляющих мысль человека при отражении в языке (в его лексических единицах) представлений о действительности. В рамках Кемеровской дериватологической школы данные структуры рассматриваются как наиболее абстрактные суждения с предикативно связанными актантами, указывающими на место, время, средство, цель, объект действия субъекта; результат по средству, месту, субъекту изготовления; субъект, имеющий отношение к другому субъекту, место по объекту назначения, времени использования и т. п. [Араева и др., 2016, с. 79].
Метод пропозиционально-фреймового моделирования апробирован представителями Кемеровской дериватологической школы (КемГУ) при сборе языкового материала и описании языковой картины мира бесписьменного языка коренного народа Сибири – телеутов, а также русского литературного языка и русских народных говоров (за 30 лет проведения исследований в данном направлении опубликовано более 1 000 научных работ).
Результаты и обсуждение
ПС «объект – признак», П «гриб по цвету»
Русский язык: по цвету обозначаются белый гриб , белый груздь , черный груздь , рыжик ; волнушки названы как по форме, так и по цвету шляпки – краснуха ; дождевик в русских говорах именуют не только по времени появления, но и по цвету шляпки – бе-лыш : « Белыш. Гриб-дождевик » (СРНГ, вып. 2, с. 234).
Алтайский язык: белые грибы называют ак мешке ( ак – белый, мешке – гриб); рыжик – сары мешке ( сары – желтый, мешке – гриб); черный груздь – кара мешке ( кара – черный, мешке – гриб).
Бурятский язык: по цвету названы белый гриб – саган мевгэ ( сагаан – белый, меегэ – гриб), саган hархяаг ( сагаан – белый, hархяаг – гриб); масленок – шара меегэ ( шара – желтый, меегэ – гриб); рыжик – шара hархяаг ( шара – желтый, hархяаг – гриб), шарлуу ( шар – рыжий; луу – суффикс сущ.); сморчок – хара меегэ ( хара – черный, меегэ – гриб); по цвету шляпки назван подосиновик – улаан толгой-то hархяаг , «красноголовый гриб».
Хакасский язык: белый гриб – ах миске ( ах – белый, миске – гриб); масленок – кÿре П миске ( кÿре П – коричневый, миске – гриб); рыжик – сары8 миске ( сары8 – желтый, миске – гриб).
Шорский язык: белый гриб – а^ мешке ( а ^– белый, мешке – гриб); подосиновик – кызыл мешке ( кызыл – красный, мешке – гриб).
ПС «объект – предикат – место», П «гриб, растущий в определенном месте»
Русский язык: боровик – «гриб, растущий в бору»; моховик – «гриб, растущий во мху»; опенок – «гриб, растущий на пне»; подберезовик – «гриб, растущий под березой»; подосиновик – «гриб, растущий под осиной»; подтопольник – «гриб, растущий под тополем».
Алтайский язык: дождевик – ат си-дик ( ат – лошадь, сидик – моча). Такое название связано с тем, что на Алтае дождевики растут там, где пасутся лошади, то есть в данном случае при характеристике места произрастания дождевиков для алтайцев, которые занимаются коневодством, значимо указание на запах, являющийся результатом физиологических выделений лошадей. Подберезовик – кайын мешке ( кайын – береза, мешке – гриб), «гриб, растущий под березой»; подосиновик – аспак мешке ( аспак – осина , мешке – гриб), «гриб, растущий под осиной».
Бурятский язык: подосиновик – уляастай ( уляас – осина, тай – суффикс сущ.), «гриб, растущий под осиной».
Хакасский язык: волнушка – тыт мискезi ( тыт – лиственница, мискезi – гриб), «гриб, растущий под лиственницей»; груздь – тирек мискезi ( тирек – тополь, мискезi – гриб), «гриб, растущий под тополем»; опенок – тjкпес мискезi ( тjкпес – пень, мискезi – гриб), «гриб, растущий на пне»; подберезовик – хазы П мискезi ( хазы П – береза, мискезi – гриб), «гриб, растущий под березой»; подосиновик – ос мискезi ( ос – осина, мискезi – гриб), «гриб, растущий под осиной»; рыжик – харагай мискезi ( харагай – сосна, мискезi – гриб), «гриб, растущий под сосной».
Шорский язык: груздь / подтопольник – терек мешке ( терек – тополь, мешке – гриб), «гриб, растущий под тополем»; подберезовик – ^ азып мешке ( ^ азып – береза, мешке – гриб), «гриб, растущий под березой».
ПС «объект1 по характерному признаку объекта2»,
П «гриб, напоминающий другой объект по определенному признаку»
Русский язык: гриб лисичка метафорически ассоциируется с цветом меха лисы;
масленок – гриб с маслянистой, скользкой на ощупь шляпкой; дождевик в русских народных говорах называют порховка – «гриб, по результату воздействия напоминающий порох»; пылевик – «гриб, по результату воздействия напоминающий пыль» (эти номинации можно объяснить тем, что у созревших грибов образуется порошковая масса спор, которая напоминает по цвету и консистенции пыль); табачный гриб – «гриб, который по цвету и консистенции напоминает табак»: « Порховки (грибы) не едят, пыль из нее. Порховка, как яичко куриное, а потом с голову разрастается. После дождя выходит дым из нее желтый. С маслом, сметаной смешаешь и от чирьев (прикладываешь). Краснояр. Енис. У, чево дожжовиков-то! После все порховки будут, как разорвешь ее да подавишь, дак ровно дым из ее пойдет . Перм. Вят.» (СРНГ, вып. 30, с. 113).
Алтайский язык: лисичка – айак мешке ( айак – чашка, мешке – гриб), «гриб, по форме шляпки напоминающий чашку»; масленок – јылјырык мешке ( јылјырык – слякоть, мешке – гриб), «гриб, по внешнему виду напоминающий слякоть».
Бурятский язык: волнушки – долгоёодой ( долг – волна, ёодой – уменьшительно-ласкательный суффикс сущ.), «гриб, узор на шляпке которого напоминает волны»; масленок – тоhолиг ( тоhо – масло, лиг – суффикс сущ.), «гриб, по внешнему виду напоминающий масло».
Хакасский язык: все белые грибы называются сÿт миске ( сÿт – молоко, миске – гриб), «грибы, по цвету напоминающие молоко»; волнушка – позы 8 миске ( позы 8 – гвоздь, миске – гриб), «гриб, по внешнему виду напоминающий гвоздь»; груздь – ча8 миске ( ча8 – сало, миске – гриб), «гриб, по вкусу напоминающий сало»; лисичка ассоциируется с цветом меха лисы – тÿлгÿ мискезi ( тÿлгÿ – лиса, мискезi – гриб); масленок – iрiпчi миске ( iрiпчi – сопли, миске – гриб), «гриб, по внешнему виду напоминающий сопли»; опенок – салаа миске ( салаа – палец, миске – гриб), «гриб, по внешнему виду напоминающий палец».
Шорский язык: данная ПС не реализуется.
ПС «объект – действие», П «гриб по его действию»
Русские язык: дождевик – бздушка , пердунок , пукалка . Эти номинации указывают на разлетающиеся при прикосновении к грибу неприятные на запах споры. «Перду-нок, нка, м. Ласк. Небольшой белый гриб. Набрали свиней да пердунков . Смол. 1914» (СРНГ, вып. 26, с. 19); «Бздушка. Род шарообразного гриба, наполненного пылью, похожею с виду на нюхательный табак (СРНГ, вып. 2, с. 287).
Алтайский язык: бледная поганка – корон мешке ( корон – ядовитый, мешке – гриб), «ядовитый гриб». Этот гриб вызывает тяжелое отравление, которое приводит к смерти в течение десяти дней.
Хакасский язык: бледная поганка – чут миске ( чут – истощать, миске – гриб), «гриб, который истощает»; мухомор – öдiрче п миске ( öдiрчеп – убивать, миске – гриб), «убивающий гриб».
Бурятский, шорский языки: данная ПС не реализуется.
ПС «объект – предикат – время», П «гриб, растущий в определенное время»
Русский язык: дождевик – громовик «гриб, растущий после грома»; дождевик «гриб, который появляется после дождя».
Бурятский язык: дождевик – хураша ( хур – дождь, аша – суффикс сущ.), «гриб, который появляется после дождя».
Хакасский язык: дождевик – наyмыр мискезi ( наyмыр – дождь, мискезi – гриб), «гриб, который появляется после дождя».
Алтайский, шорский языки: данная ПС не реализуется.
ПС «объект – признак»,
П «гриб по издаваемому запаху»
Алтайский язык: мухомор – jыду мешке ( jыду – вонючий, мешке – гриб), «гриб, который воняет».
Бурятский, хакасский, шорский, русский языки: данная ПС не реализуется.
ПС «объект – признак», П «гриб по способу произрастания»
Алтайский язык: опенок – биле мешке ( биле – семья, мешке – гриб), «гриб, который растет семьей» (номинация связана с тем, что опята растут большими группами).
Бурятский, хакасский, шорский, русский языки: данная ПС не реализуется.
ПС «объект1 – предикат – признак объекта2»,
П «гриб по своей структуре»
Бурятский язык: дождевик – тэнгэри-ин тамхин («небесный табак»).
Алтайский, хакасский, шорский, русский языки: данная ПС не реализуется.
ПС «объект – предикат – средство», П «гриб как средство»
Бурятский язык: дождевик – тэнгэри-ин д] лии («глухота неба»). Бурятские охотники в безветренную погоду по движению спор гриба определяли направление внешне неощутимого ветра, что помогало им подойти к зверю незамеченными.
Алтайский, хакасский, шорский, русский языки: данная ПС не реализуется.
Список литературы Когнитивное моделирование языковой картины мира коренных народов Сибири (на материале фрейма "грибы")
- Араева Л. А., 2015. Одна из самых загадочных сфер языка (к вопросу о словообразовательно-пропозициональной синонимии) // Язык в пространстве речевых культур : К 80-летию В.Е. Гольдина. М. ; Саратов : Амирит. С. 154-164.
- Араева Л. А., Калентьева Л. С., Кузнецова В. С., Тагаев М. Дж. 2016. Пропозициональная организация терминов некровного родства в телеутском, киргизском и китайском языках // Вестник Кемеровского государственного университета. № 3. С. 79-86. DOI: https:// doi.org/10.21603/2078-8975-2016-3-79-85.
- Араева Л. А., Ли С. И., 2019. Метод пропозицио-нально-фреймового моделирования в обучении иностранным языкам // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 18, № 1. С. 187-195. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.1.16.
- Арутюнова Н. Д., 1999. Язык и мир человека. М. : Яз. рус. культуры. XV, 896 с. Гачев Г. Д., 1988. Национальные образы мира. М. : Сов. писатель. 233 с.
- Гумбольдт В. фон, 1984. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс. С. 37-297.
- Караулов Ю. Н., 1976. Общая и русская идеография. М. : Наука. 356 с.
- Рупышева Л. Э., 2016. Названия растений бурятского языка : (Флоронимическая лексика). Улан-Удэ : Изд-во Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры. 185 с.
- Шумилова А. А., 2012. Фреймовое моделирование словообразовательно-пропозициональной синонимии (на материале диалектной лексики Кемеровского района) // Вестник Кемеровского государственного университета. Т. 4, № 4. С. 236-239.
- СРНГ - Словарь русских народных говоров. Вып. 1- . М. ; Л. ; СПб : Наука, 1965- . Вып. 2 / под ред. Ф. П. Филина. Л. : Наука, 1966. 317 с. ; вып. 26 / под ред. Ф. П. Сороколетова. Л. : Наука, 1991. 351 с. ; вып. 30 / под ред. Ф. П. Сороколетова. СПб. : Наука, 1996. 385 с. Бурятско-русский и русско-бурятский словарь / под ред. С. М. Бабушкина. Улан-Удэ : Респ. тип., 2004. 568 с.
- Русско-алтайский словарь / под. ред. Н. А. Баскакова. М. : Сов. энцикл., 1963. 875 с. Русско-хакасский словарь / под ред. Д. И. Чанкова.
- М. : ГИИНС, 1961. 968 с. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем и доп. О. Н. Трубаче-ва ; под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. М. : Прогресс, 1986-1987. 4 т. Хакасско-русский словарь / под ред. Н. А. Баскакова.
- М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1953. 487 с. Шорско-русский и русско-шорский словарь / сост.: Н. Н. Курпешко-Таннагашева, Ф. Я. Апонь-кин. Кемерово : Кемер. кн. изд-во, 1993. 147 с. Этимологический словарь тюркских языков / сост. Э. В. Севортян. М. : Наука, 1980. 395 с.