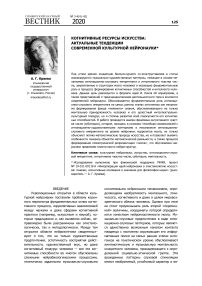Когнитивные ресурсы искусства: актуальные тенденции современной культурной нейронауки
Автор: Краева Александра Геннадьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3-4 (41-42), 2020 года.
Бесплатный доступ
Под углом зрения концепции биокультурного со-конструктивизма в статье анализируются музыкально-художественные паттерны, лежащие в основе механизмов интонационно-слухового импринтинга и интуитивного чувства числа, закрепленные в структурах мозга человека и играющие фундаментальную роль в процессе формирования когнитивных способностей и интеллекта человека. Данная цель реализуется в формате идей И. Канта об априоризме, а также представлений о трансцендентализме деятельностного типа в контексте современной нейронауки. Обосновывается фундаментальная роль интонационно-слухового импринтинга на самых ранних этапах онтогенеза как механизма формирования фонда «неявного» знания, обусловливающего не только ментальную принадлежность человека и его целостный интеллектуальнокультурный тезаурус, но и степень развития всей совокупности его когнитивных способностей. В работе проводится анализ феномена интуитивного чувства числа (субитации), которое, находясь в условиях теснейших взаимосвязей с интонационно-художественными паттернами и механизмом интонационнослухового импринтинга на уровне нейронных коррелятов мозга, не только объясняет логико-математическую природу искусства, но и позволяет выявить особенности генезиса объектов математической реальности, а также процесса формирования геометрической репрезентации «числа», что обусловлено широкими пределами пластичности нейроструктур.
Культурная нейронаука, искусство, интонационно-слуховой импринтинг, интуитивное чувство числа, субитация, ментальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14117521
IDR: 14117521
Текст научной статьи Когнитивные ресурсы искусства: актуальные тенденции современной культурной нейронауки
Революционные открытия в области культурной нейронауки поставили проблему коренного пересмотра фундаментальных основ когнитивного процесса, коррелятивных взаимосвязей между науками и даже сферами когнитивной практики (например, искусством и наукой), которые традиционно и, как выявлено сейчас, неправомерно были разграничены как эпистемологически, так и методологически. Между тем открытия области нейроэстетики свидетельствуют о том, что не только художественные предпочтения, эстетичность восприятия действительности, художественный вкус, но даже когнитивный тезаурус человека — все эти когнитивные способности во многом обусловлены сложными нейробиологическими процессами, генетически заданными музыкально-слуховыми когнитивными нейронными механизмами, определяющими необратимость ментального, этнического, когнитивного и даже в целом мировоззренческого облика человека. Однако при этом не стоит приуменьшать роль второй «переменной» величины, координаты которой определяются качеством нейропластичности мозга. Музыкально-слуховые предпочтения в виде интонационно-слуховых паттернов, которые являются единственно возможным каналом контакта младенца с постоянно окружающим его информативным полем на самых ранних этапах онтогенеза на генетическом уровне обусловливают лингвистическую и музыкальную ментальность конкретного человека, принадлежащего к определенной социально-этнической группе. Эти врожденные паттерны слуховой стимуляции имеют необратимый, устойчивый характер и яв- ляются «закодированной» информацией на уровне нейронной активности мозга человека. Процесс аккультурации, биологически обусловленный механизмами структурной и функциональной пластичности мозга, вносит важный вклад в систему музыкальных предпочтений, «накладывает» на имеющиеся у человека музыкально-слуховые априорные представления музыкально-слуховые паттерны, воздействующие на него посредством культуры.
Данная работа является одной из первых попыток в ряду отечественных исследований в оптике концепции биокультурного со-конструк-тивизма (автор — В. А. Бажанов) обнаружить априорные, нейрогенетические механизмы формирования когнитивных способностей и генерации интеллектуального потенциала человека, причем на самых ранних этапах онтогенеза (в пренатальный и постнатальный периоды). При этом каждая из этих попыток имеет целью выявить действительный потенциал художественно-когнитивных практик в указанных процессах.
Каковы механизмы нейродетерминации культуры и особенности влияния этих механизмов на творческие (аналитические и художественно-когнитивные, дискурсивные и интуитивные) способности человека? Как пластичность мозга связана с когнитивным потенциалом знания, обретенного еще до рождения, и наоборот? Каким образом современная нейронаука актуализирует кантианскую программу исследования мозга и как эта программа может быть интерпретирована относительно деятельности субъекта художественного творчества? В какой степени нейрогенетические корреляты формирования когнитивных способностей человека трансформируют представления о генезисе и механизмах познавательной и рефлексивной творческой деятельности, а также те философские представления, которые могут имплицироваться в связи с пересмотром трактовки их оснований? И какова действительная роль художественных коррелятов в указанных процессах? Каков действительный статус художественно-когнитивных практик в познании?
ИНТУИТИВНОЕ ЧУВСТВО ЧИСЛА VS ФЕНОМЕН СУБИТАЦИИ В КОРРЕЛЯТИВНЫХ СОПРЯЖЕНИЯХ С ХУДОЖЕСТВЕННО-КОГНИТИВНЫМИ ПАТТЕРНАМИ
Несмотря на обоснованность в научной литературе огромного потенциала художественного творчества для развития когнитивных способностей человека, как в специальной искусствоведческой литературе, так и в эпистемологи- ческих исследованиях Л. Г. Бергер, Б. Варга, П. П. Гайденко, Б. М. Галеева, О. Н. Даниловой, И. А. Евина, Дж. Кальоти, А. А. Коблякова, А. Н. Круглова, Е. Л. Фейнберга, Д. Р. Хофштадтера, Н. Швиндт-Гросса искусство и его составляющие (в том числе художественно-когнитивные паттерны) не так давно стали предметом анализа нейронауки, в частности нейроэстетики, переживающей с начала XXI века этап становления, в трудах W. Hirstein, G. Lengger Petra, S. Nalbantian, V. Ramachandran, C. W. Tyler, S. Zeki.
Процесс фиксации мозгом младенца интонационно окрашенных звуков во всей совокупности информационного потока, окружающего его, на самом деле является механизмом осмысленного и «направленного» когнитивного процесса, который формирует человека ментально, этнически, что, в свою очередь, позже (уже в постнатальный период) является предиктором осуществления коммуникации с ближайшими партнерами. При этом младенец разделяет окружающее на «своё» и «чужое». Более того, одним из самых ранних предикторов аналитического и протоматематического мышления является так называемое «чувство числа» [12], которое формируется, как показали последние результаты нейронаучных исследований, в непосредственной взаимосвязи с механизмами слухового импринтинга на самых ранних этапах онтогенеза. В одном случае субитация рассматривается как предикат математических способностей и врожденное умение оценивать приблизительное количество объектов без операции их подсчета [5]. В другом — в исследовательской литературе часто используется также термин «интуитивное (или несимволическое) чувство числа (Аpproximate Number Sense), под которым понимается навык экспликации и сравнения количественных характеристик объектов (например, пропорциональности) без использования символической, числовой системы и точного подсчета» [14].
При этом важно подчеркнуть, что овладение данным навыком обусловлено конгруэнтной взаимосвязью логико-математических и художественных когнитивных коррелятов.
Можно предположить существование нейрофизиологических механизмов, задействующих разные модусы мышления, к которым относятся интонационно-слуховые, пространственно-образные, формально-логические, одновременно в рамках принципиально единого когнитивного пространства. Нетривиальные результаты, достигнутые в понимании единства структуры когнитивного пространства, полученные в рамках школы А. Иваницкого, подтверждают, что мозг обрабатывает образные, интонационные и вербальные стимулы независимо друг от друга, но в единой когнитивной зоне. Об этом свидетельствует, например, феномен синэстезии [7], что во многом объясняет такие неотъемлемые детерминанты классического западноевропейского искусства, как концептуализация, математизация, формализм и интеллектуальная нагружен-ность.
Есть все основания предполагать, что интонационно-слуховые знаковые паттерны, включающие в свою структуру отдельные звуки, интонации и целостные интонационно-ритмические образования, играют первостепенную роль в развитии целого ряда когнитивных и интеллектуальных структур мозга человека. Причем это относится не только к лингвистическим когнитивным первоосновам, о чем свидетельствуют культурные основания всех цивилизаций, но и к формированию навыков вербального и абстрактного мышления, а в последующем и логикоматематического. Представления о едином когнитивном пространстве с позиции биокультур-ного со-конструктивизма, а также выявление в области нейронаучных исследований феномена субитации дают все основания предположить не только наличие априорных компонент математических способностей, но и взаимную корреляцию художественно-когнитивных и математических оснований на уровне нейрофизиологии благодаря действию механизма вышеописанного музыкально-слухового импринтинга.
Результаты исследований показывают, что только что родившиеся младенцы, у которых не может быть никакого приобретенного опыта, уже способны различать малые количества предметов и реагировать на изменения ситуации, которые не оправдывают их онтологические ожидания [9; 16, р. 347]. Применительно к художественно-когнитивным способностям данная идея получила развитие в работах американского нейрофизиолога В. Рамачандрана, который на основе анализа перцептивных механизмов относительно когнитивно-художественных паттернов выделил восемь, основанных на жестких нейрофизиологических механизмах, которые оказывают существенное влияние на формирование когнитивных функций мозга, среди которых обнаруживается и симметрия [19]. Категория симметрии (или золотого сечения) в искусствознании уже давно является общеупотребительной, однако особое внимание к ней возникло в XX веке. Одной из причин этого является то, что именно в XX веке была призна- на всеобщность симметрии как в областях, традиционно занимавшихся данной проблемой (кристаллографии, биологии, математике), так и в иных сферах, в том числе и в художественной деятельности (помимо изобразительных искусств, где симметрия изучается с давних пор). Наиболее значительным событием в процессе активизации математических исследований по числам Фибоначчи и золотому сечению была организация в США математической Фибоначчи-Ассоциации, которая с 1963 года начала издавать журнал “The Fibonacci Quarterly”. С 1984 года регулярно дважды в год ею проводятся международные конференции по числам Фибоначчи и их приложениям.
Логически последовательным в данном направлении исследований представляется установление механизмов детерминации творческой интуиции логико-аналитическими компонентами мышления как придание фундаментального статуса априорным основаниям художественного и математического творчества, обоснованием чего служит функционирование математических моделей как неотъемлемого структурирующего элемента когнитивного каркаса всей совокупности видов искусства, определяющего его дискурсивную специфику. Фундаментальность феномена субитации и его дуалистичность в рамках взаимной корреляции дискурсивного и интуитивного проявляется также в константности действия принципа золотого сечения в рамках абсолютно любого художественно-когнитивного феномена на всех уровнях ее элементов, начиная с детских колыбельных, определяющих начальный художественно-когнитивный опыт младенцев, до систем логико-математических модусов, организующих самые сложные композиторские техники в области музыкального искусства, а также ведущее значение принципов пропорции и симметрии в изобразительных искусствах. Явление субитации детерминирует так называемый психофизический закон Вебера — Фех-нера, обладающий статусом логарифма, а значит универсальностью.
Результаты нейропсихологических исследований влияния музыкального творчества на процесс онтогенеза показывают, что значимость априорного, неявного «запаса» личности определяется не только количеством запечатлений, но и их четкостью, рельефностью, глубиной в памяти младенца, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями и состоянием нервно-мышечного аппарата человека при восприятии [3, с. 36]. Это означает, что механизм интонационно-слухового импринтинга обладает качеством «опережающего отражения» [5, с. 179], способностью к предвидению, предслышанию этнически «своих» интонаций музыки, языка и ритма, вызывая биохимические изменения в памяти на молекулярном уровне [6, с. 34]. Возникающий на самых ранних этапах онтогенеза феномен субитации, сопряженный с механизмом музыкально-слухового импринтинга, таким образом, определяет не только художественный, но и конкретный этнокультурный тезаурус человека, а также создает потенциал, эвристическую направленность его последующего интеллектуального развития. Говоря о высокой степени эффективности данного механизма, В. Доулинг, выдвигая понятие «неявного» знания, отмечает, что «успешность восприятия музыки в контексте культуры зависит напрямую от фонда «неявного» знания, которое облегчает когнитивную обработку информации, соответствующей содержанию предложенных музыкальных образцов. Причем для представителя каждой музыкальной культуры существует «свое» неявное знание. Так, для представителя западной культуры — это «неявное знание» западного равномерно темперированного звукоряда, для представителей яванской культуры — «неявное знание» пятитоновых систем, близких звукорядам индийских раг, а также китайской пентатоники. По мнению нейроученых, подключение «неявного знания» к процессу музыкального восприятия особенно активно протекает в предродовой и постнатальный период развития ребенка, когда глубинные нейрофизиологические корреляты сознания вступают во взаимодействие с окружающим миром и консонируют, благодаря механизму отдельных клеток в коре головного мозга считывать частоту волн в определенном диапазоне при «узнавании» этнически «своих» звуковых интонаций: «Так же как струны музыкального инструмента дают резонанс в определенном пределе частот, так резонируют и клетки коры головного мозга» [10, с. 143].
Волновая (а значит, физико-математическая) природа составляет не только природу звука, но и цвета, а следовательно, музыкальнослуховой импринтинг формирует всю палитру художественно-когнитивных способностей.
Последнее и обеспечивает человеку устойчивое влечение к художественно-когнитивным и интеллектуальным стремлениям к собственной этнической культуре, выполняя роль своеобразного маркёра, реагента для накопления и адсорбирования музыкально-слуховых представлений в периоды позднего онтогенеза, создавая предпосылки для восприятия культуры иных этносов. Так, анализ творчества британских и французских композиторов дает все основания утверждать, что «они слышат различные ритмы»; аналогично имеется различие, например, в восприятии простых ритмических тонов (коротких и длинных) носителями английской и японской речи [18, р. 163].
Этнические музыкальные модули [2, с. 13] наиболее ярко представляют музыкальную ментальность и проявляют нейробиологический характер их генезиса. Свойственный западноевропейской культуре логицистский тип мышления нашёл своё воплощение в принципе детерминированности и рациональности, логико-математической выстроенности музыкального мышления, что выражается в строгой определенности, замкнутости и завершённости, а также экстравертности — стремлении воплотить и отрефлек-сировать в форме художественных образов и музыкальной композиции реальные исторические события, а также конкретные состояния, события жизни конкретного исторического субъекта. Отсюда — такие стилевые особенности музыкальной западноевропейской культуры, как гармоническая стройность (жесткая логика в сочетании консонанса и диссонанса), композиционная уравновешенность и структурная упорядоченность музыкальных произведений, полифония строгого стиля, классицизм с его догматом логического совершенства архитектоники музыкального произведения и формы, программная музыка в эпоху романтизма и т. д.
Таким образом, становятся очевидными причины столь глобального значения законов симметрии и золотого сечения в западноевропейской культуре, механизмы генезиса которых закладываются на самых ранних этапах формирования мозга человека, а также строго выверенный логико-математически аналитический принцип организации всей совокупности художественного материала в западноевропейской музыкальной традиции абсолютно любого конкретного исторического периода, вне зависимости от его идейно-мировоззренческой и стилевой позиции.
Нейронные корреляты западноевропейского сознания в процессе онтогенеза и под влиянием механизма интонационно-слухового импринтинга «усваивают» природные закономерности звучания музыкального звука западного равномерно темперированного строя еще задолго до рождения, формируя «предощущение» гармонии, опирающуюся на логико-математическую интуицию [13, р. 618—619]. При этом известно, что натуральный акустический ряд гармоник и деление звукового диапазона на консонансные гармонические интервалы кварты-квинты или октавы в западноевропейской музыкальной практике (периоды звуковысотной симметрии, образуемые первыми тремя сильнейшими гармониками, причем кварты-квинты ближе к диапазону человеческой речи) соответствуют спектрам и частотам электромагнитного излучения. Таким образом, структура акустического ряда, собранная и упорядоченная в музыкальном звукоряде по законам симметрии (наглядно: клавиатура рояля служит основой для создания бесконечного числа форм и конструкций разного уровня в музыке), подобна симметрии единообразной энергетической структурной основы, образующей качественное многообразие систем существования материи разного уровня, обнаружение чего уже является достижением западноевропейского естествознания.
Восточный музыкальный менталитет основан на континуально-циклическом мышлении, имеющем в своей основе принцип круга как воплощения бесконечности. Чувственно-образная медитация, эмоциональный стиль мышления, основанный на связи с буддийскими и исламскими религиозно-культурными традициями, символика числа, органическая взаимосвязь с немузыкальными космологическими явлениями, интровертность, воплощенная в состоянии са-мопогружения как олицетворения восточного принципа «всё во всём».
На уровне архитектоники и стиля, соответственно, западноевропейская музыкальная традиция характеризуется принципом тональной, равнотемперированной организации звукового материала, развёрнутой системой гармоний и ладов, с тональным тяготением (с разрешением неустойчивых ступеней в устойчивые), закрепленным в гомофонно-гармоническом, позже — в полифоническом музыкальном мышлении, что отразилось в строго фиксированном языке нотных знаков — пятилинейной нотации. Сильнейшим рациональным упорядочивающим началом западноевропейской музыкальной традиции является тактовая, акцентная ритмическая структура, строгая выверенность соотношений сильных и слабых долей, завершённость формы.
Восточная музыка в своих первоистоках принципиально монодична (одноголосна), что связано с совершенно особым восточным стилем мышления и особенностями культовой (религиозной) музыкальной традиции. Музыкальная рефлексия также направлена «вглубь» — в одной длительности может разворачиваться целое событие, музыка звучит пространственно, вертикально, звучание имеет вектор, но ритмически не упорядочена — импровизационна во времени.
Вероятно, различие западной, европейской и восточной музыки обусловлено доминированием на Западе аналитического, а на Востоке — холистического мышления [17], которое в первом случае является следствием безусловного предпочтения индивидуальности, а значит, принцип «многоголосия» «точек зрения» по строго выверенным числовым канонам превалирует. Восточная музыкальная культура олицетворяет прежде всего принадлежность определенному сообществу, которое цементируется общей, кооперативной деятельностью, придающей этому сообществу целостность, важную для его самосохранения и самоидентификации.
ОБОБЩЕНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ ДАННЫХ
Достижения культурной нейронауки в данном направлении придают большую устойчивость предположениям о вероятном качественном значении числовых отношений и феномене субитации, заключенных в природе звука, а также дают веские основания для проведения весьма любопытных аналогий, проявляющихся в значимых точках пересечения когнитивно-художественных паттернов в логико-математических сопряжениях [15].
На основании данных современных исследований в области нейронауки уже можно утверждать, что именно в музыкальных предпочтениях, способностях и одаренности наследственная связь наиболее проявляется, однако конкретная генетическая группа, отвечающая за воздействие музыкально-слуховых импульсов, остается не найденной, но именно в наши дни нейронаука подошла к этому вопросу вплотную.
Влияние музыки на когнитивные способности человека, а также взаимообусловленность музыкальных способностей и генов — проблема, занимающая умы представителей современной нейронауки. Пока что музыка остается понятием культурологическим, нежели биологическим. Однако генетическая природа музыкальной одаренности была осмыслена еще Ф. Гальтоном в книге «Наследственность таланта, ее законы и последствия», который выделял династию Бахов как наиболее представительную по количеству талантливых музыкантов на протяжении без малого трех веков. Появление целой плеяды одаренных музыкантов в семи поколениях уже само по себе является доказательством генетической природы музыкальных способностей.
В попытке понять принцип наследования исключительной одаренности в семьях им было установлено, что известность родственников талантливой личности уменьшается прямо пропорционально снижению степени родства с ним.
Если вспомнить идею Дж. фон Неймана о логике и математике как «вторичном» языке, надстроенном над «первичным» языком мозга [8, с. 239], и ее развитие как концепции нейро-биологической предзаданности логико-математического знания и при этом учесть открытия современной нейронауки о значении музыкально-слухового импринтинга как механизме начального когнитивного опыта, то этот вопрос может быть экстраполирован и на искусственные (формальные) языки, которыми представлены сложнейшие музыкально-стилевые феномены.
Принимая во внимание идею так называемого «психонейронного монизма», согласно которой и истоки любой человеческой мысли имеют свою материальную первооснову [10], а также основополагающую идею нейроконструктивизма, заключающуюся в мысли о том, что эпигенез осуществляется по вероятностным законам, детерминированным коррелятивными взаимосвязями представлений о развитии живой системы, проходящей ряд автономных стадий, и внешних социально-культурных воздействий и обретаемых ею априорных представлений, что обеспечивает системе значительный потенциал пластичности мозга и, соответственно, адаптации, следует привести примеры ряда любопытных художественно-когнитивных и логико-математических сопряжений. Они могут служить не только подтверждением одной из гипотез объяснения генезиса объектов математической реальности [1]. В них можно предполагать наличие прочных оснований для идеи К. Гёделя о существовании субъективной и объективной математики.
Предположения о вероятном качественном значении числовых отношений, заключенных в природе звука и составляющих пласт «неявного знания», заложенного в коре головного мозга в период раннего онтогенеза человека, дают основания проводить аналогии, несомненно, рискованные, но весьма любопытные.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Приведенные сопоставления когнитивнохудожественных и логико-математических сопряжений ярко демонстрируют и дают все основания полагать, что выявление системы нейронов, которые обеспечивают функционирование механизма интонационно-слухового импринтинга как одну из базовых начальных форм когнитивной деятельности, а также феномена суби-тации, выполняющего роль биологического фундамента протоматематической интуиции, лежащей в основании абстрактного мышления вообще, играет определяющую роль в процессе генерации интеллектуального потенциала человека. Однако в свете поставленной при написании статьи задачи главное, на что указывают данные корреляции, — необходимость на новом методологическом и общенаучном рефлексивном уровне переосмыслить и принять основополагающую роль когнитивно-художественной сферы в процессе решения сложнейших трансдисциплинарных проблем, касающихся полного понимания механизмов тройной детерминации когнитивной реальности — внутренней (естественной, нейрофизиологической), внешней (социально-культурной) и деятельностной (нормативной) на базе точного описания закономерностей функционирования нейронных коррелятов на всём протяжении процесса онтогенеза и аккультурации мозга, а значит — интеллектуального развития человека. При этом хотелось бы заметить, что теоретическому искусствознанию и эпистемологии искусства следует готовиться к более тесному и фундаментальному контакту со всей совокупностью нейронаучных дисциплин, развивая в своём составе аксиоматику и методологию нейрокультурных исследований, а более широко — формированию нейрофизиологического раздела теоретического искусствознания.
Список литературы Когнитивные ресурсы искусства: актуальные тенденции современной культурной нейронауки
- Бажанов В.А. Разновидности и противостояние реализма и антиреализма в философии математики. Возможна ли третья линия? / В.А. Бажанов // Вопросы философии. -2014. -No 5. -С. 52-64.
- Бажанов В.А. Музыка в фокусе современной нейронауки / В.А. Бажанов, А.Г. Краева // Вестник Томского государственного университета. -2017. -No 4(40). -С. 7-21.
- Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности / М.П. Блинов. -М.: Музыка, 1974. -237 с.
- Данилов Ю.А. Иоганн Кеплер: от мистерии до гармонии / Ю.А. Данилов, Я.А. Смородинский // Успехи физических наук. -1973. -Т. 109, No 1. -С. 175-209.
- Мозгот В.Г. Музыкальный импринтинг как фактор проявления раннейхудожественной одаренности личности / В. Г. Мозгот // Мир психологии. -2016. -No 5. -С. 176-185.
- Минков Е.Г. Мотивация: структура и функционирование / Е.Г. Минков. -Дубна: Феникс, 2007. -416 с.
- Роик А.О. Нейрофизиологическая модель когнитивногопространства / А.О. Роик, Г.А. Иваницкий // Журнал высшей нервной деятельности. -2011. -Т. 61, No 6. -С. 688-696.
- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. -М.:ИЛ, 1963. -826 с.
- Berger A., Tzur G., Posner M.I. Infant brains detect arithmetical errors // PNAS. -2006. -Vol. 103. -P. 12649-12653.
- Cartwright J. Evolution and Human Behaviour. -Houndmills: MacMillan, 2000. -432 р.
- Dehaene S., Brannon E. Space, time, and number: a Kantian research program //Trends in Cognitive Sciences. -2010. -Vol. 14, N 2. -P. 517-519.
- Dehaene S. The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics. -N. Y.: Oxford University Press, 1997. -Second enlarged edition, 2011.
- Dowling W.J. The development ofmysicperception and cognition // The Psychology of Music Second Edition. -Dallas, 1999. -P. 603-622.
- Halberda J., Mazzocco M.M.M., Feigenson L. Individual differences in nonverbal number acuity correlate with maths achievement // Nature. -2008. -Vol. 455(7213). -P. 665-668.
- Kraeva A., Bazhanov V. Symmetry and labirinth ideas music: an epistemological approach // Symmetry and labyrinth: 9th Interdisciplinaty Symmetry Congress-Festival of ISIS-Simmetry (International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry): Crete, Greece, September 9-15, 2013. -Host institution: The Hellenic Open University, 2013. -Р. 198-204.
- Libertus M.E., Brannon E.M. Behavioral and neural basis of number sense in infancy // Current Directions in Psychological Science. -2009. -Vol. 18, N 6. -P. 346-351.
- Nisbett R.E. The geography of thought. How Asians and Westerners Think Differently and Why. -N. Y., L.: The Free press, 2003.
- Patel A. Music, Language, and the Brain. -N. Y.: Oxford University press, 2008. -528 р.
- Ramachandran V.S., Hirstein W. The Science of Art: A Neurological Theory of Aesthetic Experience // Journal of Consciousness Studies. -1999. -No 6(6-7). -P. 15-51.