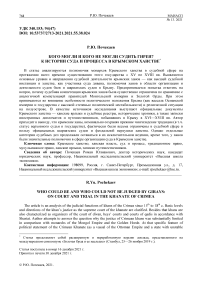Кого могли и кого не могли судить гиреи? К истории суда и процесса в Крымском ханстве
Автор: Почекаев Р.Ю.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются полномочия монархов Крымского ханства в судебной сфере на протяжении всего времени существования этого государства с XV по XVIII вв. Выявляются основные уровни и направления судебной деятельности крымских ханов - как высшей судебной инстанции в ханстве, как участника суда дивана, полномочия ханов в области организации и деятельности судов беев и шариатских судов в Крыму. Предпринимается попытка ответить на вопрос, почему судебная компетенция крымских ханов была существенно ограничена по сравнению с аналогичной компетенцией правителей Монгольской империи и Золотой Орды. При этом принимаются во внимание особенности политического положения Крыма (как вассала Османской империи и государства с высокой степенью политической нестабильности) и религиозной ситуации на полуострове. В качестве источников исследования выступают официальные документы Крымского ханства - ханские ярлыки и судебные реестры, исторические хроники, а также записки иностранных дипломатов и путешественников, побывавших в Крыму в XVI-XVIII вв. Автор приходит к выводу, что крымские ханы, номинально сохраняя прежние чингизидские традиции (в т.ч. статус верховного судьи в государстве), фактически были весьма ограничены в судебной сфере в пользу официальных шариатских судов и феодальной верхушки ханства. Однако отдельные категории судебных дел продолжали оставаться в их исключительном ведении, кроме того, у ханов были значительные полномочия в сфере организации суда в Крымском ханстве.
Крымское ханство, ханская власть, суд и процесс, традиционное право, мусульманское право, ханские ярлыки, записки путешественников
Короткий адрес: https://sciup.org/14123585
IDR: 14123585 | УДК: 340.153,
Текст научной статьи Кого могли и кого не могли судить гиреи? К истории суда и процесса в Крымском ханстве
Вопросы суда и процесса в Крымском ханстве неоднократно привлекали внимание исследователей еще в XIX в. (Хартахай 1866; 1867; Биярсланов 1889; 1890; Лашков 1895; 1896). Однако настоящий прорыв, полагаем, в этом направлении был сделан уже в начале XXI в., когда ряд специалистов провели детальный анализ судебной системы (Аметка 2004), связи суда и права с социально-экономическим (Э.Э. Абибуллаева) и политическим развитием Крымского ханства (Krolikowska-Jedlinska 2018), судебных реестров (Рустемов 2015; 2016a; 2016b; 2017), отдельных категорий разбирательств и даже конкретных судебных дел (Çiğdem 2005a; 2005b; 2005c; 2010; 2011). Результатом деятельности специалистов — востоковедов, источниковедов, историков и даже филологов стало введение в оборот значительного числа судебных документов, что позволяет изучать данную тематику и в историко-правовом аспекте.
Вместе с тем, использование в качестве основного судебных реестров (кадиаскерских книг) Крымского ханства обусловило тот факт, что основным объектом исследования специалистов становится организация и деятельность преимущественно мусульманских судебных институтов — судов кади, действовавших на основе шариата. В то же время сравнительно мало внимания уделено другой ветви судебной власти — системе ханского правосудия, унаследованной Крымских ханством от Золотой Орды, прямым преемником которой оно являлось (Аметка 2004: 9). Лишь отдельные вопросы, связанные с деятельностью этих судов, были затронуты в трудах Ф.Ф. Лашкова, В.Е. Сыроечковского, Н. Кроликовской-Жедлинской и др.
Между тем, являясь прямыми наследниками ханов Золотой Орды, а через них — и Монгольской империи, крымские ханы из династии Гиреев наряду с другими властными атрибутами и прерогативами (монополия рода на ханский титул, издание ярлыков и пр.) унаследовали также и статус верховных судей-арбитров в своем государстве. Однако особенности политико-правового и культурного развития Крымского ханства обусловили и специфику реализации этой ханской прерогативы на протяжении всего времени существования государства. Данная статья представляет собой попытку выявить эту специфику и охарактеризовать особенности становления и реализации системы ханского правосудия в Крыму XVI—XVIII вв.
Основными источниками исследования являются официальные документы Крымского ханства — ханские ярлыки и кадиаскерские тетради, содержащие как базовые принципы организации «ханского суда», так и конкретные примеры их применения на практике. Они неоднократно исследовались и публиковались (в т.ч. в русском переводе) М. Биярслановым,
МАИАСП № 13. 2021
Ф.Ф. Лашковым, В.Д. Смирновым, С.Ф. Фаизовым, Р.Р. Абдужемилевым, О.Д. Рустемовым. Дополнительную информацию по тематике исследования содержат крымские исторические хроники: «Тарих-и Сахиб-Гирей» Мехмеда Нидаи (Реммаль-ходжи), «Умдет ал-ахбар», Абд ал-Гаффара Кырыми, «Тарих-и Ислам-Гирей» Мехмеда Сенаи, «Розовый куст ханов» Халил-Гирей-султана и др.1. Наконец, значительную ценность представляют записки иностранных путешественников, побывавших в Крымском ханстве в XVI—XVIII вв. и представивших «внешний» взгляд на осуществление ханами своих судебных прерогатив. Среди них — польско-литовские дипломаты Михалон Литвин (Венцеслав Миколаевич) и Мартин Броневский, английский авантюрист Джон Смит, турецкий путешественник Эвлия Челеби, французский консул в Крыму Шарль Клод де Пейссонель, австрийский путешественник Николас Эрнст Клееман и др.
Сразу следует отметить, что в Крымском ханстве, в отличие от Золотой Орды, уже на раннем этапе его существования наибольшее распространение в судебной сфере приобрели суды кади, осуществлявшие свою деятельность на основе шариата (Хартахай 1866: 193). Они разбирали большинство дел как уголовно-правового, так и гражданско-правового характера. Причиной преобладания шариатских судов было не только то, что ислам являлся официальной религией в Крымском ханстве, но и то, что они имели давние традиции организации и осуществления правосудия, были четко институционализированы, характеризовались отлаженной процедурой, разработанной документацией и пр.
Вместе с тем, нельзя сказать, что крымские ханы были полностью лишены судебных прерогатив по сравнению со своими предшественниками — монархами Золотой Орды. Подобно всем ханам в тюрко-монгольских государствах (и не только), они официально являлись высшей судебной инстанцией и, как следствие, разбирали самые серьезные преступления против государства, судили высших государственных сановников государстве ([Броневский] 1867: 355—356; Михалон Литвин 1994: 69—70; Калашников 2013: 25; Пейссонель 2013: 52). В отдельные периоды к компетенции ханов также относились дела, связанные с разбоем и фальшивомонетничеством, поскольку и эти преступления воспринимались как наиболее опасные для государственной и социально-экономической жизни (Аметка 2004: 10; Рустемов 2017: 236—237). Существенно возрастала ханская судебная компетенция во время похода, если хан сам возглавлял войска в походе ([Де Лука] 1789: 482; Хартахай 1867: 147). В случае совершения воинских преступлений хан судил быстро, и его приговоры приводились в исполнение немедленно, включая даже смертную казнь — правда, если дело касалось рядовых воинов. Если же виновными оказывались представители родоплеменной аристократии, ханы не имели права судить их столь же сурово и оперативно. Например, во время одного из походов крымские беи составили против хана Сахиб-Гирея I заговор, который был раскрыт, «Однако не было такого падишахского закона, который позволял бы убить беев во время военной кампании», и хану пришлось проявить «к ним прежнее отношение» (Абдужемилев 2018a: 189—190).
Таким образом, нельзя не обратить внимания, что формальные полномочия и реальные возможности ханов в судебной сфере нередко не совпадали. Завися во многом от влиятельных родоплеменных вождей, приобретших прочную политическую и социальноэкономическую основу в Крыму задолго до образования здесь самостоятельного ханства, Гиреи зачастую не могли приговаривать к смерти высокопоставленных сановников или владетельных беев, ограниваясь приговорами лишь в отношении не слишком
МАИАСП № 13. 2021
К истории суда и процесса в Крымском ханстве высокопоставленных преступников из числа собственных чиновников ([Клееман] 1783: 208; Фаизов 2003: 121) или подчиненных собственных родственников (Абдужемилев 2019: 164— 165). Лишь наиболее властные монархи могли позволить себе привлечь к суду крупного сановника или военачальника из числа крымской знати и вынести ему суровый приговор. Но и для этого им необходимо было провести значительную подготовительную работу, чтобы склонить на свою сторону других влиятельных беев и тем самым обеспечить себе их поддержку, если приговоренный посмел бы сопротивляться ханской воле. Одним из ярких, весьма подробно описанных примеров такого рода является суд крымского хана Сахиб-Гирея над мангытским карачи-беем Бакы: прежде чем привлечь его к ответственности за заговор, хану пришлось длительное время обращать внимание других представителей знати на его прегрешения, в результате чего их общее мнение сформировалось против бея, и хан, почувствовав себя увереннее при их поддержке, наконец, смог приговорить Бакы к смерти и приказать привести приговор в исполнение (Абдужемилев 2018b: 219—231; см. также: Трепавлов 2020: 292—295)2.
Тем не менее, формально крымские ханы унаследовали от золотоордынских монархов судебные прерогативы, включая как дела, относившиеся к их собственной компетенции, так и право пересмотра судебных решений и приговоров, вынесенных нижестоящими судебными органами. Более того, в Крымском ханстве сохранилась древняя степная традиция, согласно которой к ханскому суду мог апеллировать любой подданный, и хан не должен был отказывать ему в правосудии ([Броневский] 1867: 356; Абдулгаффар Кырыми 2014: 156). Подобные решения и приговоры традиционно оформлялись в виде ханских указов-ярлыков. Правда, в большинстве случаев ханы могли выдавать ярлыки и добиваться их реализации лишь в тех случаях, когда их судебное решение сводилось к подтверждению прав и привилегий, дарованных истцам ранее их предшественниками на троне. Ярким примером является целая серия ханских ярлыков крымским караимам XVII в., которые в течение 1610—1699 гг. неоднократно обращались к крымским ханам с жалобами на своих соседей, которые захватывали их пастбища и даже возводили на них собственные ограды. В результате было выписано не менее пяти ярлыков ханов Джанибек-Гирея (1610 г.), Инайет-Гирей (1635 г.), Мухаммад-Гирея IV (1642 г.), Мурад-Гирея (1679 г.) и Девлет-Гирея II (1699 г.), которыми нарушителям предписывалось освободить захваченные пастбища и снести уже возведенные на них ограждения, а в дальнейшем караимам предписывалось обращаться в суд кади-аскера и местных судей-кадиев (Фиркович 1890: 63—102).
Право обращения к ханскому суду имелось и у иностранцев, оказавшихся на территории Крымского ханства и испытавших, по их мнению, несправедливость со стороны подданных Гиреев. Н. Кроликовска-Жедлинска анализирует три ярких примеров ханского правосудия в отношении иностранцев. Так, литовский татарин, попавший в плен и проданный в плен, обратился к суду хана Джанибек-Гирея в 1610/1611 г., упирая на то, что, как мусульманин, не мог находиться в рабстве у своих единоверцев, и было вынесено решение «на основе Корана». В 1636 г. священник Иннокентий Фелици с Мальты, в течение ряда лет находившийся на службе у крымских ханов в качестве переводчика посольств к европейским государям, был обвинен, во-первых, в получении взятки во время посольства в Вену, во-
МАИАСП № 13. 2021
вторых, в многолетнем сожительстве с мусульманской женщиной. Благодаря посредничеству одной из ханских жен, его друзья сумели добиться рассмотрения дела ханом, который счел возражения священника обоснованными и повелел разобраться в деле судье-кади, поставив дело под контроль собственного визиря. Наконец, уже в 1760-х гг. вышеупомянутый голландец Н.Э. Клееман, сопровождая ханское войско, был ограблен неким армянином и обратился к суду ханского наместника — каймакана, который признал справедливость иска и велел ответчику вернуть украденное, направив соответствующее письмо-инструкцию судье-кади, чтобы тот обеспечил выполнение решения (Krolikowska-Jedlinska 2015: 144, 147, 149—150).
Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что система ханского суда испытала значительное влияние ислама, нашедшее отражение в формально-юридических показателях. Во-первых, чтобы ханское судебное решение приобрело законный характер, его исполнение следовало поручить шариатскому суду в лице кади. Во-вторых, сама процедура разбирательства дел в ханском суде происходила во многом по образу и подобию суда кади, да и сами ханы (или их уполномоченные сановники) старались демонстрировать участникам процесса, что основывают свои решения на принципах и нормах шариата (Аметка 2004: 12, 14—15; Krolikowska-Jedlinska 2015: 150).
Следующей по значению судебной инстанцией Крымского ханства являлся диван — коллегиальный совещательный орган при хане, к компетенции которого также относились серьезные государственные и уголовные преступления (Хартахай 1867: 144; Эвлия Челеби 1996: 97; Аметка 2004: 10). При некоторых ханах именно диван, а не сами монархи, разбирал дела о преступлениях или взаимных претензиях членов правящего рода Гиреев ([Клееман] 1783: 203). В качестве главы государства ханы могли председательствовать в судебных заседаниях дивана и в обязательном порядке должны были утверждать (или отменять) смертные приговоры, выносившиеся этим органом (Эвлия Челеби 2008: 95—96; Пейссонель 2013: 51; ср.: [Де Лука] 1789: 482). Без ханского утверждения преступники, приговоренные к смерти диваном, не могли быть казнены. С другой стороны, и ханские приговоры в отношении наиболее высокопоставленных сановников нуждались в одобрении дивана, которое ханы не всегда получали ([Клееман] 1783: 229). Таким образом, можно говорить о своеобразной «системе сдержек и противовесов» в крымской системе ханского правосудия.
На региональном уровне судебные дела рассматривались, помимо шариатских судов, также и правителями областей — калга-султаном, нураддин-султаном, беями и мурзами. Формально их можно считать наследниками золотоордынских наместников (даруг или баскаков) и, соответственно, они должны были осуществлять правосудие по волеизъявлению монарха и на основе его предписаний, получая от него утверждение смертных приговоров и т.д. ([Броневский] 1867: 355; Орешкова 1990: 266; Аметка 2004: 8; Эвлия Челеби 2008: 96; Калашников 2013: 24—25). Среди вассальных Крымскому ханству ногайских орд номинально всей полнотой судебной власти обладали ханские наместники — сераскер-султаны, которые, впрочем, в своей деятельности должны были учитывать местные обычаи и позицию родовой знати (Грибовский 2009: 74; Сень 2020: 399—400). Однако по причинам, упомянутым выше, ханы фактически не имели рычагов влияния на правителей отдельных регионов ханства и поэтому не вмешивались в их действия, и беи могли осуществлять суд на основе норм и принципов обычного права или даже собственного усмотрения (Лашков 1896: 108; [Д’Асколли] 1902: 114). При этом сами беи зачастую не пытались урегулировать споры между собой в ханском суде, а предпочитали их силовое решение и вступали в междоусобицы (Хартахай 1867: 141—142, 146).
МАИАСП № 13. 2021
К истории суда и процесса в Крымском ханстве
Что же касается низового звена судебной системы в рамках «ханского суда», которая имела широкое распространение в Золотой Орде в лице судей-дзаргучи, в Крыму она не действовала. И именно это обусловило невозможность ханов контролировать судебную сферу на местном уровне, отдавая правосудие в регионах и отдельных местностях полностью на откуп знати и мусульманским судам кади.
Однако, несмотря на то что шариатский суд строился на основе принципов мусульманского права и, казалось бы, не имел никакого отношения к системе ханского правосудия, у крымских ханов имелись некоторые полномочия и в организации судов кадиев. Именно ханами назначались (в ряде случаев фактически — «рекомендовались») судьи в крупных областях — Бахчисарае, Ак-Меджиде, Гезлеве, Ор-Капы и др. И уже эти ханские ставленники, в свою очередь, назначали кадиев в судебные округа — кадилыки (Орешкова 1990: 266, 268; Хартахай 1867: 143). При этом интересно отметить, что если кади сам нарушал закон, его дело разбирали мусульманские правоведы, которые выносили решение или приговор и обеспечивали его исполнение — без вмешательства хана (Эвлия Челеби 2008: 98).
Также ханы имели возможность оказать определенное влияние на организацию судебной деятельности шариатских судов, в частности, устанавливая фиксированные сборы и пошлины, взимавшиеся кадиями при совершении определенных действий — внесение записей в судебные реестры, составление выписок из решений, составление актов о наследстве, выдачи вольных грамот и пр. (Рустемов 2017: 225; ср.: Михалон Литвин 1994: 84). Надо полагать, подобное «вмешательство» ханов в деятельность судов на основе шариата было обосновано тем, что данные сборы и пошлины формально не относились к основным мусульманским налогам и, как следствие, могли быть (и даже должны быть!) урегулированы ханскими ярлыками.
Однако в отношениях ханов с судами кадиев была и оборотная сторона: в кадиаскерских тетрадях имеется целый ряд записей о том, что ханы или члены ханского рода (как султаны, так и царевны) могли состоять в гражданско-правовых отношениях с собственными подданными и в этом качестве привлекаться к участию в судебном процессе. Имеются судебные решения, связанные с возмещением ханского долга, распределением наследства, заключение брака представительницами ханского рода и т.д. (Биярсланов 1889: 48; Лашков 1896: 101; Рустемов 2017: 213). Значение мусульманских судов было настолько велико, что хан или член ханского рода даже не мог сам освободить своего раба или рабыню собственным указом: такой указ (ярлык) являлся всего лишь основанием для того, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение в суд кадия, а сам такой документ выступал лишь как доказательство по делу и в этом качестве вносился в кадиаскерскую тетрадь (Биярсланов 1890: 74; Лашков 1895: 121—128; Абибуллаева 2016: 215; Рустемов 2016: 608; 2017: 118— 120, 159, 220—222).
Не всех ханов устраивало подобное положение дел в судебной сфере, и некоторые из них предпринимали попытки ее реформирования. Наиболее известной является попытка хана Мурад-Гирея (1678—1683), который в начале своего правления попытался передать основные судебные полномочия из суда кадиев в суд торе-баши — на основе традиционного степного права. Однако влиятельное крымское духовенство выступило против и заставило хана отказаться от своего намерения (см. подробнее: Смирнов 2005: 248; Почекаев 2009). Последний крымский хан Шахин-Гирей (1777—1783) также провел реформу, учредив шесть наместничеств во главе с каймаканами в Бахчисарае, Ак-Мечети, Карасубазаре, Гезлеве, Кефе и Перекопе, которые, в свою очередь, были поделены на 44 судебных округа — кадилыка. В отличие от Мурад-Гирея, он не преследовал цель целью лишить судей-кади
МАИАСП № 13. 2021
полномочий, а, напротив, попытался придать им еще и статус административных чиновников в соответствующих округах, тем самым намереваясь поставить их под контроль светских ханских наместников (Лашков 1886: 22).
Наконец, нельзя не отметить, что на ханские прерогативы в судебной сфере оказывало известное влияние и политическое положение ханства по отношению к соседним державам, что в свое время никоим образом не сказывалось на внутренней судебной организации Золотой Орды. Большую часть своего существования Крымское ханство находилось в той или иной степени вассальной зависимости от Османской империи. Соответственно, представители Османов в Крыму — беи Кефе, — формально не вмешиваясь во внутреннюю политику ханов, все же имели определенное влияние на дела ханства, включая и судебную сферу. В некоторых случаях кафинские наместники заступались за приговоренных ханами крымских сановников, которые в глазах Османов являлись лояльными вассалами и проводниками турецких интересов в Крыму (Абдужемилев 2018b: 201). А иногда наместники Кефе влияли на ханов и при рассмотрении прошений о назначении пенсий и т.д. (Рустемов 2017: 128).
Лишь в отдельных случаях имели место обратные ситуации, когда крымские ханы своими решениями защищали жителей Крыма от произвола османских наместников. Так, у1553 г. к хану Девлет-Гирею I в 1553 г. обратились жители одной из областей с жалобой, что с них, якобы, по воле османского сутана собирают подать с дыма (т.е., по сути, налог на жилье). Хан тут же обратился к султану Сулейману I Великолепному с заявлением, что такой налог в Крымском ханстве никогда не взимался, и добился от султана распоряжения османским чиновникам отменить его (Мустакимов 2019: 90). Еще один пример связан с вышеупомянутым видом имущества — военной добычей: к хану Ислам-Гирею III, вернувшегося из победоносного набега на Польшу, обратился представитель османского султана, потребовав передать ему всех пленных польских аристократов («гяурских беев»), на что хан также осмелился возразить, заявив, что это — по закону добыча его собственных беков, и они одни имеют право на получение выкупа за пленников (Абдужемилев 2016: 340—341).
В последние годы существования ханства аналогичную роль в Крыму играли дипломатические представители Российской империи, под протекторатом которой полуостров находился в 1774—1783 гг. Так, российские дипломаты заступались за несправедливо (по их мнению) наказанных крымских и ногайских мурз, считавшихся сторонниками России, и просили отменить наказание в их отношении (см., напр.: Дубровин 1885: 319). Когда Шахин-Гирей намеревался сурово наказать своих родственников и знать, восставших против него в 1782 г., российские власти, опять же, вмешались и заставили его смягчить свой приговор (СИРИО 1880: 231).
Таким образом, крымские ханы, подобно монархам Золотой Орды, обладали судебной компетенцией, более того, отправление правосудия и обеспечение справедливости даже официально являлось частью их правового статуса. Но по сравнению с золотоордынским периодом судебная власть Гиреев была существенно ограничена и мусульманскими судами, и высшей аристократией ханства, и представителями властей государств-сюзеренов, что объясняется особенностями политического развития Крымского ханства, влиянием различных внутренних и внешних факторов.
МАИАСП № 13. 2021
К истории суда и процесса в Крымском ханстве
Список литературы Кого могли и кого не могли судить гиреи? К истории суда и процесса в Крымском ханстве
- Абдужемилев Р.Р. 2016. Хроника Мехмеда Сенаи как памятник крымскотатарской художественной литературы XVII в. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- Абдужемилев Р. 2018a. Хроника «Тарих-и Сахиб Герай хан». Крымское историческое обозрение 1, 179—195.
- Абдужемилев Р. 2018b. Хроника «Тарих-и Сахиб Герай хан». Крымское историческое обозрение 2, 193—233.
- Абдужемилев Р. 2019. Хроника «Тарих-и Сахиб Герай хан». Крымское историческое обозрение 1, 147—174.
- Абдулгаффар Кырыми. 2018. В: Каримова Ю.Н., Миргалеев И.М. (пер.). Умдет ал-ахбар. Кн. 2. Перевод. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- Абибуллаева Э.Э. 2016. К истории судебных реестров Крымского ханства. Золотоордынская цивилизация 9, 214—220.
- Али-заде А.А. 1976. Предисловие. Мухаммед ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб (Руководство для писца при определении степеней). Т. II. Москва: Наука.
- Аметка Ф.А. 2004. Судебная власть в Крымском ханстве в конце XV — середине XVIII вв. В: Куковальская Н.М. (ред.). Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы II Судакской международной конференции (12—16 сентября 2004 г.). Ч. II. Киев; Судак: Академпериодика, 6—15.
- Биярсланов М. 1889. Выписи из кадиаскерского сакка (книги) 1017—1022 хиджры (1608/9—1614 хр. лет.), хранящегося в архиве Таврического губернского правления. ИТУАК 8, 41—51.
- Биярсланов М. 1890. Выписи из кадиаскерского сакка (книги) 1017—1022 хиджры (1608/9—1614 хр. лет.), хранящегося в архиве Таврического губернского правления. ИТУАК 10, 74—78.
- [Броневский М.] 1867. В: Шершеневич И.Г. (пер.). Описание Крыма Мартина Броневского (Tartariae Descriptio). ЗООИД VI, 333—368.
- Грибовский В.В. 2009. Управление ногайцами Северного Причерноморья в Крымском ханстве (40— 60-е годы XVIII в.). Тюркологический сборник 2007—2008, 67—97.
- [Д'Асколли Э.Д.] 1902. В: Пименов Н. (пер.). Описание Чёрного моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио Дортелли Д'Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634. ЗООИД XXIV. 1902. Отд. II, 89—180.
- [Де Лука Ж.]. 1879. В: Юрченко Н. (пер.). Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана де Люка, монаха доминиканского ордена (1625 г.). ЗООИД XI, 473— 493.
- Дубровин Н. 1885. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. Т. I. 1775—1777 гг. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
- Калашников В.М. 2013. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII — первой четверти XIX столетия). Днепропетровск: [б.и.].
- [Клееман Н.Э.] 1783. В: Одинцов И. (пер). Клееманово путешествие из Вены в Белград и Новую Килию, а также в земли буджакских и нагайских татар и во весь Крым, с возвратом через Константинополь, Смирну и Триест в Австрию. В 1768, 1769 и 1770 гг. с приобщением описания достопамятностей крымских. Санкт-Петербург: Государственная военная коллегия.
- Лашков Ф.Ф. 1886. Шагин-Гирей, последний крымский хан (исторический очерк). Киев: Типография А. Давиденко.
- Лашков Ф.Ф. 1895. Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения. ИТУАК 23, 118—129.
- Лашков Ф.Ф. 1896. Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения. ИТУАК 24, 72—137.
- Михалон Литвин 1994. В: Матузова В.И. (пер.)., Хорошкевич А.Л. (отв. ред.). О нравах татар, литовцев и москвитян. Москва: Московский университет.
- Мустакимов И.А. 2019. Документы о разграничении податных территорий и податного населения между Высокой Портой и Крымским ханством в середине XVI в. Средневековые тюрко-татарские государства 11, 88—92.
- Орешкова С.Ф. 1990. Османский источник второй половины XVII в. о султанской власти и некоторых особенностях социальной структуры османского общества. Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. Москва: Наука, 228—305.
- Пейссонель Ш.-К. де. 2013. В: Лотошникова В.Х. (пер.), Грибовский В.В. (вступ. ст., прим., коммент.). Записка о Малой Татарии. Киев: Институт украинской археографии и источниковедения НАН Украины.
- Почекаев Р.Ю. 2009. «Судебная реформа» крымского хана Мурад-Гирея. Тюркологический сборник 2007—2008, 320—326.
- Рустемов О Д. 2015. Образцы судебных решений (хукем) из судейских сборников Крымского ханства: особенности структуры и стиля. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика 1, 55—62.
- Рустемов О Д. 2016a. Лингвистическая составляющая в идентификации сословных титулов, званий, должностей населения Крымского ханства по материалам судебных реестров судов шариата XVII—XVIII вв. Ученые записки Крымского федерального университета. Серия «Исторические науки», 2 , 4, 63—79.
- Рустемов О.Д. 2016b. Проблемы в изучении крымских судебных реестров XVII—XVIII вв. Золотоордынское обозрение 3, 602—615.
- Рустемов О. 2017. Кадиаскерские книги Крымского ханства: исследования, тексты и переводы. Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского.
- Сень Д.В. 2020. Русско-крымско-османское пограничье: пространство, явления, люди (конец XVII в. — XVIII в.): Избранные труды. Ростов-на-Дону: Альтаир. СИРИО. 1880. Т. XXVII.
- Смирнов В.Д. 2005. Крымское ханство под верховенством Оттоманской порты до начала XVIII в. Москва: Рубежи XXI.
- Трепавлов В.В. 2020. История Ногайской Орды. Москва: Квадрига.
- Фаизов С.Ф. 2003. Письма ханов Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654—1658. Москва: Гуманитарий.
- Фиркович З.А. 1890. Сборник старинных грамот и узаконений Российской империи касательно прав и состояния русско-подданных караимов. Санкт-Петербург: Лештуковская паровая скоропечатня П.О. Яблонского.
- Хартахай Ф. 1866. Историческая судьба крымских татар. Вестник Европы II, 182—236.
- Хартахай Ф. 1867. Историческая судьба крымских татар. Вестник Европы II, 140—174.
- [Эвлия Челеби] 1996. В: Кизилов М.Б. (пер.). Книга путешествий Эвлии Челеби. Походы с татарами и путешествия по Крыму (1641—1667 гг.). Симферополь: Таврия.
- Эвлия Челеби. 2008. В: Бахревский Е.В. (пер.). Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественникаXVIIвека). Симферополь: ДОЛЯ.
- Cigdem R. 2005a. Crimes threatening bodily integrity (assault and battery): a legal analysis of four cases from the juridical registers of the Bakhchisaray/Crimea law court. Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 54, 61—71.
- Cigdem R. 2005b. Khul or Dissolution of Marriage by a Woman: A Historical Background and Two Cases from the Bakchisaray/Crimea Court. Dokuz Eylul Universitesi ilahiyat Fakultesi Dergisi 21, 95—115.
- Cigdem R. 2005c. The Judicial Registers of the Bakchisaray/Crimea Law Court: A Study of Murder Crimes. HamdardIslamicus 28, 4, 41—53.
- Cigdem R. 2010. Two juridical records of the Bakhchisaray law-court: A study of fornication. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 63, 2, 179—196.
- Cigdem R. 2011. Tax law in Crimea in the light of two yarliks. Russian History 38, 4, 429—466.
- Krolikowska-Jedlinska N. 2015. Foreigners in front of the Crimean khan's courts in the seventeenth and eighteenth centuries. International Crimes and History 16, 139—154.
- Krolikowska-Jedlinska N. 2018. Law and Division of Power in the Crimean Khanate (1532—1774). With Special Reference to the Reign of Murad Giray (1678—1683). Leiden; Boston: Brill.