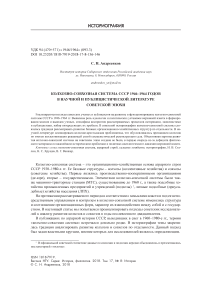Колхозно-совхозная система СССР 1946-1964 годов в научной и публицистической литературе советской эпохи
Автор: Андреенков Сергей Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 8 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируются взгляды советских ученых и публицистов на развитие и функционирование колхозно-совхозной системы СССР в 1946-1964 гг. Выявлены роль идеологии и политических установок верховной власти в формировании мнения и выводов ученых, специфика восприятия рассматриваемых процессов историками, экономистами и публицистами, набор интересующих их проблем. В советской историографии колхозно-совхозной системы сложилась традиция рассматривать развитие базовых организационно-хозяйственных структур по отдельности. В научной литературе доминировала колхозно-крестьянская проблематика, что обусловливалось признанием колхозов по итогам коллективизации решающей силой социалистической реконструкции села. Объективная картина развития колхозно-совхозной системы на советском этапе создана не была, в первую очередь из-за дефицита фактического материала по важнейшим историческим проблемам и политико-идеологического давления верховной власти.
Колхозно-совхозная система, аграрный строй, сельское хозяйство, историография, и. в. сталин, н. с. хрущев, в. г. венжер
Короткий адрес: https://sciup.org/147219998
IDR: 147219998 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-8-136-146
Текст научной статьи Колхозно-совхозная система СССР 1946-1964 годов в научной и публицистической литературе советской эпохи
Колхозно-совхозная система – это организационно-хозяйственная основа аграрного строя СССР 1930–1980-х гг. Ее базовые структуры – колхозы (коллективные хозяйства) и совхозы (советские хозяйства). Первые являлись производственно-кооперативными организациями (де-юре), вторые – государственными. Элементами колхозно-совхозной системы были также машинно-тракторные станции (МТС), существовавшие до 1960 г., а также подсобные хозяйства промышленных предприятий и учреждений (подхозы) 1, личные подсобные (приусадебные) хозяйства населения (ЛПХ).
На протяжении рассматриваемого периода в соответствии с замыслами власти и под ее непосредственным управлением и контролем в колхозно-совхозной системе изменялись структура и соотношение организационных форм, характер их взаимодействия между собой и с государством. В настоящей статье мы попытаемся проанализировать подходы советских исследователей к анализу развития колхозов и совхозов в годы послевоенного двадцатилетия.
В публикациях по аграрной истории СССР, выходивших в свет в 1960–1980-е гг., термин «колхозно-совхозная система» встречался довольно редко. В историографии темы закрепилась традиция анализировать развитие колхозов и совхозов по отдельности. Данный подход был задан властными кругами, мнение которых для исследователей являлось определяющим.
Изначально в экономической и исторической литературе доминировала колхозно-крестьянская проблематика, что обусловливалось признанием колхозов по итогам коллективизации решающей силой социалистической реконструкции села. Хотя в конце 1920-х гг. властные круги считали одной из основных задач аграрных преобразований создание совхозов. На XV съезде партии (декабрь 1927 г.), известном как «съезд коллективизации», И. В. Сталин призвал создавать в деревне одновременно и колхозы, и совхозы [Пятнадцатый съезд ВКП(б), 1962. С. 1465]. Согласно представлениям правящей верхушки о путях социалистической реконструкции сельского хозяйства, государственные (общенародные) хозяйства, отличаясь крупными размерами, высоким уровнем механизации и товарности производства, являются эталонной моделью социалистического сельхозпредприятия, а колхозы, имеющие более скромные характеристики, – второстепенной и временной. В среднесрочной перспективе (при зрелых социалистических отношениях) колхозно-кооперативная собственность должна была сблизиться с совхозной, а в долгосрочной (коммунистической) перспективе – слиться с ней. При коммунизме, как полагали марксистские теоретики, исчезнут различия между городом и деревней, крестьянином и рабочим, физическим и интеллектуальным трудом. Однако в 1930-е гг. совхозы стали для верховной власти одним из самых досадных разочарований: ведение хозяйства в них требовало вложения значительных средств и при этом не давало должного объема продукции. Поэтому на первый план вышли колхозы, создание которых обходилось дешевле. Рост производства в них достигался с помощью жесткого диктата государства, в частности, посредством МТС, обязательных поставок, минимума трудодней и прочих рычагов. Материальная заинтересованность в работе колхозников на общественных полях и фермах почти отсутствовала. Крестьянам разрешили вести личные подсобные хозяйства, которые стали частью колхозного строя.
В начале 1950-х гг. И. В. Сталин уже говорил о том, что коммунистические хозяйства вполне можно будет создавать на базе колхозной системы и без участия совхозов. В своей книге «Экономические проблемы социализма в СССР» он писал о том, что благодаря развитию МТС и увеличению неделимых фондов сельхозартелей средства производства колхозов фактически уже государственные. Собственностью колхозов является лишь их продукция. Для того чтобы поднять ее до уровня общенародной, необходимо выключить излишки сельхозартелей из системы товарного обращения и включить их в систему прямого продуктообмена между сельским хозяйством и промышленностью [2011. С. 76–84].
Данные идеи И. В. Сталин высказал, полемизируя с экономистами В. Г. Венжером и А. В. Саниной, выступавшими за развитие в деревне товарно-денежных отношений и наращивание кооперативной собственности колхозов, в том числе путем передачи им техники МТС. Предложение продать технику станций сельхозартелям И. В. Сталин жестко раскритиковал, назвав его попыткой «повернуть назад колесо истории».
Во взглядах И. В. Сталина и В. Г. Венжера было и много общего: оба скептически относились к совхозам и делали ставку на колхозы, полагая, что коммунистические отношения в деревне можно формировать на их основе, но только это весьма отдаленная перспектива, оба предсказывали естественное отмирание ЛПХ и стирание различий между городом и селом.
После смерти И. В. Сталина проекты В. Г. Венжера оказались востребованными и реализовывались на практике Г. М. Маленковым и Н. С. Хрущевым. Последний зашел по пути аграрной «десталинизации» довольно далеко: в 1958 г. МТС, натуроплата за их услуги и обязательные поставки были упразднены, государство стало приобретать продукцию сельхозартелей по новым экономически обоснованным ценам. Ликвидация МТС и продажа их техники колхозам обосновывались необходимостью устранения рудиментов сталинского аграрного строя, тормозивших развитие сельского хозяйства. При этом говорилось о том, что МТС сыграли большую позитивную роль в развитии колхозов. В книге ученицы В. Г. Венжера Т. И. Заславской, вышедшей в 1960 г., о реорганизации МТС отмечено: «Исторически сложившаяся форма производственно-технического обслуживания колхозов через МТС стала превращаться в существенный тормоз дальнейшего движения вперед. На колхозной земле оказалось два разных хозяина – колхоз и МТС. Причем разделение прав и обязанностей между этими организаци- ями, сложившееся в более ранний период, уже не отвечало новым условиям производства» [Заславская, 1960. С. 15].
Идеи В. Г. Венжера оставались востребованными и после отставки Н. С. Хрущева. В работах экономистов 1960-х – первой половины 1980-х гг. – Т. И. Заславской [1966], И. Н. Трегубова [1966], К. И. Могильницкой [1977], В. Г. Венжера [1979] и др. – критиковались внеэкономические рычаги управления колхозами, использовавшиеся при И. В. Сталине, и обосновывалась важность шагов по аграрной либерализации, предпринятых в середине 1950-х гг. Анализируя опыт использования рыночных механизмов регулирования сельской экономики этого периода, они вырабатывали способы повышения эффективности организации и оплаты труда колхозников, ценовой и налоговой политики государства, артельной собственности, а также обосновывали целесообразность реорганизации МТС, несмотря на все ее издержки. В позитивном ключе об этой реформе, в частности, написано в 6-м томе фундаментального труда по истории экономики СССР [История социалистической экономики СССР, 1980. С. 243]. Положительно оценивалось укрупнение колхозов, проводившееся в 1950-е гг. в целях ускорения развития в них индустриальных форм хозяйствования и обеспечивавшее более быстрый переход к интенсивному производству.
В научно-исторической литературе второй половины 1960-х – 1980-х гг. (см.: [Волков, 1972; Вылцан, 1976; Казанцев, 1977; Советская деревня..., 1978] и др.), в том числе в фундаментальных трудах: 4-м томе «Истории советского крестьянства» [1988], а также 4-м и 5-м томах «Истории крестьянства Сибири» [Крестьянство Сибири..., 1985; Крестьянство и сельское хозяйство Сибири, 1991], даны более взвешенные оценки постсталинской либерализации колхозной системы. При этом продажа техники МТС колхозам показана как важное, но поспешное и плохо продуманное начинание, имевшее альтернативу. В книге М. А. Вылцана о рассматриваемой реформе сказано: «Разумеется, во взаимоотношениях колхозов и МТС не все и не всегда обстояло гладко, но думается, что так называемые противоречия “двух хозяев на одной земле” в конечном счете перекрывались теми выгодами и преимуществами, которые давало их производственное содружество. Истекшие после реорганизации МТС первые семь лет показали, что путь совершенствования системы “колхоз – МТС” был бы, вероятно, более эффективным, чем ликвидация самой системы с имевшими место излишками» [1976. С. 238].
Главный специалист по аграрно-крестьянскому вопросу и куратор науки из ЦК КПСС историк С. П. Трапезников вывел следующую формулу развития советского аграрного строя. Социалистическая реорганизация сельского хозяйства, по его мнению, осуществлялась по трем направлениям: по линии создания совхозов, машинно-тракторных станций и колхозов. Появилось два однородных типа общественных хозяйств: государственные (совхозы и МТС) и кооперативные (колхозы). «Теперь проверено временем и подтверждено многолетней практикой, – пишет он, – что этот путь социалистической реорганизации сельского хозяйства являлся правильным не только в СССР, но оказался в той или иной мере приемлемым и для других социалистических стран…» [1974. С. 560–561]. Таким образом, включив МТС в число структур, целенаправленно создававшихся по программе массовой коллективизации, С. П. Трапезников подчеркнул большую значимость этих предприятий и нецелесообразность их ликвидации.
В научно-исторических публикациях 1960–1980-х гг. по истории крестьянства помимо обозначенных выше экономических вопросов на общесоюзном и региональном материале детально прорабатывались проблемы осуществления партийного руководства сельхозартелями, обеспечения их кадрами, производства сельхозпродукции, шефства промышленных предприятий над сельскохозяйственными и др. (см.: [Русаков, 1965; Беликова, 1983] и др.).
Периодизация послевоенной истории сельского хозяйства в целом и колхозов в частности совпадала с периодизацией истории советского общества. Для рассматриваемого нами этапа ключевыми вехами являлись 1945, 1958 и 1965 гг. 1945 г. – окончание Великой Отечественной войны, первый мирный сельскохозяйственный год. 1958 г. – завершение полной и окончательной победы социализма и преддверие эпохи создания материально-технической базы коммунизма, упрочение колхозного строя, начало сближения колхозно-кооперативной собственности с общенародной. 1965 г. – исправление волюнтаристских перегибов в осуществлении руко- водства страной и вступление в эпоху «развитого социализма», старт реализации программы интенсификации сельского хозяйства. Периоды подъема (восстановительного роста) отрасли: 1946–1950, 1954–1958 и после 1965 г., периоды замедления темпов ее развития: 1951–1953 и 1959–1964 гг.
О предпосылках и природе кризисных явлений в сельском хозяйстве, как и вообще о недостатках колхозного строя, историки высказывали разные мнения. В частности, они полемизировали по вопросу о том, какие факторы – субъективные или объективные, внутренние или внешние – в наибольшей степени обусловили те или иные трудности. Многие дискуссионные вопросы о развитии сельского хозяйства Сибири были представлены в фундаментальной коллективной монографии «Историография крестьянства советской Сибири» (1976 г.), подготовленной в Институте истории, филологии и философии СО РАН [Историография крестьянства..., 1976].
В 1953–1964 гг. ученые часто пытались обосновать тезис о том, что замедление темпов роста колхозного хозяйства в начале 1950-х гг. было вызвано причинами субъективного порядка. Например, по мнению Н. С. Погорелова, кризисное развитие колхозов в этот период являлось следствием ошибочной политики И. В. Сталина: «Сталин не понимал деревни, не знал сельского хозяйства, – пишет автор, – часто игнорировал требования законов развития сельскохозяйственного производства. Это особо ярко проявилось в политике цен на сельскохозяйственные продукты. <…> В ряде отраслей сельского хозяйства нарушался один из коренных принципов социалистического хозяйствования – принцип материальной заинтересованности» [Погорелов, 1964. С. 58].
В период правления Л. И. Брежнева акценты изменились, трудности в сельском хозяйстве начала 1950-х гг. были названы следствием объективных и в значительной степени внешних факторов: исчерпание потенциала восстановительного роста, отток сельского населения в промышленность, засуха, сокращение капиталовложений в отрасль в связи с увеличением расходов на оборону, обусловленным противостоянием с США (война в Корее и т. п.) [Волков, 1972. С. 285].
Характерно, что во второй половине 1960-х – конце 1980-х гг. исследователи, анализируя причины замедления темпов роста сельского хозяйства в начале 1960-х гг., также акцентировали внимание на субъективных факторах. Упор на них делался в связи с решениями октябрьского 1964 и мартовского 1965 г. пленумов ЦК КПСС, осудивших субъективизм в политике Н. С. Хрущева. С этого момента почти все неудачи в сельском хозяйстве и в других сферах объяснялись волюнтаризмом в его руководящей деятельности. Многие предложения Н. С. Хрущева признавались ошибочными. При их анализе имя первого секретаря ЦК КПСС упоминалось крайне редко. Реальная роль этого деятеля в осуществлении аграрной политики государства, по сути дела, была раскрыта историками только в постсоветский период [Зеленин, 2001].
У высших политических руководителей вызывали раздражение поспешность и радикальность инициатив Н. С. Хрущева, его стремление опередить время: создать социально-экономические структуры и отношения, которые должны появиться лишь в будущем, причем не самом близком. За эти недостатки в руководстве Н. С. Хрущев получил весомую порцию критики еще при И. В. Сталине. В 1951 г. генсек раскритиковал его предложение сократить размеры личных участков колхозников и выделять из общественных фондов средства на развитие социально-бытовой инфраструктуры в укрупненных колхозах. И. В. Сталин полагал, что время для такого рода перемен в жизни колхозников еще не пришло.
В 1960-е гг. в научную литературу по экономике и истории сельского хозяйства стремительно вошла совхозная тематика. Интерес к ней обусловливался масштабным строительством государственных хозяйств, инициированным Н. С. Хрущевым и противоречившим и взглядам И. В. Сталина, и позициям В. Г. Венжера. «Совхозизация» середины 1950-х – начала 1960х гг. являлась продолжением реализации программы коллективизации, принятой в конце 1920х гг. При Н. С. Хрущеве массовое совхозное строительство, разумеется, было для исследователей важным позитивным мероприятием. Но и после октября 1964 г. его в целом считали прогрессивным шагом. Строительство совхозов на новых землях и освоение целины в общем как способ быстрого решения зерновой проблемы не могли не оправдываться, поскольку одним из руководителей целинной кампании являлся Л. И. Брежнев. Данная акция стала приобретать образ мероприятия, продвигавшегося именно Л. И. Брежневым, а не Н. С. Хрущевым. Хотя целинную эпопею чаще называли инициированным партией всенародным движением.
К числу недостатков отнесли чрезмерные масштабы реорганизации отстающих колхозов в совхозы, во многом обусловившие низкую эффективность вновь образованных хозяйств. Действительно, данную акцию, изначально являвшуюся чисто экономической мерой, при Н. С. Хрущеве наполнили большим идеологическим смыслом: ее проведение должно было ускорить приближение коммунизма, конкретные сроки вхождения в который (1980 г.) установил XXII съезд КПСС в октябре 1961 г. После отставки первого секретаря партийная верхушка заявила о том, что необходимо одновременно и соразмерно развивать и колхозную, и совхозную формы хозяйствования. Слияние двух типов хозяйств в единую общенародную собственность объявлялось делом отдаленного будущего.
О коммунистической перспективе вообще старались не говорить. Эпоха создания материально-технической базы коммунизма, о начале которой еще в 1959 г. возвестил внеочередной XXI съезд партии, стала называться эпохой «развитого социализма». Если в первом варианте данный период общественного развития имел переходный характер и свой финал, то во втором – являлся особой стадией, которая могла длиться сколь угодно долго.
Однако, ради истины, следует отметить, что установка равномерно развивать обе формы социалистического хозяйствования родилась уже при Н. С. Хрущеве. В конце правления он признал ошибочность сплошного преобразования отстающих колхозов в совхозы и отметил важность принятия мер по оздоровлению экономики сельхозартелей. В упомянутой выше книге Н. С. Погорелова обосновывался тезис о том, что Н. С. Хрущев невиновен в этом провале и что он всегда выступал за равномерное развитие и колхозов, и совхозов, а вот И. В. Сталин, наоборот, противопоставлял их друг другу. По мнению автора, в 1930-е – начале 1950-х гг. многие колхозы были настолько истощены экономически необоснованной ценовой, заготовительной и налоговой политикой государства, что самостоятельно уже не могли встать на ноги, и после смерти И. В. Сталина правительству пришлось взять их на госбюджет. Однако в конце 1950-х – начале 1960-х гг. данный процесс зашел слишком далеко, и виновны были в этих перехлестах «некоторые экономисты», «отдельные товарищи» и «местные руководители», которые убеждали верховное руководство в необходимости широкой «совхозизации» колхозов, фактически являвшейся ошибочной мерой [Погорелов, 1964. С. 58–74].
В целом «реабилитация» совхозов в середине 1950-х – начале 1960-х гг. породила целый шлейф работ о развитии общенародного сектора сельского хозяйства. Об увеличении объема публикаций о совхозах свидетельствуют данные поисковой системы Российской государственной библиотеки. Так, поиск публикаций, вышедших в свет в 1930–1955 и в 1956–1981 гг., по слову «совхозы» выдал 5,8 и 14,0 тыс. названий соответственно. Таким образом, количество работ по данной теме выросло в 2,4 раза соответственно. Запрос по слову «колхозы» за эти двадцатипятилетние периоды позволил выявить 19,8 и 22,6 тыс. печатных материалов, т. е. рост публикаций по колхозной проблематике составил только 14 %. Разумеется, речь идет не только о научно-исторических работах, но и о трудах экономического и сельскохозяйственного профиля.
Значительный вклад в изучение особенностей развития и функционирования совхозов внесли Н. С. Погорелов [1964], М. Л. Богденко, И. Е. Зеленин [1976], Н. С. Тонаевская [1978] и др. В основном исследовались те же темы, что и при анализе колхозно-крестьянской проблематики (организация и оплата труда, рентабельность, кадровый потенциал, материально-техническая база, динамика и масштабы производства, партийное руководство и др.). Важным направлением стал анализ вопросов реорганизации колхозов в совхозы [Тюрина, 1983].
Проблемы развития и функционирование колхозно-совхозной системы в рассматриваемый период отображали не только историки, экономисты и прочие ученые, но и писатели. В 1960-е гг. стала набирать популярность деревенская проза (В. П. Астафьев, В. Т. Распутин, В. М. Шукшин, С. П. Залыгин, В. А. Солоухин и др.), которая создавала яркие картины вну- триколхозной и внутрисовхозной жизни с ощутимым нонконформистским уклоном. Произведения «деревенщиков» показывали аграрную политику государства в восприятии селян, их повседневные отношения друг с другом и с представителями власти, природу трудовых подвигов и проступков, особенности семейного быта. В этих сюжетах просматриваются тяжелый, неблагодарный и часто бесплодный труд на колхозных и совхозных полях и фермах, черствость и волюнтаризм начальства и прочие недостатки советской аграрной системы. Раскрывается также значительная роль личного подсобного хозяйства в жизни работников сельхозпредприятий. В целом они превозносили традиционные крестьянские ценности.
В годы перестройки отношение широких слоев общества, литературных и экспертных кругов к советскому строю стало более критическим. Верховная власть предоставила исследователям доступ к ранее засекреченным архивам и в то же время направила их творческую энергию на выявление недостатков административно-командной системы. При этом закономерность формирования и эффективность функционирования социалистических отношений в первые годы перестройки не подвергались сомнению.
Специалисты по аграрной истории СССР стали пересматривать взгляды на колхозно-совхозную систему. Широко распространилась точка зрения о том, что она в принципе не может быть эффективной, поскольку является детищем сталинской волюнтаристской политики, ослабленным многочисленными неизлечимыми родовыми травмами. При этом говорилось о существовании альтернативных путей социалистической реконструкции сельского хозяйства. Эту позицию разделяли, например, академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов и историк В. П. Данилов. На «круглом столе» с повесткой «Коллективизация: истоки, сущность последствия», проходившем в Москве 24 октября 1988 г., В. П. Данилов заявил: «Сталинский вариант коллективизации не был запрограммирован ни социалистической теорией, ни объективными обстоятельствами <…>. Трактовка кооперирования крестьянских хозяйств не как самостоятельной задачи…, а как средства для решения других задач была принципиальным нарушением ленинского кооперативного плана, повлекшим за собой все другие нарушения и искажения. <…> Со времени коллективизации колхозы были поставлены по отношению к государству в такое положение, которое резко ограничивало их самостоятельность и инициативу, а тем самым и хозяйственный рост. <…> Конечным результатом всего этого явилось бегство крестьян от земли, запустение деревень. <…> Попытки решать проблемы колхозно-совхозного производства с позиций “крупнопромышленного” догматизма предпринимались и в 60-х, и 70-х гг. вплоть до самого последнего времени. Уяснение порочности таких попыток, прежде всего несостоятельности беспредельного “укрупнения” производства, стало одной из важнейших предпосылок перестройки в сельском хозяйстве» [Коллективизация: истоки, сущность, последствия, 1989. С. 16–17]. Альтернативами сталинской коллективизации, по мнению В. П. Данилова, являлись программы Н. И. Бухарина и А. В. Чаянова.
Подобные взгляды разделяли и многие публицисты. Их критика созданной И. В. Сталиным колхозно-совхозной системы была более прямолинейной и жесткой. Именно литераторы, писавшие на деревенские темы, назвали ее «агрогулагом», выступали за расширение ЛПХ селян и в целом формировали в массовом сознании представление о целесообразности фермериза-ции сельского хозяйства через роспуск колхозов и совхозов.
Наиболее последовательно эти идеи продвигал Ю. Д. Черниченко. По его мнению, долгосрочная цель коллективизации – создание государственных хозяйств и превращение крестьян в их наемных рабочих – являлась, по меньшей мере, эфемерной установкой. Собственность колхозов и совхозов, появившаяся в результате насильственного обобществления имущества крестьян, никогда не была и не станет эффективной, так как будет бесконечно разворовываться работниками сельхозпредприятий, всегда желавшими увеличить личную собственность. Значительные силы предприятия расходуют на борьбу с хищениями: создают заборы, решетки, стены, канавы и пр., различные административные механизмы надзора за кадрами, пытаются сделать хищения управляемым процессом. Все это роднит колхозно-совхозную систему с тюремным хозяйством [Черниченко, 1997. С. 15–28].
Не менее категоричны высказывания публициста-«деревенщика» А. А. Базарова. В книге «Хроники колхозного рабства», объединившей его работы, написанные в 1986–2004 гг., говорится: «Только с дальнего подхода колхоз кажется системой прямой эксплуатации деревенщины. Формой устойчивого рабовладельческого хозяйства, весьма эффективной для оголтелой государственной власти и варварски расточительной с точки зрения ресурсов национального развития. Возможно, что так он и задумывался, но получился много хитрее. На протяжении четверти века сталинский колхоз ни в одной отрасли сельского производства не мог существовать без демонстративно презираемого большевизмом индивидуального крестьянского хозяйства. Анализ взаимосвязи двух хозяйственных антиподов показывает, что оскорбительным нищенством мы обязаны исключительно колхозу, а фактом экономического и национального выживания – самостоятельным усилиям сельского населения России» [2004. С. 765]. Правда, А. А. Базаров говорил здесь только о колхозах периода правления И. В. Сталина. Но в нисхождении к колхозно-совхозной системе постсталинской эпохи его вряд ли можно заподозрить.
Однако немалая часть ученых полагала, что в постсталинский период колхозно-совхозная система лишилась наиболее одиозных черт и была способна к дальнейшей трансформации посредством развития кооперативно-хозрасчетных отношений. Этой точки зрения придерживался, например, Н. Я. Гущин, считавший внедрение в колхозы и совхозы арендного подряда ключом к решению многих хозяйственных проблем [Крестьянство и сельское хозяйство Сибири, 1991. С. 31]. Не разделял он и тезис о том, что у сталинской коллективизации не было объективных оснований. На упомянутом выше «круглом столе» он, дискутируя с В. П. Даниловым, сказал: «Субъективные факторы, и главный из них – отрицательные личные качества Сталина, конечно, сыграли свою негативную роль. Но объяснять причины отхода от ленинских принципов развития социализма только этим нельзя. Прав Д. А. Волкогонов, который выделяет комплекс причин – политическую, историческую, гносеологическую, международную» [Коллективизация: истоки, сущность, последствия, 1989. С. 25].
В защиту колхозов и совхозов на этом мероприятии выступил и И. Е. Зеленин. В ответ Ю. Д. Черниченко, заявившему о том, что победа в Великой Отечественной войне была одержана не благодаря колхозам, а вопреки им, И. Е. Зеленин сказал: «Резко негативная оценка Ю. Черниченко результатов производственной деятельности колхозов на всем протяжении их развития, и в частности в период Великой Отечественной войны, базируется, как мне представляется, главным образом на эмоциях при явном игнорировании реальных фактических данных. <…> Решительно не могу согласиться с подобными нигилистическими оценками колхозов <…>, широко распространившимися в последнее время в советской публицистике и художественной литературе. Все дело в том, чтобы вернуть колхозам их изначальную сущность как одной из форм ленинской кооперации, причем не на словах, а на деле, и чем скорее, тем лучше» [Там же. С. 53].
Таким образом, на советском этапе объективная научная картина развития колхозно-совхозной системы так и не была создана, поскольку исследователи пребывали в плену доктринальных представлений. Хотя полного единомыслия среди ученых никогда не было. В работах экономистов 1960–1980-х гг. высоко оценивалась «десталинизация» колхозной системы середины 1950-х гг. и обосновывалась необходимость использования в ней рыночных механизмов. Историки в своих фундаментальных трудах по теме, вышедших во второй половине 1980-х гг., дали аграрной «десталинизации» Н. С. Хрущева осторожную оценку и отдавали дань сталинской стратегии колхозного строительства. Негативную роль сыграл и дефицит информации по ключевым историческим проблемам. Тем не менее труды советских авторов – важное подспорье для современных исследователей.
Список литературы Колхозно-совхозная система СССР 1946-1964 годов в научной и публицистической литературе советской эпохи
- Базаров А. А. Хроники колхозного рабства. М.: Возвращение, 2004. 814 с.
- Беликова Л. П. Колхозное производство в Западной Сибири в 50-е годы // Развитие сельскохозяйственного производства в Сибири в условиях социализма. 1938-1980 гг.: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1983. С. 64-75.
- Богденко М. Л., Зеленин И. Е. Совхозы СССР: краткий исторический очерк. М.: Политиздат, 1976. 279 с.
- Венжер В. Г. Социально-экономические перспективы развития колхозного строя. М.: Наука, 1979. 286 с.
- Волков И. М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946-1950 гг. М.: Мысль, 1972. 293 с.
- Вылцан М. А. Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя (1945-1958 гг.). М.: Мысль, 1976. 263 с.
- Заславская Т. И. Распределение по труду в колхозах, М.: Экономика, 1966. 342 с.
- Заславская Т. И. Современная экономика колхозов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 115 с.
- Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство. М.: Ин-т российской истории РАН, 2001. 305 с.
- Историография крестьянства советской Сибири. Новосибирск: Наука, 1976. 478 с.
- История советского крестьянства. 1945 - конец 1950-х гг. М.: Наука, 1988. Т. 4: Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества. 499 с.
- История социалистической экономики СССР. М.: Наука, 1980. Т. 6: Восстановление народного хозяйства СССР. Создание экономики развитого социализма. 1946 - начало 1960-х годов. 589 с.
- Казанцев А. В. Реорганизация МТС и формирование механизаторских кадров в колхозах Алтая (1958-1965 гг.) // Проблемы истории советской сибирской деревни: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1977. С. 204-216.
- Коллективизация: истоки, сущность, последствия. Беседа за «круглым столом» // История СССР. 1989. № 3. С. 3-62.
- Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960-1980-е гг. Новосибирск: Наука, 1991. 496 с.
- Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск: Наука, 1985. 400 с.
- Могильницкая К. И. Экономическое стимулирование колхозного производства Западной Сибири через заготовительные цены (1958-1965 гг.) // Проблемы истории советской сибирской деревни: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1977. С. 217-234.
- Погорелов Н. С. Совхозы на пути к коммунизму (Роль совхозов в развитии производительных сил и совершенствовании социалистических производственных отношений в сельском хозяйстве). Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1964. 272 с.
- Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 года. Стенограф. отчет. М.: Госполитиздат, 1962. Т. 2. 1723 с.
- Русаков Р. С. Укрепление колхозов Западной Сибири кадрами специалистов (1953-1957 гг.) // Изв. СО АН СССР. 1965. № 9. Серия общественных наук. Вып. 3. С. 64-69.
- Советская деревня в первые послевоенные годы: 1946-1950. М.: Наука, 1978. 512 с.
- Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Изд-во «Концептуал», 2011. 156 с.
- Тонаевская Н. С. Рабочие совхозов Западной Сибири. 1959-1965 гг. Новосибирск: Наука, 1978. 189 с.
- Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. М.: Мысль, 1974. Т. 2: Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана. 622 с.
- Трегубов И. Н. Колхозное производство и его экономическая эффективность (по материалам колхозов Восточной Сибири). Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966. 186 с.
- Тюрина А. П. К вопросу о преобразовании колхозов в совхозы // История СССР. 1983. № 5. С. 3-21.
- Черниченко Ю. Д. Дело было в России. М.: Изд-во «Московский рабочий», 1997. 368 с.