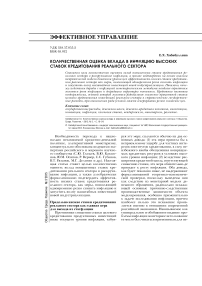Количественная оценка вклада в инфляцию высоких ставок кредитования реального сектора
Автор: Хабибуллина Елена Хамзаевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Эффективное управление
Статья в выпуске: 3 (36), 2015 года.
Бесплатный доступ
Ставится цель количественно оценить вклад повышенных ставок кредитования реального сектора в раскручивание инфляции, а также подтвердить на основе анализа теоретической модели динамики уровня цен эффективность низких ставок кредитования реального сектора как меры, позволяющей одновременно резко снизить инфляцию и запустить волну масштабных инвестиций новой индустриализации. Показано, почему следствием борьбы с инфляцией монетаристскими методами наиболее вероятным является рост инфляции и деградация структуры экономики. Кредитная политика неодирижизма, основой которой является радикальное снижение процентной ставки целевого кредитования инвестиций реального сектора и стратегические государственные расходы, при выполнении ряда условий может генерировать резкое снижение цен.
Государственные расходы, денежная масса, денежно-кредитная политика, инвестиции, инновации, инфляция, ключевая ставка, неодирижизм, монетаризм, развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/140225658
IDR: 140225658 | УДК: 338.57.055.2
Текст научной статьи Количественная оценка вклада в инфляцию высоких ставок кредитования реального сектора
Хабибуллина Е.Х. Количественная оценка вклада в инфляцию высоких ставок кредитования реального сектора // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 3. – С. 16–24.
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015
Необходимость перехода к национально независимой кредитно-денежной политике, альтернативной монетаризму, концептуально обоснована ведущими экспертами российского и мирового научного сообщества (С.Ю. Глазьев, В.Ю. Катасонов, Ю.М. Осипов, Р. Вернер, С.С. Губанов, В.Т. Рязанов, М.Г. Делягин и др.). Настоящая статья ставит целью количественно оценить вклад повышенных ставок кредитования реального сектора в раскручивание инфляции, а также алгебраически формализованно подтвердить эффективность низких ставок кредитования реального сектора, как меры, позволяющей одновременно резко снизить инфляцию и запустить волну масштабных инвестиций новой индустриализации.
Предельно низкие ставки кредитования реального сектора как главная мера для выхода из стагфляции
Противники снижения ставки целевого кредитования продуктивных инвестиций ниже текущего уровня инфляции, табуи- руя эту меру, ссылаются обычно на два основных довода: (1) эта мера привела бы к неприемлемому ущербу для частных интересов институтов кредитования, в силу неизбежного якобы обесценения возвращаемых кредитных ресурсов в условиях высокого уровня инфляции; (2) вследствие расширения кредитной массы, сопутствующей снижению ставки, эта мера обязательно-де приведет к росту инфляции. Оба довода, как будет показано ниже, не выдерживают формализованной теоретико-математической проверки, поскольку выведены они как следствие из монетарной модели денежного обращения, радикально искажающей основные причинно-следственные производственные зависимости объекта моделирования, особенно применительно к задаче исследования инфляции, причем наиболее сильно это искажение проявляется именно в отношении современной российской экономики. Навязываемое как универсальное и обобщенное видение проблемы инфляции монетарное истолкование ее могло бы считаться применимым для не- ких частных случаев хозяйственных систем лишь с позиций рассмотрения национального хозяйства как механической суммы индивидуальных хозяйственных институтов, как суммы не связанных «атомов», то есть с точки зрения, в которой частные интересы отдельных элементов системы рассматриваются как приоритет по сравнению с общенациональными интересами, а само понятие общенациональных экономических интересов де-факто полностью игнорируется. Этот подход характерен для либерально-индивидуалистической, универсалистской по форме, а по сути узконаправленной проатлантистской, философии хозяйства. Напротив, с позиций интересов национального хозяйственного организма как целого, с точки зрения философии хозяйства русского неодирижизма, альтернативы англо-американскому экономическому либерализму, с позиций теории, признающей приоритет интересов целостной коллективной жизнеспособности хозяйственного организма, признающей фундаментальное значение цивилизационного противостояния атлантизма и континента-лизма и воздействие на экономику как основного геополитического противоречия, исходя из интересов континентальной хартленда, России, вполне допустим и обоснован принцип частичного ущерба для отдельных звеньев и институтов хозяйственной системы в интересах целого, в интересах долгосрочного благосостояния всех слоев народа и благоденствия совокупности укладов смешанной российской экономики. С позиций русского неодирижизма как инновационно-рыночной альтернативы экономическому либерализму, для которой общенациональное целеполагание и плановое начало является ведущим, а рыночное начало – вспомогательным [3, с. 9–13; 5, с. 196–208], абсолютизация принципа индивидуальной рациональности в ущерб интересам системы как целого, представляет собой очередной пример попытки заталкивания оппонентов в «ловушку ложной тривиальности».
Заблуждения сторонников монетаризма, на наш взгляд, коренятся прежде всего в двух плоскостях. Во-первых, с точки зрения несводимости интересов сложной системы к механической сумме интересов составляющих ее частей, когда жизнеспособность и прорывные достижения для целого в ряде ключевых ситуаций могут достигаться за счет определенного ущемления интересов отдельных звеньев системы (ниже этот довод рассматривается подробнее применительно к анализу допущения 4 монетаристской модели). Во-вторых, даже, если исходить из приоритета частных интересов, то есть, в нашем случае, из интересов банковских институтов, неизбежность потерь от обесценения на момент возврата кредитов в условиях наличия инфляции на момент их выдачи, на самом деле монетаристами никогда не была строго теоретически доказана. Вместе с тем, поскольку практика новейшей экономической истории показывает, что в большинстве развитых и динамично развивающихся стран, общим числом около сорока, предельно низкие ставки кредитования реального сектора неизменно сопровождаются предельно низкой же инфляцией, вполне допустимо предположить, и эта гипотеза обосновывается в настоящей статье, что при определенных условиях резкое снижение ставок целевого кредитования может с такой силой способствовать запуску дефляционных процессов, что на момент возврата кредитных ресурсов может иметь место резкое снижение инфляции, и, следовательно, обесценения возвращаемых кредитов может и не произойти, причем это возможно, несмотря на противодействующие тенденции, обусловленные действиями активных макроединиц (особенно иностранного происхождения) на оли-гополизированных российских рынках. Вопрос здесь состоит лишь в обеспечении необходимых условий, обеспечивающих достаточную силу процессов и достаточную скорость сокращения сроков гашения инфляции с тем, чтобы обеспечить полное отсутствие обесценения возвращаемых кредитных ресурсов на конец заданного периода. Стратегии прицельного сокращения сроков снижения инфляции и создания масштабных дефляционных эффектов одновременно с введением предельно низких ставок кредитования реального сектора, вследствие критически значимого удешевления стоимости кредитных ресурсов, в настоящее время теоретически мало исследованы, хотя на практике уже целый ряд стран успешно применяет их.
Обоснование эффективности предельно низких ставок «продуктивного кредитования» (понятие введено Р. Вернером [1]) в целях снижения инфляции, с нашей точки зрения, тормозится институционально господствующим ныне индивидуалистическим, атомистическим, нецелостным преданалитическим видением национальной системы хозяйства, зацикленностью на принципе индивидуальной банковской рациональности расходования финансовых ресурсов, подходом, характерным для
Общество
экономического либерализма, справедливо названным «интеллектуальным оружием» атлантизма (Ф. Перу) [6]), призванным максимально затруднить понимание фундаментальных взаимосвязей современного глобально-сетевого государственно-мо- нополистического капитализма и затормозить экономическое развитие континентальных конкурентов атлантизма. Подход сторонников либерально-атлантистского направления в кредитно-денежной теории намеренно игнорирует фундаментальный факт: финансовые ресурсы, переданные по совету геополитических противников России в оперативное распоряжение центральному банка, являются интегральным результатом коллективного труда многих поколений страны, и, следовательно, при использовании этого интегрального результата обосновано именно общенационально ориентированное, а не исходящее из частных интересов банковского сектора, целеполагание в стратегии их использования, обоснованы меры создания системных дефляционных эффектов, запускающих силой фактора дешевизны продуктивного кредитования, одновременно, (1) ускоренное снижение цен, и (2) волну инвестиций новой индустриализации, при возможном временном ущемление частных интересов финансовых институтов.
Обоснование практических мер для снижения инфляции с позиций монетаризма базировано на безответственном нарушении правила проверки допустимости переноса выводов модели на практику, правила обязательного включения фильтра, особенно важного с точки зрения: (1) наличия существенных искажений в модели основных производственных зависимостей объекта моделирования – с позиций достижения конкретной цели и решаемой задачи (в данном случае – исследования факторов снижения инфляции); (2) цены потенциальной ошибки в обосновании
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015
выводов, потенциально ведущих вместо снижения инфляции к ее убийственному для экономики повышению, закреплению высокого уровня инфляции, сокращению инвестиций, закрытию предприятий, бедствиям для большей части народа, усилению выкачивания квалифицированных специалистов за границу, деградации и опустошению национальной экономики, в пределе – к полной утрате экономического и политического суверенитета страны. Проверка допустимости переноса выводов монетарной модели на реальность фиксирует наличие в этой модели критически значимой массы искажений объекта модели- рования, искажений, затрагивающих фундаментально важные с точки зрения обозначенной цели исследования инфляции, аспекты. Базовые допущения монетарной модели в силу системных искажений моделируемой хозяйственной реальности, ведут к тому, что взаимозависимости в модели работают принципиально не так, как в жизни, а с системным, критически значимым, уровнем деформации объекта моделирования.
Рассмотрим подробнее, почему, с нашей точки зрения, уровень «упрощений» в монетарной модели переходит допустимый порог именно применительно к задаче исследования факторов инфляции, а также, каким образом следует скорректировать отражаемые в модели хозяйственные зависимости, для того, чтобы наиболее существенные характеристики современного российского капитализма не были потеряны для анализа и были правильно в ней отображены.
Монетарная модель опирается на известное уравнение связи цен и количества денег в обращении, открытое Марксом, в формулировке Фишера-Фридмана:
MV = Pt (0а), где Р – уровень цен, М – параметр массы денег в обращении (параметр прямого регулирования, в том числе, через размер ставки кредитования и объем денежных доходов населения) , Т – объем товарной массы , получаемый при заданном объеме денежной массы (при конкретном состоянии факторов производства, заданном неявно), V – параметр скорости обращения денег, принимаемый в целях упрощения дальнейшего анализа за константу.
Исходное уравнение (0а) имеет слишком высокий уровень абстракции для целей анализа инфляции из-за нескольких фундаментальных упрощений объекта моделирования, неявно заданных в нем. Требуется дополнить модель, отобразив в ней основные факторы, имеющие критическое значение в целях решения обозначенной задачи. В числе таких существенных факторов: (1) влияние изменения объема денежной массы, использованной на кредитование реального сектора и потребительского спроса, на изменение объема товарного выпуска, (2) фундаментальные особенности современного государственно-монополистического капитализма – высокая степень монополизации рынков, феномен доминирования атлан-тистского частного дирижизма над российским национально-государственным дирижизмом, впервые теоретически зафиксированный Ю.М. Осиповым, (3) своеобразие российской хозяйственной системы (отсутствие существенных ограничений по природным и трудовым ресурсам, низкая загруженность производственных мощностей; открытость экономики и т.п.), (4) особенности современного этапа основного геополитического противоречия, острой фазы противостояния по оси атлантизм – континентализм – в плоскости экономической реальности.
Вначале преобразуем уравнение (0а) в простейшую трехфакторную модель зависимости цены от денежной массы, скорости обращения денег и объема товарной массы:
Р = МV / Т (0б),
При принятии параметра V за константу (для упрощения, не влияющего качественным образом на дальнейший анализ основной тенденции динамики инфляции), модель (0б) сводится к двухфакторной модели уровня цен для периода t :
Рt = Мt V / Тt (1), где Рt – уровень цен для исходного периода t , Мt – масса денег в обращении в периоде t , Тt – объем товарной массы, производимой в периоде t , V – параметр скорости обращения денег.
В обосновании монетаристских методов воздействия на инфляцию путем сокращения денежной массы в том числе, за счет повышения процентной ставки и сокращения спроса при урезании доходов населения, фундаментальное значение имеет ключевое для монетарной модели допущение 1 , обычно устраняемое из-под пристального анализа: при сжатии денежной массы объем товарной массы остается неизменным , т.е. предполагается, что при уменьшении денежной массы Мt+1 в период t+1 по сравнению с периодом t , когда она была равна Мt , товарная масса Тt+1, произведенная в период t+1 , сохраняется неизменной, равной выпуску Тt в период t :
если М t+1< М t , то
Т t+1 = Т t для всех Мt+1, М t .
На первом шаге анализа, когда мы не ставим еще задачи анализа факторов инфляции, допущение 1, в какой-то мере, можно было бы считать приемлемым. На этом шаге все параметры модели, кроме объема денежной массы, можно условно считать неизменными. В этом случае, действительно, можно было бы констатировать, что при прочих равных условиях уровень цен, вычисляемый в соответствии с уравнением (1), прямо пропорционально зависит от размера денежной массы. В то же время, заблуждение, ошибка, или же интеллектуальный подлог монетарной теории коренится в том, что для целей решения задачи снижения инфляции ничем не обоснована остановка на этом первом шаге – на полпути, поскольку в реальности прочие параметры практически никогда не остаются неизменными при изменении параметра денежной массы. Допущение 1 вовсе не является безусловной аксиомой, а, скорее, должно стать монетаристской теоремой, справедливость которой требовалось бы доказать. Вместе с тем, допущение 1 является крайне существенным для рассматриваемой модели, поскольку ее практические выводы кардинально зависят именно от его принятия за безусловную истину: ведь сокращение числителя, денежной массы, М t+1 по сравнению с М t, в соответствием с уравнением (1), тогда и только тогда ведет к уменьшению уровня цен Р t+1, когда знаменатель Т t+1 не уменьшается по сравнению с предыдущим значением Т t,в ситуации уменьшения денежной массы М t+1. В противном случае, то есть в сценариях, когда уменьшение числителя сопровождается более или менее сильным снижением также и знаменателя, вывод монетарной модели, очевидно, оказывается ложным. Напротив, при росте числителя, то есть росте денежной массы, сопровождаемом более быстрым ростом знаменателя, то есть при мультипликации товарного выпуска по сравнению с затраченными на нужды реального сектора кредитными ресурсами, что является достаточно универсальной закономерностью, достигается искомый результат снижения уровня цен как частного от деления числителя на знаменатель, что полностью противоречит монетарным практическим рекомендациям. Рассматривая этот пункт подробнее, можно детально показать, что монетарная «теорема» о справедливости допущения 1 опровергается эмпирически наблюдаемой и давно зафиксированной и объясненной теоретически зависимостью объемов товарного выпуска, во-первых, от величины кредитной денежной массы, используемой для инвестиций реального сектора, производящего выпуск товаров, и, во-вторых, от объема потребительского и инвестиционного спроса. Поэтому в рамках решения задачи анализа факторов инфляции в координатах модели уровня цен, заданной уравнением (1), допущение 1 является ложным. Его включение в модель критически значимо деформирует реальные связи товарного выпуска и денежной массы. Монетаризм абстрагируется в дан-
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015
ном случае от основной и универсальной производственной зависимости.
В реальной действительности изменение объема денежной массы, использованной на кредитование инвестиций реального сектора, играет как раз решающую роль для изменения объемов товарного выпуска, при этом кардинальное значение имеет отнюдь не общее изменение объема денежной массы, как это постулировано в монетарных схемах, а изменение к лучшему или к худшему качественного состава денежной массы, рост или снижение относительной доли кредитования реального сектора по отношению к кредитованию спекулятивно-финансовых операций, а также гармонизированный рост или безответственное псевдонаучное снижение объемов платежеспособного потребительского и инвестиционного спроса, что обусловливает большее или меньшее положительное влияние денежной массы на динамику объемов производства. Объем товарного выпуска и уровень цен в сильнейшей степени зависят, в свою очередь, и от неденежных факторов, важнейшим из которых является степень монополизации рынков и ценовое картелирование. В условиях сильно олигополизированных российских рынков, при применении монетаристской меры сокращения денежной массы, основная масса цен, контролируемая олигополиями, в типичных случаях, как известно, не снижается, действует эффект ниппеля, когда происходит снижение лишь объема товарного предложения без снижения цен. В монетарной модели подобный отклик товарного предложения, типичный для современного этапа монополистического капитализма, произвольно и вполне безответственно игнорируется. Это вторая фундаментальная деформация реальности монетарной моделью в формате неявного допущения 2 : о наличии свободной рыночной конкуренции и отсутствии картельных ценовых сговоров в моделируемой экономической системе.
Допущение 3 состоит в абстрагировании от феноменов доминирования атлантист-ского корпоративно-сетевого, а также государственно-монополистического дирижизма в интересах господствующей страны мира, США, проводящей стратегию масштабного и целенаправленного, явного или скрытного по форме диктатного регулирующего воздействия на экономику нашей страны, в том числе, направленного воздействия на внутренний курс национальной денежной единицы, ценообразование и политику ключевых национальных инс- титутов, как непосредственно через своих агентов «перемен», так и опосредовано, че- рез подконтрольные им международные институты, такие как, МВФ, рейтинговые агентства, СМИ.
Для устранения грубой деформации реальных взаимосвязей, действующих при изменения денежной массы и товарного выпуска в исходной модели (1), при рассмотрении последствий изменения денежной массы, необходимо отразить также и изменение товарного выпуска, ту фундаментальную производственную зависимость , абстрагирование от которой недопустимо искажает отображаемую реальность в модели монетаризма. При изменении величины денежной массы, направляемой на инвестиции реального сектора, равном ∆Мt , зафиксируем соответствующее ей изменение величины выпуска товаров, которое обозначим ∆Тt+1 . Уравнение для определения уровня цен Р t+1 периода t+1 в этом случае примет следующий вид:
Рt+1 = (Мt + ∆Мt) V / (Тt + ∆Тt) (2)
Далее представим увеличение денежной массы ∆Мt как пропорционально увеличенный первоначальный объем денежной массы, то есть ∆Мt = α Мt , где α – коэффициент, обозначающий пропорцию изменения первоначального размера денежной массы; а ∆Тt представим как величину, пропорциональную первоначальному объему выпуска товаров Тt , то есть ∆Тt = λТt , где λ – коэффициент, обозначающий пропорцию изменения первоначального размера выпуска товарной массы. Получим:
Рt+1 = (Мt + α Мt) V / (Тt + λТt) = = Мt V (1+α) / Тt (1+λ)
Поделив обе части уравнения (3) на уровень цен Рt в период t , заданный в уравнении (1), в левой части получим уровень импульса инфляции/дефляции (импульс изменения цен)
INFt+1 = Рt+1 / Рt – для периода t+1, а в правой части после сокращения Мt, V и Тt получаем формулу зависимости импульса инфляции от двух параметров – величин изменения денежной и товарной массы, α и λ :
INFt+1 = Р t+1 / Рt = (1+α) / (1+λ) (4)
Формула (4) показывает зависимость импульса инфляции, во-первых, от пропорции α изменения денежной массы, о котором монетаризм ошибочно говорит как о единственном параметре, генерирующем инфляцию, во-вторых, от параметра λ пропорции изменения товарного выпуска, второго, не менее существенного парамет- ра, который намеренно или нет, но игнорируется монетарным подходом. Формула (4) наглядно в алгебраической форме поясняет суть первого теоретического заблуждения (или интеллектуального подлога) в интерпретации выводов монетарной модели. Вопреки утверждениям ее сторонников, теоретически вполне допустимы сценарии, когда числитель сокращается, но при этом знаменатель сокращается быстрее числителя, сокращение денежной массы приводит к относительно более сильному сокращению товарного выпуска, то есть к усилению импульсов инфляции именно вследствие применения монетаристских методов «борьбы» с инфляцией и, наоборот, при росте числителя, то есть при росте денежной массы, может более быстро расти знаменатель, то есть могут быть целенаправленно созданы условия для опережающего роста объем товарного выпуска, возможно целенаправленное централизованно управляемое, прямыми, или косвенными неодирижистскими методами создание импульсов гашения инфляции, снижения цен, в результате проведения суверенной неодирижистской программы сведения инфляции к нулю, главной мерой которой является предельное снижение ключевой ставки для кредитования реального сектора.
Вывод о возможности разнонаправленного влияния на динамику уровня цен по линии параметра λ , задающего степень изменения товарного выпуска при заданном размере продуктивного кредитования, определяемым по линии параметром α , на содержательном уровне обоснован системной характеристикой современного монополистического капитализма – отсутствием свободного рынка и картелированного ценового диктата монополий на подавляющую часть товарных цен. Параметр λ формируется в результате целенаправленной стратегии монополий в ценообразовании контролируемых ими рынков исходя из интересов максимизации выгоды долгосрочного характера, причем формализовать целевую функцию монополий на российском рынке для разных ситуаций и разных картелей представляется возможным лишь в рамках различных сценариев имитационного моделирования, в силу отсутствия однозначно типичного поведения, принципиально несводимого в рамках нашей задачи к упрощенной цели максимизации дохода.
В общем виде, тем не менее, возможно отразить в модели вторую функциональную зависимость, отражающую фундамен- тальную характеристику современного капиталистического хозяйства, важную для задачи торможения инфляции – зависимость для параметра λ, рассматриваемого не как результирующий, а как поддающийся воздействию со стороны активных агентов экономической системы – макроединиц как иностранного, так и отечественного происхождения, то есть представить параметр λ как функцию от стратегии монополий и государства в области ценообразования:
Λ = F (Sg, Si, Pi, ti) , где i – вид товара, производимого (контролируемого по ценам и объемам предложения на рынке) со стороны соответствующей монополии, Sg – государственная стратегия в ценообразовании, Si – стратегия соответствующей монополии , Pi – цены, устанавливаемые соответствующей монополией, ti – соответствующие объемы предложения товаров.
Воздействие активных макроединиц на геополитическом уровне в нашей модели отразим на двух параметрах: (1) динамике курса национальной валюты, оказывающим решающее воздействие на цены импортных товаров, а также (2) на размере ставок кредитования, устанавливаемых независимо от рекомендаций национальной власти, но в сильнейшей степени зависимых от рекомендаций международных институтов, контролируемых геополитическими противниками страны:
Pj = Q (Sj, r(q), R/$) , где Q – функциональная зависимость воздействия геополитически значимых активных макроединиц, имеющих стратегию Sj , на уровень цен через уровень ставок кредитования r(q), реального, потребительского и спекулятивного потоков кредитования вида q , и через динамику курса национальной валюты R/$ .
Остановимся на неявном допущении 4 либеральной атлантисткой модели, табуирующем возможность рассмотрения принципа допустимых потерь для кредитных институтов. Несостоятельность допущения 4 (исходя из интересов национального хозяйства как целого) следует из возможности существенного выигрыша для национальной экономики в целом при условии некоторых временных потерь части системы (кредитных институтов) . С позиций национально-центричной (отдающей приоритет интересам страны как целого над частными интересами) русской философии хозяйства, атлантистски ориентированное либеральное допущение 4 отнюдь не явля-
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015
ется самоочевидной истиной, поскольку в целях решения приоритетных стратегических задач национального хозяйства как целого, а именно задач финансирования новой индустриализации, допустим принцип возврата кредитов для реального сектора с потерями, равными инфляционному обесценению затрат, однако с высокой вероятностью выигрыш страны в целом перекроет частные потери финансовых институтов . Позитивные эффекты от многократного увеличения товарного выпуска наряду с сопутствующим техническому прогрессу при масштабных новаторских инвестициях резким снижением инфляции будут дополнены также прямыми и косвенными выгодами от многократного роста налоговых поступлений в бюджет, роста ВВП, занятости, доходов, роста народонаселения, укрепления экономического и политического суверенитета страны.
Для иллюстрации возможного порядка цифр, предположим, что увеличение целевых инвестиций реального сектора за счет беспроцентного кредитования составило бы 20% от ВВП, при уровне инфляции 10%, что обеспечило бы финансирование создания сильной и суверенной экономической структуры. Тогда потери кредитных организаций от данного целевого кредитования составили бы 10% от суммы инвестиций, то есть 2% от ВВП. Поскольку эта сумма более, чем на порядок меньше суммы золотовалютных резервов ЦБ (для примера, в 2011 года эта сумма потерь была бы равна 36 млрд долл., а резервы ЦБ – 504 млрд долл.), это подтверждает наличие необходимых ресурсов для покрытия максимально возможных потерь при осуществлении беспроцентного целевого кредитования новой индустриализации. Сравним эти потери с ожидаемыми результатами, при осуществлении предлагаемых мер – приростом ВВП (обозначим его w ) и ростом поступлений в бюджет. При прочих равных, даже при очень осторожной оценке, использующей в расчете минимальную величину среднего агрегированного мультипликатора для России в размере β = 1,7, мы имели бы w = 0,2 * 1,7 = 0,34, то есть ВВП вырос бы на 34% , что позволило бы полностью, почти двукратно компенсировать потери кредитных институтов из дополнительно поступивших в бюджет налогов. (Оценка суммы дополнительных налоговых поступлений, примерно равных 30% от прироста ВВП, то есть 30% от 34% от ВВП, что почти в 6 раз больше предусмотренных потерь от инфляции в размере 2% от ВВП).
Для более детального понимания факторов, от которых зависит соотношение параметров α и λ , определяющих в свою очередь равнодействующую сил гашения или ускорения инфляции, введем в модель функциональные зависимости, конкретно описывающие выпуск товаров как мультипликатор инвестиций, а также выделим в явном виде разнокачественные, с точки зрения влияния на выпуск товаров, потоки в структуре денежной массы S[Mi] . Основные элементы денежной массы М таковы:
М = М1 + М2 + М3 + М4 (0в), где М1 – часть денежной массы, используемая на национальное кредитование инвестиций реального сектора («продуктивное кредитование» по Р. Вернеру); М2 – часть денежной массы, используемая на транзакции, не увеличивающие товарный выпуск (кредитование спекулятивных и финансовых транзакций); М3 – часть денежной массы, используемая на потребление, в частности, денежные доходы населения и потребительские кредиты; М4 – часть денежной массы, поступившая как зарубежное кредитование инвестиций реального сектора.
Используя уравнение (1) и (0в), получим:
P t = M t V / T t = (М 1 + М 2 + М 3 +
+ M 4 ) V / T t = М 1 V /T t + М 2 V /T t + (1б),
+ М3 V / Tt + М4 V /Tt а исходя из (4) и (1б) получим:
INF t+1 = P t+1 / P t = ( МV /T t ) / P t + -n. + ( М 4 V/ T t ) / P t = INF 11+1 + ... + INF 41+1(1в)
Таким образом, общий импульс инфляции представляет собой результат сложения частных импульсов инфляции. Вначале, оценим вклад в суммарный импульс со стороны М1 , первой составляющей общей денежной массы М .
Выпуск товарной массы, индуцированный денежной массой, направленной на целевое кредитование инвестиций реального сектора, представим в виде функций:
T t = F {М 11 , V} = в 1 М 11 * V (5а)
AT t = F {АМ 1 t , V} = в2 АМ 1 1 * V , (56)
где Тt – выпуск товарной массы, ∆Тt – прирост выпуска товарной массы, F {М1 t, V} – функция зависимости между объемом денежной массы, направленной на кредитование инвестиций, и выпуском товарной массы, обусловленным продуктивным каналом использования денежных средств в размере М1 t, и от скорости обращения де- нег V, а β1 и β2 – мультипликаторы инвестиций в году t в размерах, соответственно, М1 t и ∆ М1 t.
Рt+1 = (М1 t + ∆М1 t) V / (Т t + ∆Т t) (6)
– уравнение для определения уровня цен Р t+1 периода t+1, где прирост денежной массы, отпущенной через канал продуктивного целевого кредитования на дополнительные инвестиции равен величине ∆М1 t , а соответствующее увеличение выпуска товаров равно величине ∆Т t ; V – скорость обращения денег.
Р t+1 = (М1t + α М1t) / (β1 М1t +α β2 М1t) (7)
– уравнение, полученное из уравнения (6), при подстановке вместо величины ∆М1t , равной ей величины, представленной как пропорционально увеличенный первоначальный объем денежной массы: ∆М1 t = α М1 t , где α – параметр, обозначающий пропорцию изменения первоначального размера денежной массы; при этом значения слагаемых величин товарной массы (Тt + ∆Тt) в периоде t+1 равны: Тt = β1 М1 t V на основании уравнения (5а), описывающего связь выпуска с мультипликатором инвестиций для периода t , и ∆Тt = α β2 М1 t V, на основании уравнения (5б), где β1, β2 – мультипликаторы объема инвестиций для периодов t и t+1 , соответствующих размерам денежной массы М1t и α М1t , после сокращения параметра V .
Поделив обе части уравнения на уровень цен Рt в периоде t, в левой части получим уровень импульса изменения цен INFt+1 =Р t+1 / Рt – для периода t+1 , а в правой части, подставив, исходя из уравнений (1) и (5а) значение Рt = М 1 t V / β1 М 1 t V = 1/ β1 , после сокращения М t+1 получаем:
INFt+1 = Р t+1 /Р t = β1 (1+ α) /(β1+ α β2) (8)
– уравнение для импульса инфляции/ дефляции первого порядка (исходящего от стратегически важной части денежной массы М1 , генератора продуктивных инвестиций в реальном секторе), иначе говоря, уравнение динамической зависимости импульса изменения уровня цен от размера агрегированных мультипликаторов β1 , β2 и параметра α – доли изменения денежной массы М 1 t , израсходованной на инвестиции, для периода t+1 , при прочих равных.
Область стабильных или уменьшающихся цен описывается неравенством, в котором правая часть уравнения (8) меньше или равна 1:
β1 (1 + α) / (β1+ α β2) ≤ 1 . (9)
Оно выполняется при следующих условиях:
-
1. При α > 0, иначе говоря, при увеличении денежной массы , учитывая, что β1 , β2 > 0 , для параметров мультипликаторов инвестиций в последующих периодах должно выполняться соотношение β2 ≥ β1 .
-
2. При -1 < α < 0, то есть в случае сжатия денежной массы, учитывая, что β1 , β2 > 0 , условие стабильности цен выполняется при противоположном соотношении:
β 1 ≥ β 2 .
Вывод : анализ динамики уровня цен по рассмотренной модели, подтверждает теоретическую возможность и условия сохранения стабильных цен , а также возможность и условия создания импульсов гашения инфляции при увеличении части денежной массы М1 , использованной на целевые продуктивные инвестиции в реальном секторе, что осуществимо при условии снижении ставки процента по целевым продуктивным кредитам для реального сектора ниже уровня рентабельности, и, напротив, определяет возможность и условия возникновения запускающих инфляцию импульсов при сжатии части денежной массы, использованной на целевые продуктивные инвестиции реального сектора как следствие увеличении процентной ставки , в предположении, что остальные слагаемые уравнения (1в) неизменны . Это доказывает теоретическую ошибочность монетаристских методов борьбы с инфляцией путем сокращения денежной массы, использованной на инвестиции, и повышения процентной ставки для инвестиций в реальном секторе, поскольку эти меры могут выступить в качестве бомбы замедленного действия, вести к противоположным результатам – усилению инфляции и масштабной стагфляции, системному спаду инвестиций, к дальнейшей деградации и без того подорванной высокой ставкой кредитования и отсутствием национальной стратегии динамического развития экономической структуры.
Проиллюстрируем полученный выше вывод о теоретической возможности целенаправленного торможения инфляции при увеличении денежной массы, использованной на кредитование реального сектора, на условном примере. При увеличении объемов кредитования на покупку семян в период посевной уже через короткое время, всего лишь через несколько месяцев, стоимостной прирост товарной массы (собранного урожая) может многократно превысить объем увеличения кредитной денежной массы, потраченной на семена (предположим, урожай сам-трид-цать). При прочих равных, приняв, что
Общество
остальные расходы сельскохозяйственных предприятий финансируются из собственных средств, знаменатель формулы (4): INFt+1 = Рt+1 / Рt = (1 + α) / (1 + λ) – будет расти в этом случае быстрее числителя, создавая импульс снижения цен. Пусть увеличение денежной массы, использованной на кредитование посевной, и составило бы одну сотую от всей денежной массы, то есть α = 0,01, и другого увеличения денежной массы не было, урожайность посеянных семян при этом составила сам-тридцать, значит, мультипликатор кредитных инвестиций в посевную, обозначим его βi, равен тридцати: βi = 30, при этом средний агрегированный мультипликатор в стране обозначим β, при эмпирически известном для России среднем агрегированном мультипликаторе β = 3, в результате инвестиций в посевную, при предположении достаточности всех остальных факторов сельскохозяйственного производства, коэффициент увеличения общей товарной массы можно рассчитать исходя из формулы для определения параметра λ. А именно, λ = βi α / β, (данная формула получена путем подстановок значений параметров товарной массы Т и денежной массы М после преобразований в исходную формулу: λ Т = ∆Тt, с учетом того, что товарный выпуск можно представить как произведение агрегированного мультипликатора кредитования инвестиций на объем данного вида кредитования М, то есть Т = βМ, отсюда М = Т/ β, а ∆Тt = βi ∆М.
Поскольку λ Т = ∆Тt и βi ∆М = βi αМ , то λ Т = βi α Т / β.
Отсюда λ = βi α / β . λ = 30 * 0,01 / 3 = 0,1.
Список литературы Количественная оценка вклада в инфляцию высоких ставок кредитования реального сектора
- Вернер Р. Доклад на форуме Института экономики РАН, 2015. -Интернет-ресрус. режим доступа: http://youtu.be/_9rxVUkaBqc.
- Глазьев С. О практичности количественной теории денег, или сколько стоит догматизм денежных властей//Вопросы экономики. -2008, № 7. -С. 30-45.
- Осипов Ю.М. Неодирижизм плюс неолиберализм равняется экономика современной России//Философия хозяйства. -2012, № 2. -С. 9-13.
- Суворов П.А. Метод затраты-выпуск как инструмент оценки макроэкономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов/Автореф.. канд. экон. наук. -М., 2014. -26 с.
- Хабибуллина Е.Х. Геостратегический аспект во взглядах Ф. Перру на международную экономическую интеграцию//Евразийская интеграция: геостратегический аспект. -Москва -Ростов-на-Дону, 2014. -С. 196-208.
- Хабибуллина Е.Х. Учение о национально-государственном дирижизме Ф. Перру и его российское приложение//Экономическая теория в ХХI веке: российский антикризис и экономическая наука. -Москва-Тамбов, 2015. -С. 196-208.