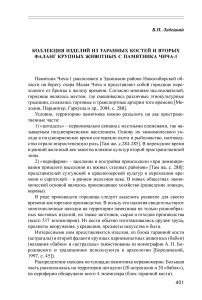Коллекция изделий из таранных костей и вторых фаланг крупных животных с памятника Чича-1
Автор: Лабецкий В.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521227
IDR: 14521227
Текст статьи Коллекция изделий из таранных костей и вторых фаланг крупных животных с памятника Чича-1
Памятник Чича-1 расположен в Здвинском районе Новосибирской области на берегу озера Малая Чича и представляет собой городище переходного от бронзы к железу времени. Согласно мнениям исследователей, городище являлось местом, где смешивались различные этнокультурные традиции, сходились торговые и транспортные артерии того времени [Мо-лодин, Парцингер, Гаркуша и др., 2004, c. 288].
Условно, территорию памятника можно разделить на две пространственные части:
-
1) «цитадель» – первоначально связана с местными племенами, так называемым позднеирменским населением. Основу их экономического уклада в позднеирменское время составляли охота и рыболовство, скотоводство играло второстепенную роль [Там же, с.284-285]. В переходное время и ранний железный век заметно влияние культур второй пространственной зоны.
-
2) «периферия» – заселение и постройка происходили «при доминировании пришлого населения из южных степных районов» [Там же, с. 288]: представителей сузгунской и красноозерской культур в переходном времени и саргатской – в раннем железном веке. В новых обществах экономической основой являлось производящее хозяйство (разведение лошади, коровы).
В ряде производств городища следует выделить развитое для своего времени косторезное производство. В пользу его наличия свидетельствуют многочисленные находки на территории памятника не только разнообразных костяных изделий, но также заготовок, сырья и отходов производства (всего 537 экземпляров). Из кости обычно изготавливались орудия труда, предметы вооружения, украшения, предметы искусства и быта.
Интересными нам представляются изделия, из блока таранной кости (астрагалы) и второй фаланги крупных парнокопытных животных (бабки) (названия «бабки» и «астрагалы» заимствованы из монографии А. П. Бо-родовского и традиционно используются в археологии [Бородовский, 1997, с. 45]).
Распределение находок по площади памятника неравномерно. Большая часть располагалась на территории цитадели (20 астрагалов и 20 «бабок»), на периферии обнаружено всего 4 экземпляра (блок таранной кости).
По нашему мнению такая концентрация артефактов связана с тем, что, во-первых, постройки «цитадели» сосуществовали с «периферией» (т. е. являются наиболее древними на памятнике) и во-вторых, цитадель скорее всего выступала в качестве экономического центра.
Отсюда следует, что цитадель включает в себя строения и объекты, относящиеся ко всему возможному хронологическому спектру памятника. В связи с этим нам представляется интересным идентифицировать принадлежность указанных находок к указанным этапам существования городища на основе их стратиграфического положения или связи с датированными объектами (разумеется, данная идентификация весьма приблизительна). Соответствующие статистические данные указаны в таблицах I, II (знаком «?» обозначены объекты, датировка которых вызывает затруднения, предметы коллекции дифференцируются в соответствии со следами обработки).
На основании данных, приведенных в таблицах можно утверждать, что изделия из блока таранной кости использовались на протяжении всего существования городища и были достаточно широко распространены; изделия из второй фаланги лошади также часто встречаются на памятнике, однако появляются несколько позднее, вместе с пришлым населением (у которого производящее хозяйство преобладало).
Подобные изделья отмечены среди предметов быта в различных культурах. Так в Барабе, находки астрагалов зафиксированы на памятниках ирмен-
Таблица I. Хронология изделий из блока таранной кости по археологическим культурам, присутствующим на памятнике.
|
Цитадель |
Периферия (?) |
|||
|
Блок таранной |
Позднеирмен- |
Позднеирменская |
Саргатская |
|
|
кости (всего 24 экземпляра) орнаментированный фрагмент |
ская культура |
культура + иные культурные компоненты |
1 (18 раскоп) |
|
|
астрагал со сквозным отверстием |
2 (6 раскоп) |
5 (1, 13, 17 раскоп) |
2 (10 раскоп, пашня \ 1 раскоп, слой 2) |
|
|
астрагал, заглажен (сточен) с одной стороны |
1 (6 раскоп) |
3 (8,13, 7 раскоп) |
||
|
заглажен (сточен) с двух сторон заглажен со всех сторон (обкатан) необработанный фрагмент необработан |
1 (16 раскоп) 1 (16 раскоп) |
2(8,17 раскоп) |
1 (11 раскоп) |
1 (18 раскоп) |
Таблица II. Хронология изделий из второй фаланги лошади, по археологическим культурам, присутствующим на памятнике.
Вторая фаланга лошади встречается реже (по крайней мере, в нерас-члененном виде) и зачастую причисляется к игральным принадлежностям [Молодин, Парцингер, Гаркуша, и др., 2001, с. 91]. Скорее всего, подобное мнение сформировалось по аналогии с астрагалами, интерпретируемыми, по большей части как «игральные кости». Данная интерпретация, на наш взгляд, правдоподобна и обоснована.
На памятнике Чича-1 зафиксированы все отмеченные исследователями следы на астрагалах. Подобное разнообразие укладывается в концепцию «игры в бабки», описанную Б. Г. Петерсом: подточенные грани требовались «для более надежного их примыкания при падении на обработанную поверхность», раскраска и орнамент, использовались для обозначения «цены» альчика или его стороны [Петерс, 1986, с.81]. Просверленные отверстия предназначались либо для утяжеления (вплавление металла – практикуется и в современности [Кислов, Кудряшов, 2005]), либо для нанизывания на веревку (наряду с возможными способами ношения – в мешочках и сетках) [Петерс, 1986, с. 82, 83].
Другие точки зрения на функциональную сторону астрагалов не исключают вышеуказанных. Некоторые авторы «считают подобные кости амулетами, культовыми предметами, а изображения на них родоплеменными тамгами» [Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2003, с. 95]. Астрагалы, возможно, использовались при гаданиях [Петерс, 1986, с. 80]. Сакрализацию астрагала также можно связать с игрой, а точнее «мгновенно приходящей возможностью выигрыша», и расценивать его в качестве символа везения или удачи, и далее, «амулетом счастья… оберегом, отвращающим дурной глаз» [Там же, с. 81].
Актуальными, нам представляются результаты трасологических исследований, позволяющие говорить о использовании астрагалов «для доводки поверхности отлитых бронзовых изделий» (выравнивание и затирание поверхности) [Молодин, Ефремова, 1998, с. 306], [Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2003, с. 95].
В ходе визуального исследования рассматриваемых изделий из коллекции памятника Чича – 1 было установлено, что они применялись в качестве лощила [Молодин, Парцингер, Гаркуша и др., 2004, с. 289]. Естественная форма вторых фаланг удобна для использования их при шлифовке: одна сторона кости имеет уплощенную форму, другая – естественные выемки, которые могут выступать в качестве «рукояти». Сработанность с плоской стороны на костях характерна для указанного вида работ (возможно, с их помощью осуществлялась доводка бронзовых изделий, как и в случае с астрагалами).
Также, очевидно, что вторая фаланга использовалась в качестве сырья для дальнейшей обработки. Об этом говорит наличие необработанных экземпляров и характерной заготовки – расщепленной повдоль кости.
На основе приведенных фактов можно сделать следующее предположение. Если астрагалы и бабки использовались, в первую очередь, в качестве игровых средств, то возможно их обработка была вызвана интересами, обусловленными игрой.
Это справедливо относительно астрагалов, т. к. игровое назначение изделий из вторых фаланг легко оспорить.
С другой стороны, вторые фаланги предположительно использовались в качестве абразивов, а назначение астрагалов могло включать в себе как игровой аспект, так и функции «доводки бронзовых (а возможно и других) изделий». Исходя из данных в таблице II можно заключить, что использование вторых фаланг приходилось как раз на период развития производств на памятнике.
Данный вопрос помогут разрешить дальнейшие трасологические исследования.