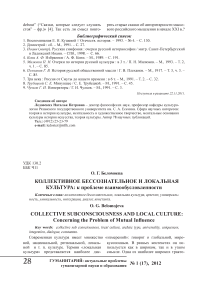Коллективное бессознательное и локальная культура: к проблеме взаимообусловленности
Автор: Беломоева Ольга Герольдовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению понятия «локальная культура», структуры коллективного бессознательного в трактовке К. Г. Юнга, соотношения и взаимообусловленности коллективного бессознательного и локальной культуры.
Коллективное бессознательное, локальная культура, архетип, универсальность, уникальность, интеграция, диалог, константа
Короткий адрес: https://sciup.org/14720665
IDR: 14720665 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Коллективное бессознательное и локальная культура: к проблеме взаимообусловленности
Современная культура имеет множество вой, национальной, региональной, локальной и т. п. культуре. Термин «локальная культура» представляется наиболее дис-
«измерений»: говорят о глобальной, миро-куссионным. В разных контекстах он используется как в широком, так и в узком смысле. Одна из наиболее широких тракто- вок этого понятия представлена в редакции И. М. Хоруженко [2]. Он считает, что термин «локальные типы культуры» обозначает разнообразие географических и социальных параметров, с одной стороны, накладывающихся на культуру, а с другой – осваиваемых ею, что ведет к складыванию конкретноисторических типов культуры, которые в литературе называются локальными типами культуры. Хотя смысловое наполнение термина остается недостаточно четким, с ним, по-видимому, коррелирует точка зрения, которая предполагает, что понятие «локальная культура» имеет относительный характер. Так, региональная культура, понимаемая как культура родственных народов, близких происхождением, территориально, исторически, хозяйственными связями (например, культура славянских народов), является локальной по отношению к мировой культуре. С другой стороны, национальная культура, понимаемая как культура определенной страны, государства, имеющего моно- или многонациональный характер, также выступает как локальная по отношению к мировой культуре, а также к региональной (культура России, например). В узком смысле слова понятие «локальная культура» представлено в редакции В. А. Колотаева, который, отталкиваясь от этимологии слова «локальный», означающего «ограниченный», в числе характеристик локальных явлений называет «традиционную культуру», «культуру архаического общества», «примитивную культуру», «этнокультуру», «субкультуру», «контркультуру», культуру сексуальных меньшинств, феминистскую культуру и т. д. [1]. Не ставя задачу вывести дефиницию локальной культуры, отметим, что при рассмотрении заявленной проблемы мы исходили из представления о локальной культуре в широком смысле слова, отраженного бинарной оппозицией «глобальное – локальное».
Главным фактором, оказывающим неизбежное влияние на любую современную культуру, является глобализация – процесс распространения универсальных, общепринятых ценностей либерализма и демократических свобод, признание прав меньшинства, его культурной и экономической автономии, рыночных возможностей и т. п. Любая культура независимо от ее желания оказывается в орбите процессов мирового масштаба, одним из видимых результатов которого становится унификация культур. По мнению многих современных исследователей, процессы американизации, европеизации, бурно развивающиеся в последние десятилетия, ставят под вопрос существование локальных культур.
В этих условиях наиболее актуальными становятся проблемы интеграции культур, в реальности взаимодействующих не только в режиме «диалог – спор», но и в режиме «диалог – согласие», в процессе которого могут происходить взаимно плодотворные творческие контакты. Это возможно, в частности, потому, что в своей структуре локальные культуры имеют не только черты уникальности, но и универсальные основания. Их присутствие в культуре делает процессы взаимодействия потенциально возможными, реализуемыми. Без них, вероятно, взаимопонимание участников культурного диалога вряд ли могло осуществиться или, по крайней мере, было бы значительно затруднено. Они представляют собой некие универсалии человеческого бытия, константы, постоянно участвующие в культурной практике.
К числу таких универсальных оснований следует отнести человеческую психику. Особое значение приобретает при этом понятие «коллективное бессознательное», введенное в широкий научный обиход К. Г. Юнгом.
По его мнению, мир, окружающий человека, весь космос является потенциальным символом. Человек же в свою очередь предрасположен к созданию символов. Сотворенная им культура как «вторая природа» символична по сути. Символы имеют более или менее устойчивое психологическое значение. Многие из них известны начиная с самых ранних проявлений человеческого сознания и сохранили смысловую ценность для человека до настоящего времени, находя выражение даже в наиболее сложных проявлениях современного искусства.
Юнг, как известно, предлагает следующую структуру человеческой психики: сознание и бессознательное. Отмечая, что «психика – больше, чем сознание» [4, c. 74], Юнг понимает бессознательное как «совокупность всех психических явлений, не обладающих качеством сознания» [5, c. 332]. В его структуре он вы- деляет «личностное бессознательное», включающее утраченные воспоминания, намеренно подавленные мучительные чувства, мысли и т. п., и «коллективное бессознательное», которое состоит из универсальных и регулярно возникающих, наследуемых элементов.
По его мнению, личностное бессознательное образует поверхностный слой под порогом сознания. При нормальных условиях оно может поддаваться осознанию. С коллективным бессознательным этого не происходит. Дело в том, что личностное бессознательное в трактовке Юнга – «совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут достичь сознания, по большей части уже и достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись вытеснению, после чего удерживаются ниже порога сознания» [3, с. 116]. В свою очередь коллективное бессознательное охватывает «нижние части психических функций, прочно установившуюся, так сказать автоматически действующую, унаследованную и повсеместно наличную, т. е. сверхличностную или надличностную часть индивидуальной психики» [7, с. 150]. Коллективное бессознательное приобретено и развито филогенетически, сознание и личностное бессознательное – онтогенетически. При этом Юнг уточняет, что коллективное бессознательное не врожденные представления, а врожденные возможности представления.
Юнг приходит к выводу, что коллективное бессознательное имеет универсальный характер. Представления коллективного бессознательного встречаются повсеместно и во все времена. Человек, родившись, не изобретает заново человеческий образ действий. «Как и инстинкты, схемы коллективной мысли являются по отношению к человеческому разуму врожденными и унаследованными. И действуют они при возникновении соответствующих обстоятельств более или менее одинаковым образом у всех нас. Эмоциональные проявления, к которым относятся и мыслительные схемы, узнаваемо идентичны повсюду» [4, с. 74]. В отношении локальных культур это означает, что в их основе лежат одни и те же всеобщие, универсальные основания. Другое дело, что проявляться они будут в различной форме.
Особое значение приобретает при этом понятие «архетип», также получившее у Юнга основательную теоретическую разработку. Он понимает архетип как:
– наиболее древние и наиболее всеобщие формы представлений человечества;
– нерушимые основания человеческого духа, которые всегда воспроизводят себя все в новых и новых формах;
– формы, аналогичные логическим категориям, которые относятся не к разуму, а к воображению и должны характеризоваться как типичные визуальные образы;
– символическую формулу, которая начинает функционировать всюду, где еще не существует сознательных понятий или же где таковые вообще невозможны.
Таким образом, архетип наделяется следующими характеристиками: всеобщий, типичный, существующий повсеместно и всегда, что свидетельствует об универсальности его сущности.
Архетипы в основном составляют содержание коллективного бессознательного, в то время как личностное бессознательное, по Юнгу, состоит, главным образом, из комплексов. Другими словами, архетипы никогда не были в сознании, никогда не обретались индивидуально, а существованием обязаны исключительно наследственности.
Юнг пришел к выводу, что они составляют неотъемлемую часть подсознания и образуют своего рода мост между сознательными способами выражения мыслей и образными формами самовыражения. Он рассматривает их как промежуточную форму, которая непосредственно воздействует на эмоциональную сферу индивидуума. По сущности и происхождению они являются не индивидуальными, а коллективными представлениями, порожденными первобытными снами и пророческими фантазиями, являющимися спонтанно и непреднамеренно возникшими проявлениями, никем специально не придуманными. «Архетип проявляется в тенденции формирования этих представлений вокруг одной центральной идеи: представления могут значительно отличаться деталями, но идея, лежащая в их основе, остается неизменной» [4, с. 66]. Это означает, что, будучи фундаментальным, всеобщим основанием культуры, коллективное бессознательное предполагает вариативность реализации архетипа в каждой конкретной ситуации, что позволяет говорить не только о невозможности полной гомогенизации культур, но, напротив, об обязательном наличии в каждой локальной культуре как всеобщего, так и уникального. При этом их содержание и форма проявления, видимо, могут меняться в зависимости от типа культуры (региональная, национальная и т. п.), порождая различные варианты культурных взаимодействий.
Характеризуя сущность архетипов, Юнг приходит к выводу, что они представляют собой отражение постоянно повторяющегося опыта человечества. Так, миф о солнечном герое, встречающийся во всех возможных вариантах практически во всех культурах мира, отражающий ежедневное кажущееся движение Солнца, и есть реальность, образующая архетип Солнца. При этом физическая реальность не имеет никакого отношения ни к процессу мифотворчества, ни к сфере бессознательного. В этой связи Юнг отмечает: «Архетип есть своего рода готовность снова и снова репродуцировать те же самые или сходные мифические представления» [6, с. 75].
Юнг неоднократно подчеркивает универсальность как важнейшее свойство архетипа, отмечая, что «праобраз, или архетип, есть фигура – будь то демона, человека или события, – повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. Соответственно мы имеем здесь в первую очередь мифологическую фигуру... В известном смысле они (архетипы) являются сформулированным итогом огромного типического опыта бесчисленного ряда предков. Это, так сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа. Усредненно отображая миллионы индивидуальных переживаний, они дают таким путем единый образ психической жизни, расчлененный и спроецированный на разные лики мифологического пандемониума» [3, с. 117].
Однако Юнг далек от того, чтобы представлять архетипы только как отпечатки постоянно повторяющихся типичных опытов. Он подчеркивает, что «вместе с тем они эмпирически выступают как силы или тенденции к повторению тех же самых опытов» [6, с. 76].
Изначальный образ (архетип), с его точки зрения, – это осадок в памяти – энграмма, образовавшийся путем уплотнения бесчисленных сходных между собой процессов. Это своего рода типическая основная форма известного всегда возвращающегося душевного переживания. Юнг считает, что изначальный образ представляет собой, с одной стороны, психическое выражение для определенного физиологически-анатомического предрасположения. С другой стороны, психика не может считаться продуктом только условий окружающей среды. «…Данная мозговая структура обязана тому, что она есть, не только воздействию условий окружающей среды, но настолько же и своеобразным и самостоятельным свойствам живого вещества, т. е. закону, данному вместе с жизнью… Согласно этому и изначальный образ, с одной стороны, должен быть несомненно отнесен к известным, чувственно воспринимаемым, всегда возобновляющимся и потому всегда действенным процессам природы, а с другой стороны, и столь же несомненно, он должен быть отнесен к известным внутренним предрасположениям духовной жизни и жизни вообще» [8, с. 613]. Таковы, с точки зрения Юнга, внешний и внутренний факторы существования архетипа.
Подчеркивая моменты универсальности, всеобщности, коллективности архетипов, Юнг тем не менее настойчиво проводит мысль о том, что архетипы по существу неразрывно связаны с жизнью, с живыми людьми. Вот почему, пытаясь понять праобраз, необходимо рассмотреть не только его, но и учесть неповторимость личности, его породившей. Это в свою очередь означает, что невозможно дать произвольное или унифицированное, стандартное, соответствующее какой-либо схеме толкование любому из них.
Эта мысль получает у Юнга развитие и в отношении народов и рас. Он отмечает, что изначальный образ всегда коллективен, т. е. одинаково присущ по крайней мере целым народам или эпохам. Он делает из этого чрезвычайно важный вывод: «Вероятно, главнейшие психологические мотивы общи всем расам и временам» [8, с. 612]. Между тем каждая культура, каждая временная эпоха обладает собственной «душевной жизнью». Юнг уподобляет ее индивидуальной душе, которая обладает своими особенностями и поэтому «требует компенсации, которая со своей стороны может быть осуществлена коллективным бессознательным лишь таким образом, что какой-нибудь поэт или духовидец выразит все невысказанное содержание времени и осуществит в образе или деянии то, что ожидает неосознанная всеобщая потребность, будет ли это сделано к добру или ко злу, к исцелению той эпохи или ее погибели» [3, с. 142]. Из этого следует, что Юнг, признавая всеобщий, универсальный, константный характер архетипов, вновь указывает на многообразие форм их проявления, на роль индивидуального, личностного сознания.
Таким образом, архетипы являются неотъемлемым элементом любого «измерения» локальной культуры. Однако, поскольку Юнг подчеркивает мысль о многообразии форм воплощения тех центральных идей, сущность которых заключена в праобра-зах, имеющих наследуемый характер, наличие в локальных культурах универсальных смысловых единиц, которыми являются по существу архетипы, ни в коем случае не препятствует сохранению их самобытных, уникальных черт. Центральные идеи, лежащие в основе одних и тех же архетипов, воплощаются в разнообразной символической форме, соответствующей той ментальности, той картине мира, которые сформировались в русле данной локальной культуры.
Известно, что позднее многие идеи Юнга об универсальном характере коллективного бессознательного были подкреплены исследованиями, проведенными С. Грофом, который на экспериментальной основе значительно углубил концепцию предшественника. Они были описаны им в книгах «Области человеческого бессознательного» и «Холотропное сознание». Для нас представляют особый интерес результаты, полученные им в результате применения приемов так называемой «холотропной терапии», как сам автор определял методику своей работы. Применяя галлюциногенные средства, сделанные на основе природных веществ, традиционные для некоторых аборигенных культур, анализируя последствия длительного голодания, преодоления сна, трансовых танцев и обрядов в культурах примитивных обществ, Гроф пришел к выводу, что в психике человека есть трансперсональная область, общая для всех людей в пространственно-временном континууме. Ее содержание позволяет людям отождествлять себя как с непосредственными предками, так и с представителями других культур. Некоторые участники его исследования представляли себя даже животными и растениями, существовавшими на Земле еще до появления человека. Это позволило ему прийти к идее биологического единства всего живого. Гроф подтвердил, что термин «архетип» может использоваться для обозначения всех статических элементов и конфигураций, а также динамических событий в психике, обладающих универсальным трансиндивидуальным качеством. Его исследования во многом доказали гипотезу Юнга о том, что мифологические и религиозные представления имеют отношение не к физическим сущностям, а к психическим реалиям измененного состояния сознания.
Не менее важным достижением Грофа, также демонстрирующим универсальный характер психических процессов, было выявление особых психических структур, названных ученым перинатальными матрицами. Он показал, что они формируются еще до рождения человека и продолжают управлять процессами, протекающими в бессознательном, на протяжении всей его жизни.
Коллективное бессознательное, по Юнгу, – универсальный и однородный субстрат. Его однородность простирается настолько далеко, что одни и те же мифологические мотивы встречаются в локальных культурах на всем земной шаре. Однако Юнг далек от того, чтобы рассматривать психику в целом только как нечто однородное. По его мнению, разнообразие сосредоточено, во-первых, в сфере сознательной психики. Он пишет: «…мысль об однородности сознательных психик есть академическая химера… разлетающаяся как дым перед лицом действительности» [8, с. 666]. Он считает, что для создания полного образа психики необходимо исходить из представления о разнородности психики, поскольку сознательная индивидуальная психика входит в общую психологическую картину наряду с ее бессознательными основами.
Представление о разнородности, однако, связывается им не только с сознательной сферой человеческой психики. В работе «Отношение между Я и бессознательным» у него есть одно весьма любопытное замечание: «Поскольку существуют различия, соответствующие расе, роду или даже семье, то есть также ограниченная расой, родом или семьей коллективная психика, выходящая за уровень «универсальной» коллективной психики» [7, с. 149]. Эта мысль не получила у Юнга дальнейшего развития, однако можно предположить, что в таком случае коллективное бессознательное одной локальной культуры (например, региональной) отличается от коллективного бессознательного иной локальной культуры, порожденной другим, например более узким, гомогенным культурным полем (национальная культура, например). В результате каждая из них образует собственную культурную целостность, воплощающую элементы всеобщего, «универсального» коллективного бессознательного в уникальной соответствующей данной культуре форме.
Поскольку однородность коллективного бессознательного имеет, по Юнгу, не абсолютный, а относительный характер, можно говорить о том, что данный феномен свидетельствует о сложном единстве уникального и универсального в лоне локальной культуры.
Список литературы Коллективное бессознательное и локальная культура: к проблеме взаимообусловленности
- Колотаев И. В. Восстание квоткультур//Общественные науки и современность. -М., 2003. -№ 2. -С. 157-163.
- Хоруженко И. М. Культурология. Энциклопедический словарь/И. М. Хоруженко. -Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1997. -640 с.
- Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству//К. Г. Юнг. Феномен духа в искусстве и науке/Собр. соч.: в 19 т. -М.: Ренессанс, 1992. -Т. 15. -С. 93-120.
- Юнг К. Г. К вопросу о подсознании//К. Г. Юнг, М.-Л. фон Франц, Дж. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе/Человек и его символы. -М.: Серебряные нити, 1997. -С. 13-102.
- Юнг К. Г. Стадии жизни//К. Г. Юнг, М.-Л. фон Франц, Дж. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе/Человек и его символы. -М.: Серебряные нити, 1997. -С. 313-337.
- Юнг К. Г. О психологии бессознательного//К. Г. Юнг Психология бессознательного. -М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», «Канон+», 1998. -С. 9-126.
- Юнг К. Г. Отношение между Я и бессознательным//К. Г. Юнг. Психология бессознательного. -М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», «Канон+», 1998. -С. 127-240.
- Юнг К. Г. Психологические типы. -СПб.: Изд-во «Азбука»,2001. -736 с.