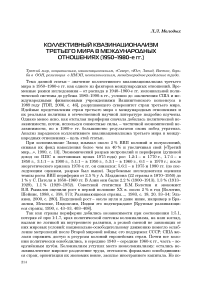Коллективный квазинационализм третьего мира в международных отношениях (1950-1980-е гг.)
Автор: Молодых Леонид Леонидович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
Тема статьи - значение коллективного квазинационализма третьего мира в 1950-1980-е гг. как одного из факторов международных отношений.
Третий мир, национализм, квазинационализм, "север", "юг", запад, борьба в оон, резолюция о нмэп, неоколониализм, международное разделение труда
Короткий адрес: https://sciup.org/144153149
IDR: 144153149
Текст научной статьи Коллективный квазинационализм третьего мира в международных отношениях (1950-1980-е гг.)
Тема данной статьи – значение коллективного квазинационализма третьего мира в 1950–1980-е гг. как одного из факторов международных отношений. Временные рамки исследования – от распада в 1940–1960-е гг. колониальной политической системы до рубежа 1980–1990-х гг., условно до заключения США и международными финансовыми учреждениями Вашингтонского консенсуса в 1989 году [TDR, 2006, с. 46], разрушающего суверенитет стран третьего мира. Идейные представления стран третьего мира о международных отношениях и их реальная политика в отечественной научной литературе подробно изучены. Однако менее ясно, как отсталая периферия сначала добилась политической независимости, потом, используя совместные силы, – частичной экономической независимости, но в 1980-е гг. большинство результатов своих побед утратила. Анализ парадоксов коллективного квазинационализма третьего мира в международных отношениях – цель этой статьи.
При колониализме Запад изымал около 2 % ВВП колоний и полуколоний, снижая их фонд накопления более чем на 40 % и увеличивая свой [«Третий мир…», 1990, с. 13]. Экономический разрыв метрополий и периферии (душевой доход по ППС в постоянных ценах 1975 года) рос: 1.2:1 – в 1770 г., 1.7:1 – в 1850 г., 3.1:1 – в 1900 г., 5.1:1 – в 1950 г., 5.3:1 – в 1960 г., 6:1 – в 1970 г.; после энергетического кризиса 1970-х гг. он снизился: 5.6:1 – в 1975 и 1980 гг. (по последующим оценкам, разрыв был выше). Зарубежные исследователи оценили темпы роста ВВП периферии от 2.5 % у А. Мэддисона (22 страны в 1870–1950) до 1 % у С. Пателя в 1850–1960 гг. В Азии они были 2.2 % (1900–1913), 1.3 % (1913– 1929), 1.1 % (1929–1952). Советский статистик Б.М. Болотин и экономист В.В. Рымалов оценили рост в первой половине ХХ в. около 2 % в год [Болотин, Шейнис, 1988, с. 358, 573; Развивающиеся страны…, 1983, с. 18, 20, 33–34; Эль-янов, 2000, с. 280]. Подушевой рост – около нуля и даже ниже, например в Бразилии, Мексике, Индонезии, Индии это подтверждают [Крупные развивающиеся страны, 1990, с. 43–53, 403–408].
Так как страны периферии добились независимости при соотношении 1:5.1, потеряв её при 1:1.7, крах политической системы колониализма, на наш взгляд, вызван не логикой их внутреннего развития, а резкой сменой не зависящих от них мировых условий: национально-освободительному движению помогло ослабление метрополий после Второй мировой войны; его поддержал СССР; США желали спрямить доступ к ресурсам колоний европейских стран. Почти все колонии политически освободились, в середине 1940 – середине 1960-х гг., часть – вооружённым путём. Колониализм уступил место неоколониализму: остались неэквивалентное мировое разделение труда, отсталость формально освободившихся стран, ориентация их экономик вовне, засилье иностранного капитала. Но по- литическая независимость позволила им бороться за реальный суверенитет: координировать позиции в ООН, создавать группы коллективной экономической дипломатии, организации стран – экспортёров сырья. Третий мир включал очень разные страны, но их объединяла, кроме марионеточных режимов, борьба с неоколониализмом за реальную независимость. В третьем мире преобладал оптимизм взглядов на будущее, поэтому неоколониализм вызывал сильное неприятие, возникли теории периферийности и зависимости, но до 1980-х гг. многие теоретики в третьем мире считали это преодолимым [Общественная мысль развивающихся стран, 1988, с. 70–113].
Запад, включая США, вынужденно пошёл на компромисс с национальным развитием бывших колоний, уменьшив их внешнюю зависимость. Пока были велики резервы роста мировой экономики, Запад терпел упущенную выгоду – от развития объекта эксплуатации росли будущие неоколониальные прибыли. Развитие стран третьего мира требовало больших государственных вложений в инфраструктуру и производство, привлекая этим в разрешённые ему отрасли приток частного иностранного капитала. Развитие требовало установления в них авторитарных режимов, не только в странах социалистической ориентации [Развивающиеся страны…, 1974, с. 234]. И в развитых капиталистических странах 1950–1970-х гг. экономические функции государства росли. Развивающиеся страны в 1950–1970-е гг. добились быстрого роста экономики, включая промышленность [Болотин, Шейнис, 1988, с. 353–358, 423–440]. «Национальный уклад теперь становится ведущим, но часто только формально» [Эволюция восточных обществ…, 1984, с. 283]. При явных и неявных авторитарных режимах был быстрый рост до 1981–1982 гг. в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии – до 1997–1998 гг. (начался позже). «Периферийный ''квартет'' середины века в третьем мире – "индустриализация – этатизм – национализм – авторитаризм'' [Майданик, 2001]. Росли все виды национализма – этнический, государственный и антизападная солидарность стран третьего мира. Этнонационализм групп «от изолированных племён охотников и собирателей до консолидированных наций» [Межэтнические конфликты…, 1991, с. 5] обычно враждебен народам-соседям, часто противостоит государству в создании наций из искусственно объединённых колониализмом народов. Государственный национализм, кроме соседних стран и бывшей метрополии, противостоял неоколониализму в целом [Брутенц, 1974, с. 131], объединяя даже враждебные страны. Осознание «положения в миросистемных отношениях… отличается и от национального сознания и от идеологии национализма», им адекватна «только одна категория – государство», в остальных случаях есть нечистый национализм, квазинационализм: «для наднациональных единиц… национализм… одна из составляющих» [Развивающиеся страны…, 1974, с. 45–46].
Коллективный квазинационализм третьего мира стал важным фактором международных отношений после конференции стран Азии и Африки в 1955 г. в Бандунге. В 1957 и 1961 гг. соответственно возникли политические движения Солидарности Азии и Африки и Неприсоединения. «В течение эры Бандунга (1955–1975) народы Азии и Африки смогли успешно на время отразить империализм благодаря единому фронту, созданному ими» [Amin, 2006]. 14 декабря 1960 года ГА ООН, где нет права вето, приняла Декларацию предоставления независимости колониальным странам и народам [Резолюция 1514 (XV), 1960]. Актуальными стали экономические задачи. Страны третьего мира в 1964 г. доби- лись созыва Конференции ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД [Обмин-ский, 1981, с. 38]. Её возглавил аргентинский экономист Р. Пребиш, автор теории периферии, обосновав право её стран на невзаимные льготы: формальное равенство фактически ведёт к неравенству [Пребиш Р. (Prebisch R.), 1992, с. 191– 196]. В 1966 году возникла ЮНИДО – Организация ООН по промышленному развитию, помогающая ему в отсталых странах [About UNIDO]. Освободившиеся государства стали создавать организации региональной интеграции и организации экспортёров сырья. В 1960 году возникла Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК). Когда мировая нефтедобыча на благоприятных скважинах вышла на пик, нефтяные ТНК и ОПЕК подняли цены, формально из-за арабо-израильской войны 1973 года. Страны ОПЕК выкупили на эти деньги главную отрасль у ТНК [About us. Brief History]. ТНК это стерпели, сохранив сети перевозки, переработки, сбыта нефтепродуктов; в 1970-е гг. их чистые прибыли росли [Нефтегазовая промышленность зарубежных стран. 1938–1978 гг., 1981, с. 221– 223]. Возникли картели экспортёров меди, бокситов, олова, железной руды, ртути, вольфрама, серебра, фосфатов, натурального каучука [Кофанов, 1988, с. 75– 77; Левин, 1988, с. 131]. Сырьё стало козырем стран третьего мира не от излишка, а от их слаборазвитости: нефти на душу населения в 1.6 и металлов в несколько раз в 1980–1985 гг. они добывали меньше развитых стран, потребляя меньше в 6 раз нефти и в 11–19 раз металлов [Левин, 1988, с. 22].
Голосами развивающихся и социалистических стран ГА ООН 1 мая 1974 г. приняла резолюцию о НМЭП. Главной победой она назвала ликвидацию колониализма и признала неоколониализм «в числе крупнейших препятствий полному освобождению и прогрессу развивающихся стран», выдвигая поэтому цель создания НМЭП на основе 19 принципов: «a) суверенное равенство государств, самоопределение всех народов… территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела других государств; c) полное и эффективное участие на основе равенства всех стран, с учётом необходимости обеспечить ускоренное развитие всех развивающихся стран… d) каждая страна имеет право принять… экономическую и социальную систему, которую она считает наиболее подходящей для её собственного развития, и не должна подвергаться в результате этого… дискриминации; e) полный неотъемлемый суверенитет каждого государства над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью… включая право национализации или передачи владения своим гражданам… Ни одно государство не может быть подвергнуто… любому… виду принуждения с целью помешать свободному и полному осуществлению этого… права; g) регулирование и надзор за деятельностью межнациональных корпораций путём принятия мер в интересах национальных экономик стран, в которых действуют такие… корпорации, на основе полного суверенитета этих стран; j) справедливое и равноправное соотношение между ценами на сырьё, сырьевые товары, готовые изделия и полуфабрикаты, экспортируемые развивающимися странами, и ценами на сырьё, сырьевые товары, промышленные товары, импортируемые ими… k) оказание… международным сообществом активной помощи развивающимся странам без каких-либо политических или военных условий; l) обеспечение того, чтобы одной из главных целей преобразованной международной валютной системы было содействие развитию развивающихся стран и достаточный приток в них реальных ресурсов; n) по мере возможности преференциальный и невзаимный режим для развивающихся стран во всех областях международного экономического сотрудничества; p) предоставление развивающимся странам доступа к достижению сов- 216
ременной науки и техники и содействие передаче технологии и созданию местной технологии… t) содействие той роли, которую могут играть ассоциации производителей в рамках международного сотрудничества» [Резолюция 3201(S-VI)].
Программа НМЭП – наивысший подъём квазинационализма третьего мира. После разделения стран «Юга» на нефтеэкспортёров, новые индустриальные страны (НИС) и беднейшие страны их единство в переговорах с «Севером» ослабло. Рост цен на нефть больше ударил периферию, чем «центры». Рост в 1974– 1981 гг. долга третьего мира по зарубежным коммерческим кредитам вызван на 54 % ростом цены нефти [Широков, 1987, с. 215]. НИС брали их, особенно в Латинской Америке, сохраняя высокие темпы роста; беднейшие страны, в основном в Африке, – поддерживая основные нужды. Это вызвало долговой кризис 1980-х гг. Другие сырьевые союзы не имели успеха ОПЕК.
В 1980-е гг. Запад осознал узость обозримых резервов роста мировой и, прежде всего его, экономики – прежними темпами наращивать потребление двигавших рост сырья и топлива, особенно нефти было нельзя. Завершилось внедрение возможных в этих условиях достижений научно-технического прогресса (НТП). Доля занятых в промышленности – отрасли самого производительного труда – вышла на предел, начался её перелив в менее производительную сферу услуг [Экономическое положение…, 1981, с. 31–39]. Всё больше инвестиций шло на амортизацию действующих основных фондов [Закономерности экономического роста, 1992, с, 72–73]. Новый этап НТП – внедрение микроэлектронных технологий («новая экономика»), в отличие от прежних этапов НТП, узко применим, не ускорил общий рост; инвестиции в неё превысили её отдачу [Кобяков, Хазин, 2003]. Экономический рост ограничен ресурсной базой Земли и пределом роста её населения. Несмотря на НТП, развитые капиталистические страны ждут сужение внутренних рынков из-за депопуляции, экспансия в третий мир [Голанский, 1989, с. 77]. Средневзвешенно норма накопления развитых капиталистических стран упала с 27.2 % ВВП в 1970–1975 гг., 24.6 % – в 1976–1980 гг., 22.9 % – в 1990, 21.7 % – в 2000, 20.9 % – в 2006 г. [Болотин, Шейнис, 1988, с. 141; Development and Globalization, 2008, p. 5]. Начавшийся в 2008 г. новый мировой экономический кризис её ещё снизил [WEO Database, 2010]. Доля промышленности снизилась с 33 % ВВП в 1970-е гг. до 25.5 % в 2006 г., обрабатывающей – с 28.5 до 16.1 % [Болотин, Шейнис, 1988, с. 43; Handbook of statistics, 2008, p. 408]. Замедление темпов промышленного роста перешло в ряде стран в 2000-е гг. в абсолютный спад [IDR, 2009, p. 129–132]. Способствующее росту экономики государство было успешным: глубина послевоенных спадов была намного меньше, чем в 1929–1933 гг., но частный капитал в 1980-е гг. утратил интерес к нему, и страны Запада впервые в ответ на кризис не усилили роль государства в экономике, а провели либерализацию и приватизацию. В третьем мире в среднем до 1981 г. не было душевого спада, до 1982 – абсолютного [Былиняк, 1986, с. 12]. Западу стал не нужен компромисс с развитием периферии в новых условиях, её уподобили выжатому лимону [Франк А.Г. (Frank A. G.), 1992, с. 18]. Впервые за двести лет изменилась суть колониальной деформации: «центр» стал тратить выросшие прибыли от эксплуатации периферии не на рост нормы накопления реального сектора, а на огромные финансовые пузыри. Их вздутие в 1980–2000-е гг. было основой экономики Запада, особенно США, а крах в 2008 г. вызвал крупнейший мировой экономический кризис послевоенного времени.
Рост экономик ставших среднеразвитыми стран, направленный во многом на нужды «центров», стал замедляться при намного более низких душевых доходах, чем в развитых [Развивающиеся страны…, 1983, с. 83]. Достижение пределов зависимого роста, спад мировых цен на сырьё и кризис внешнего долга сильно ударили третий мир. Так было в начале 1980-х гг. в Латинской Америке и Западной Азии (и так самая отсталая Тропическая Африка стала деградировать одновременно), в конце 1990-х – в Юго-Восточной Азии. Запад, особенно США, стал требовать от них неолиберальных реформ: структурной адаптации экономик периферии к интересам Запада. Он способствовал утверждению, в том числе военным путём, как США в Ираке в 2003 г., неокомпрадорских режимов. Борьба за НМЭП смягчила нажим на третий мир [«Третий мир»…, 1990, с. 161], но её инициаторы признали провал в 1980–1990-е гг. [Пребиш, 1992, с. 182]. Влияние СССР в 1940–1960-е гг. было одной из причин краха политической системы колониализма. В 1980-е гг. индустриальная и военная мощь СССР абсолютно и относительно Запада выросла в сравнении с тем временем, хозяйство росло до 1990 года. Описанный рядом зарубежных авторов, объясняющих миросистемные перемены, упадок с 1970-х гг. [Франк, 1992, с. 9] не подтверждается [Российский статистический ежегодник, 1995, с. 310–311]. Но СССР не мог изменить чужую систему разделения труда без других нужных условий: готовности Запада на уступки периферии и её твёрдости из-за усиления неокомпрадоров, ищущих не выход из системного кризиса, а возможность расхищения богатств своих стран вместе с Западом. Сейчас основы третьего мира – «постиндустриализация» (деиндустриализация) – глобализация – либерализация» [Майданик, 2001]. США называли это реконструкцией, выдвигая ультимативные условия «помощи» оккупированным ими странам, странам, терпящим экономические кризисы и природные бедствия [Bello, 2006].
Итоги реформ не достигли официальных целей – ускорения темпов роста экономики [Кузнецов, 2001, с. 58–60, 91]. Советы МВФ рассчитаны «не на рост производства, а на его свёртывание» [Голанский, 1994, с. 65]. На наш взгляд, искусственное возрождение потерпевшего крах в 1930-е гг. экономического либерализма не могло решить более сложные задачи 1980-х гг. Но МВФ и МБРР сохранили неолиберальный курс [TDR, 2003, p. I, 2006, p. 43–52]. Сейчас трудно представить подъём квазинационализма стран «Юга»: они активно включены в международное неэквивалентное разделение труда, проводят неокомпрадорскую политику, конкурируя между собой. Но нужно помнить и о внезапности распада в 1940–1960-е гг. колониализма и волны национально-освободительного движения.