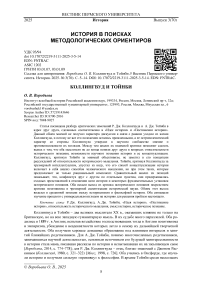Коллингвуд и Тойнби
Автор: Воробьева О.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История в поисках методологических ориентиров
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разбору критических замечаний Р. Дж. Коллингвуда и А. Дж. Тойнби в адрес друг друга, сделанных соответственно в «Идее истории» и «Постижении истории». Данный обмен мнений не получил характера дискуссии в связи с ранним уходом из жизни Коллингвуда, и потому не все его положения остались проясненными, а ее острополемический характер со стороны Коллингвуда утвердил в научном сообществе мнение о противоположности их взглядов. Между тем анализ их взаимной критики позволяет сделать вывод о том, что оба мыслителя не до конца поняли друг друга в вопросах относительности исторического познания, возможности научного познания истории и ее концептуализации. Коллингвуд, критикуя Тойнби за мнимый объективизм, не заметил в его концепции рассуждений об относительности исторического мышления. Тойнби, критикуя Коллингвуда за чрезмерный интеллектуализм, упустил из виду, что его способ концептуализации истории включает в себя анализ способов человеческого мышления, но при этом таких, которые предполагают не только рациональный компонент. Сравнительный анализ их позиций показывает, что, конфликтуя друг с другом по отдельным пунктам, они придерживались сходных представлений в отношении цели истории и некоторых фундаментальных установок исторического познания. Оба искали выход из кризиса исторического познания посредством критики позитивизма и чрезмерной сциентизации исторической науки. Обоим этот выход виделся в срединной позиции между историцизмом и философией истории. Оба связывали изучение прошлого с универсальным взглядом на историю для решения проблем настоящего.
Р. Дж. Коллингвуд, А. Дж. Тойнби, «Идея истории», «Постижение истории», относительность исторического мышления, смысл истории, историческое познание
Короткий адрес: https://sciup.org/147252177
IDR: 147252177 | УДК: 93/94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-5-14
Текст научной статьи Коллингвуд и Тойнби
сохранившихся тетрадей университетского периода – конспект лекций Дж. А. Смита о философии Гегеля, что свидетельствует о значимости его для ученого (Bodleian Library, a ). В дальнейшем его увлечение философией усилилось благодаря знакомству с идеями Анри Бергсона, которое случилось благодаря философу А. Линдсею – одному из наставников Тойнби [ Воробьева , 2023, с. 45]. Философская составляющая дальнейшего творчества Тойнби была настолько сильной, что многие критики предпочитали называть созданную им систему представлений о развитии человечества именно философией, а не историей [Toynbee and History, 1956]. Коллингвуд после окончания университета остался преподавать в нем именно философию [ Мосс , 1998, с. 726]. Он испытал на себе сильное влияние итальянского мыслителя Б. Кроче, чью книгу о Джамбаттисте Вико [ Croce , 1913] и чуть позже автобиографию [Benedetto Croce…, 1927] он перевел. Записи и конспекты Б. Кроче, а также отсылки к Дж. Вико присутствуют в архиве и трудах Тойнби (что неудивительно, если учесть, что именно А. Линдсей был одним из тех, кто познакомил британскую гуманитарную мысль с идеями Б. Кроче [ Croce , 1914]). Все последующее творчество Коллингвуда было напрямую связано с философией. Его первая книга называлась «Философия и религия» (1916), за которой последовали «Очерки по философии искусства» (1925), «Опыт о философском методе» (1933), «Опыт о метафизике» (1940) и, наконец, изданная посмертно «Идея истории» (1946), в которой сформулирована основная направленность всех его поисков – выяснение отношений между историей и философией.
Трудно сказать, встречались ли когда-нибудь оба мыслителя лично, хотя все говорит в пользу того, что, скорее всего, могли. Но их интеллектуальное знакомство сомнений не вызывает. В «Идее истории» Коллингвуд раскритиковал книгу Тойнби «Постижение истории», о которой судил по трем первым вышедшим к тому времени томам ( Коллингвуд , 1980, с. 152– 158). Свои впечатления от «Постижения истории» он также изложил в частном письме к Тойнби (Bodleian Library, c ). Ответ Тойнби на критику последовал в последующих томах «Постижения истории». Эпизодические упоминания работ Коллингвуда начинаются с седьмого тома, а в девятом томе Тойнби посвятил Коллингвуду специальный раздел ( Toynbee , 1954 b , IX, p. 718–737). Проблема, однако, заключается в том, что Коллингвуд критиковал Тойнби из 1946 г., а фактически – из 1936 г.1, Тойнби же отвечал ему из 1954 г. Значительная дистанция. К тому же вследствие раннего ухода из жизни Коллингвуда он не имел возможности ответить, т.е. завязать дискуссию. Однако критическое отношение обоих мыслителей к историческим концепциям друг друга, по-видимому, «по умолчанию» привело к представлению о полной противоположности их идей, иначе трудно объяснить, почему материалы этой взаимной критики практически не привлекали исследовательского внимания. Исключением является небольшая работа Х. Уайта, в которой он утверждает, что, несмотря на некоторые различия взглядов Коллингвуда и Тойнби, их учения представляют собой «единую согласованную атаку на позитивизм или сциентизм в исторической мысли» [ White , 2010, p. 1]. Оба исходят из убеждения, что «историческое знание может быть использовано для формулирования общей философии истории, на основе которой могут быть восстановлены культурные ценности, пострадавшие в результате господства сциентизма в современной западной мысли» [Ibid.].
Сказанное порождает интригу и стремление сопоставить позиции историков, поместив их в более широкие исторический и интеллектуальный контексты. Почему, имея столь сходные изначальные установки, комплексы их идей воспринимаются как противоположные, и столь ли разведенными на самом деле оказываются мосты между ними? Показательно, что в 1947 г. в небольшом эссе «Заметки о критике Коллингвудом Тойнби» Э. Майерс заявил о существенных ошибках Коллингвуда в восприятии идей Тойнби, что заставляет присмотреться к идеям и аргументам обоих мыслителей более внимательно [ Myers , 1947, p. 485–489].
***
Если сосредоточиться на сути претензий, предъявляемых Коллингвудом Тойнби, то они сводятся к нескольким взаимосвязанным позициям:
-
1. Коллингвуд отмечает, что «Постижение истории» А. Тойнби представляет собой «новое выражение исторического позитивизма», потому что «принципы, которые определяют ее
характер, выведены из методологии естественных наук». Под последней он понимает выявление фактов с последующим установлением отношений между ними вплоть до формулирования законов ( Коллингвуд , 1980, с. 155). Основными задачами такого исследования являются тщательность в работе с фактами и точность в изучении доказательств. Другими словами, в построениях Тойнби он видит не более чем версию социологического позитивизма.
-
2. Учение Тойнби о цивилизациях есть не что иное, как воплощение данной методологии, когда живое тело истории рассекается на множество обществ или цивилизаций (подобно тому, как оно рассекается на факты). Цивилизации мыслятся им как изолированные друг от друга объекты, «отделенные от контекста в ходе самого отбора». При этом отрицается непрерывность исторического процесса – «та непрерывность, в результате которой каждая часть перекрещивается и входит в другую» (Там же). К тому же жизнь подобных обществ, «в основе своей биологическая», выстраивается в «порочные схемы» (Там же, с. 157).
-
3. Тойнби не осознает, что «неотъемлемым элементом в процессе истории» является сам историк. Он рассматривает историю как некую совокупность фактов, наблюдаемых и регистрируемых историком, внешних феноменов, предстающих перед его взором, а не как опыт, в который нужно проникнуть и сделать своим (Там же, с. 156). «Подобно тому, как различные части исторического процесса у Тойнби находятся друг вне друга, процесс… и историк тоже противопоставлены друг другу. Эти две линии в конечном счете фактически сходятся на одном и том же: история превращается в природу, а прошлое, вместо того чтобы жить в настоящем, как это имеет место в истории, мыслится как прошлое, каким оно является в природе» (Там же, с. 157).
Прежде чем обратиться к ответу Тойнби на эту критику, необходимо сделать небольшое отступление к общему интеллектуальному контексту эпохи в целом и английскому в частности, в свете которых станут более понятны и критика Коллингвуда, и последовавшие на нее ответы Тойнби.
Особость английской историографии начала формироваться еще в XVII в., когда Ф. Бэкон в «Новом органоне» (1620) поставил перед собой задачу вооружить науку новой системой методов. Для последующего развития британской исторической и философской мысли важным оказалось то, что под этой системой он понимал сугубо эмпирический подход к научному познанию и увязывал его с условиями достижения истины (к истинному знанию ведет истинный метод). Логическая структура метода не была поставлена как проблема (в отличие от франко-немецкого ареала, на который сильно повлияли идеи Р. Декарта). Эта линия была продолжена философами XVIII в. – Дж. Локком, Д. Юмом и другими, повлиявшими на становление британской историографии как эмпирической науки: никаких «законов» ‒ только «факты», на основе которых устанавливаются «события». Как писал Г. Н. Кларк, «наша работа заключается не в том, чтобы видеть жизнь… целиком, а в том, чтобы видеть одну конкретную часть жизни» (Цит. по: [ Renier , 1950, p. 49]). Сказанное позволяет согласиться с Х. Уайтом, отметившим, что «приверженность строго эмпирическому взгляду была единственным фактором…, который не позволял ей [английской научной мысли. – О. В .] впасть в полный контовский позитивизм» в части попытки «установить “законы” исторических изменений» [ White , 2010, p. 2].
В начале ХХ в. ситуация в британской историографии усугубилась, с одной стороны, усилением позиций сциентизма, произошедшего под влиянием достижений естественных наук, с другой стороны, изменением роли философии, которая в этих условиях тоже получила мощный сциентистский импульс и сосредоточилась большей частью на эпистемологических (большей частью логических) проблемах познания. Однако триумф сциентистской философии натолкнулся на ее неспособность объяснить ни сам моральный кризис, последовавший за Первой мировой войной, ни найти выход из него. Гуманитарное знание, важной частью которого была историческая наука, требовало иных способов познания «человеческих дел». В их поисках не могло не сказываться и длительное господство гегелевского идеализма в британской мысли. Собственно, этому и были посвящены первые работы Коллингвуда – понять взаимоотношения между разумом, культурой и историей, с одной стороны, и философией и историей ‒ с другой. На развитие и итог его изысканий огромное влияние оказали Б. Кроче и А. Бергсон – мыслители, оказавшиеся в интеллектуальной «копилке» и А. Тойнби.
Становление будущего автора «Постижения истории» происходило в той же интеллектуальной среде и по сходным траекториям, что объясняет его ответ на критику Коллингвуда. Тойнби категорически не согласен в причислении его к позитивистам, и это несогласие подтверждается введением к «Постижению истории», в котором он ясно говорит об ошибочности перенесения научного метода, созданного для анализа неодушевленной природы, в историческое мышление, которое предполагает исследование людей и их деятельности. «Когда профессор истории называет свой семинар “лабораторией”, не отгораживается ли он тем самым от своей естественной среды? <…> Семинар историка – это питомник, в котором живые учатся говорить живое слово о живых. Лаборатория физика является… мастерской, в которой из неодушевленного природного сырья изготавливаются искусственные или полуискусственные предметы. Ни один практик, однако, не согласится организовывать питомник на принципах фабрики, равно как фабрику – на началах питомника. В мире идей ученые также должны избегать использования неверного метода» ( Тойнби , 1991, с. 17). И далее он выражает сожаление, что под влиянием индустриализации анализ людей и их деятельности уподобился анализу неживой природы (Там же, с. 16), в результате чего произошло ограничение оригинального поля исторических исследований исключительно открытием и верификацией фактов (Там же, с. 15), и «гончар» превратился «в раба своей глины». Под влиянием национализма это поле ограничилось еще и рамками национальных государств, вследствие чего под угрозой оказалось «глубинное побуждение», имманентно присущее мышлению историков – охватить и понять целостность жизни.
О том, что эти мысли не являются случайными, а сформировались в ходе долгих раздумий, свидетельствуют его юношеские эссе, написанные еще в университетские годы. В одном из них Тойнби критикует естественнонаучное понимание прошлого. «Если знаешь точки на кривой, то можешь найти уравнение, нарисовать график и затем расширить известные секции кривой настолько дальше, насколько тебе нужно. Некоторые защитники такого применения математики к истории полагают, что если можно сконструировать комплексную и исчерпывающую формулу для контента некоторой части человеческой истории, временной промежуток которого охватывает половину столетия или полсекунды, то можно вывести формулу истории самой по себе, и это знание можно расширять бесконечно в прошлое и будущее» (Bodleian Library, b ). В этом же эссе Тойнби (явно под влиянием Бергсона) размышляет о роли воображения и интуиции в работе историка. Историк, как заключает Тойнби, «конечно, классифицирует факты и размышляет о них, анализирует и реконструирует. ˂…˃ Но, как мне кажется, это только прелюдия. Она имеет такое же отношение к реальной работе историка, как пассы, которые гипнотизер проделывает над пациентом. Это предварительные очищения к видению, которые даются ему в акте инициации. Историк должен иметь второе зрение, которое называется интуицией [курсив наш. – О. В .]» (Ibid.).
Очевидно, что такое представление о работе историка далеко от позитивистского идеала научного познания. Почему же тогда Коллингвуд проходит мимо этих утверждений? Кажется, причина – в неустойчивости и изменчивости тойнбианской позиции при написании «Постижения истории», поскольку, наряду с обозначенной во введении критикой естественнонаучного подхода при применении его к историческим исследованиям, в первых трех томах он часто подчеркивает, что многие трудности исторического исследования можно попытаться частично преодолеть «хорошо проверенным научным методом», который противопоставляет другим подходам – априори ненаучным и трансцедентальным ( Toynbee , 1934, I, p. 426). «Наш метод эмпирический; и не существует никакой причины для того, чтобы обращаться к априорному» (Ibid., p. 146). Далее в третьем томе он пишет: «Я отказываюсь от немецкой трансцендентности Шпенглера в пользу английского эмпиризма» ( Toynbee , 1934, III, p. 382). И только к середине своего труда он формирует однозначную позицию на этот счет, которую неоднократно повторяет в своих поздних работах.
Коллингвуд, который был знаком только с первыми тремя томами, не смог разобраться в позиции Тойнби, несмотря на то, что последний неоднократно подчеркивает не только недостаточность эмпиризма, но и относительность исторического мышления. Данная относитель- ность касается и объективности историка: «В каждую эпоху и в любом обществе изучение и познание истории… подчиняются господствующим тенденциям данного времени и места» (Тойнби, 1991, с. 14, 21). В седьмом томе он еще раз повторяет и дополняет эту мысль: ни сами факты, ни заготовленные заранее исследовательские средства не могут гарантировать получение эмпирически проверяемого обзора. Не только потому, что не существует универсальных средств, которые можно заготовить заранее, но и потому, что, помимо фактов, историку нужно что-то еще. В исследовательский процесс вторгается элемент неопределенности – и по ходу исследования, и в виде знания, которое предшествует фактам и оказывается очень полезным для основной цели исторического исследования – поиска глубинных значений истории (Toynbee, 1954, VII, p. 116). Однако стоит только поставить вопрос именно так – о смысле и значении истории, – как в процесс познания истории включается не только голова, но и сердце, и потому напряжение между ними не менее важная часть работы историка (Ibid., р. 506). Проявляется эта относительность и в признании роли интерпретации в работе историка: «Конечно, поиском фактов можно заниматься сколь угодно долго. Однако рано или поздно ум человека… неизбежно придет к заключению, что все это множество фактов необходимо каким-то образом упорядочить. Наступает черед синтеза и интерпретации…» (Тойнби, 1991, с. 41). При этом Тойнби подчеркивает, что «ни одно собрание фактов никогда не является полным» (Там же) и цивилизация – это вообще не состояние, а движение и странствие (Тойнби, 1995, с. 48). И потому он заявляет об условности любых построений и схем. Весь комплекс возможных объяснений и гипотез Тойнби сравнивает с билетами, при помощи которых историк попадает в некое «помещение». В результате «мы получаем не добычу, за которой охотимся», а оказываемся, согласно нашему «билету», во вновь открытой стране (Toynbee, 1934, I, p. 270).
И уж тем более Тойнби категорически не согласен с отождествлением своей концепции цивилизации с концепцией Шпенглера в части ее биологизма. «Должен ли я рассматривать природу цивилизации как бессознательный материальный жизненный процесс, как это делал Шпенглер, или я должен рассматривать ее как ментальное движение идей, как это делал Коллингвуд? В конце концов, образ мышления Коллингвуда более строгий и основательный, чем у Шпенглера. Моя позиция заключается в том, что... культура передается обществом, а общество является общей основой между индивидуальными сферами деятельности многих людей. Нет сомнений, что человеческая природа также имеет подсознательные, инстинктивные и естественные части. Однако типичная характеристика человека ‒ желать, планировать и делать это осознанно. Поэтому моя позиция ближе к позиции Коллингвуда, чем к позиции Шпенглера ( Toynbee , 1954, X, p. 439).
Таким образом, Тойнби возражает против всех выдвинутых Коллингвудом интерпретаций и оценок его труда. Он не согласен, что историческое описание в «Изучении истории» основано на позитивистском взгляде на историю, согласно которому исторические факты обладают такой же объективностью, как в естественных науках. Он признает относительность исторического мышления, произвольный, а следовательно, интеллигибельный характер выделяемых им цивилизаций и несколько раз подчеркивает близость своей позиции к позиции Коллингвуда. Тогда в чем причина непонимания этими мыслителей друг друга? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться не только к общей проблематике, но и к деталям этой взаимной критики.
***
Первое и самое очевидное из напрашивающихся объяснений заключается в том, что критика Коллингвуда основывалась на первых трех томах «Постижения истории» и первоначальном замысле этой книги, а не на итоговом варианте тойнбианского труда. Хорошо известно, что концепция Тойнби претерпела серьезные изменения в конце 1930-х – начале 1950-х гг. под влиянием как внешних событий, так и личных катаклизмов [Воробьева, 2022, с. 74–98], приобретя вид философии истории, а не просто учения о цивилизациях. Это объясняет, почему при сходных с Коллингвудом изначальных интенциях (понять науку о человеческих делах) и даже близких высказываниях о специфике исторического мышления Тойнби в период вызревания замысла «Постижения истории» и написания первых томов не смог до конца определиться с ответом на этот вопрос. Отсюда метафорические аналогии цивилизаций с живыми организмами, акцент на эмпиризме, стремление к открытию законов развития человеческих сообществ. Эта неопределенность и незавершенность не позволили Коллингвуду увидеть «другую сторону» тойнбианских рассуждений об истории, в том числе заявлений Тойнби об интеллигибельном характере его построений – одном их важнейших, на наш взгляд, положений его концепции.
Собственно, непонимание этого положения привело Коллингвуда к критике якобы изолированности цивилизаций в построениях Тойнби. Его самое большое несогласие вызывала невозможность рассматривать западную цивилизацию как продолжение эллинской и способности цивилизаций оказывать влияние друг на друга. «Мы не имеем права утверждать, что Эллинистическая цивилизация превратилась в Западное христианство в процессе развития, включавшего усиление одних ее элементов, исчезновение других, возникновение новых в недрах самой этой цивилизации и заимствование некоторых элементов из внешних источников. Философским принципом, лежащим в основе набросанной нами картины, был бы принцип, утверждающий, что цивилизация может развить из себя новые формы, оставаясь в то же время самой собою. Принцип же Тойнби гласит: если цивилизация изменяется, то она перестает быть самой собой и возникает новая цивилизация. <…> Мы должны сказать совершенно точно, где кончается одно и начинается другое общество. Мы не имеем права говорить о постепенном переходе одного в другое» ( Коллингвуд , 1980, с. 155–156). Почему Коллингвуда так волнует этот момент? Дело, как мне кажется, в тех исходных теоретических посылках, которые выбрали для себя оба британских историка.
Тойнби как теоретик цивилизации предложил свою условную (!) категорию для понимания исторического процесса и выработал категориальный аппарат для различения цивилизаций. Он ни в коем случае не отрицал влияния эллинской цивилизации на западную, но, опять-таки согласно выбранным критериям анализа, подчеркивал их особость. Об условном характере такого деления исторического процесса свидетельствует, в частности, его тезис о философской эквивалентности цивилизаций. Очевидно, что Тойнби прекрасно понимал различие цивилизаций во времени и пространстве и не пытался сравнивать их на эмпирическом уровне. Он говорил об их философской (!) эквивалентности на уровне проблем, с которыми сталкиваются люди во все времена: войны, классовая борьба, культурные и социальные контакты с окружающими их народами и прочее, «сплетенные в паутину добра и зла» (Greek Historical Thought…, 1950, p. xxix–xxx; Тойнби , 1995, с. 23–24)2. Речь, скорее, идет об исследовании человеческой природы и духа сквозь призму разных цивилизаций. Неслучайно в последних томах Тойнби появляется идея истории как драмы поиска человеком Бога во времени, где цивилизации со своим опытом взлетов и падений являются лишь ступеньками, а, вернее, даже инструментами для постижения высших смыслов. И уж, конечно, Тойнби не рассматривал их как изолированные феномены. Об этом свидетельствуют последние тома «Постижения истории», содержание специальные разделы, посвященные контактам цивилизаций и их влиянию друг на друга.
Коллингвуда исторический процесс интересовал с иной точки зрения, а именно участия в нем человеческого разума. Его философия истории базировалась на взаимосвязи разума и природы. Согласно Коллингвуду, мир природы проходит несколько стадий, высшей из которых на данный момент является человеческая природа, благодаря появлению в ней разума и самосознания. Стало быть, изучение развития человеческой природы требует и уникальной дисциплины, каковой является история. Поскольку именно разум и самосознание оказываются в центре внимания Коллингвуда, то под историческим событием он понимает только такое, какое является продуктом целенаправленной рефлексии, и мысль как продукт этой рефлексии фиксируется в некоем культурном артефакте ( Коллингвуд , 1980, с. 394–390). Таким образом, историческое познание заключается в том, чтобы реконструировать мысль, выраженную в артефакте. Философия же посредством исторического познания развивает свои представления о разуме. Благодаря изучению этого интеллектуального опыта, познаются различные фазы развития человека. Самосознание разума во времени Коллингвуд и называет цивилизацией. И утверждает, что эта фаза человеческого развития указывает на возможность следующей фазы, в которой посредством самопознания все умы объединяются в полностью реализованном абсолютном разуме.
«Тогда абсолютный разум объединяет различия моего разума и разума других людей, но не так, как объединяет абстрактное всеобщее; скорее, как объединяет конкретное всеобщее истории. Абсолютный разум ‒ это историческое целое, частью которого является мое» ( Collingwood , 1924, p. 299). Именно поэтому Коллингвуда интересовала индивидуальная человеческая мысль, а не законы в истории.
Не сосредотачивая свое внимание на критике, которая может быть выдвинута против концепции Коллингвуда (а таковой было достаточно много), обратимся только к тем ее аспектам, которые помогут прояснить обмен взаимными претензиями Коллингвуда и Тойнби. Поставив в центр своей концепции развитие мысли, Коллингвуд мыслит цивилизацию как процесс познания разумом самого себя. В этой ситуации развитие западной цивилизации понимается им как постоянная реконструкция в себе достижений эллинской мысли, т.е. как глубоко внутренняя связь. Поэтому Предлагаемое Тойнби разделение между двумя цивилизациями кажется ему произвольным, поскольку сама история является развитием абсолютного разума. Другой его аргумент против подобного деления состоит в противопоставлении логического и исторического. Любая мысль в истории индивидуальна, в то время как тойнбианские цивилизации развиваются согласно общим и неизменным законам ( Collingwood , 1964, p. 12). Но такой способ познания характерен для неживой природы и совершенно не подходит для анализа человеческих дел. «Там, где логический ум ищет общие законы, исторический ум ищет конкретные факты и объясняет их, апеллируя к другим фактам, а не к законам» (Ibid., p. 14).
Суть же несогласия Тойнби заключается не в отрицании роли разума в развитии цивилизаций, а, как ему кажется, в абсолютизации его. Поклонение исключительно интеллектуальной мысли видится ему идолопоклонством, исключающим интуицию, откровение, эмпатию и другие способы постижения истории. На самом деле, если обратиться к трудам Коллингвуда, это ошибочное представление, потому что он считает другие формы познания мира включенными в интеллектуальное познание как предшествовавшие ему. Наконец, претензия Тойнби к Коллингвуду заключается в отсутствии Творца в его концепции, без чего невозможно понять смысл истории. Однако и здесь позиции двух ученых гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд: там, где в концепции Тойнби в качестве движущей силы исторического развития находится Творец, в концепции Коллингвуда – самореализация разума, стремящаяся, как уже было отмечено выше, к объединению в абсолютном разуме. «Призрак» Гегеля на горизонте очевиден в обоих случаях. Сказанное, кстати, позволяет еще раз усомниться в позиции Тойнби как позитивистской. Юношеский эмпиризм больше не удовлетворяет Тойнби. Теперь он утверждает (как и Коллингвуд), что строгий эмпиризм заставляет изучать факты истории таким образом, что их истинное значение не может быть обнаружено.
В свете этого вывода не кажутся столь уж противоположными представления Коллингвуда и Тойнби об относительности исторического мышления. Согласно Коллингвуду, эта относительность всегда достигается тем, что исследователь смотрит на свой объект не с нейтральной позиции, а из определенной точки в пространстве и во времени. Она же позволяет историку задавать вопросы и ставить проблемы. «Каждое настоящее располагает собственным прошлым, и любая реконструкция в воображении прошлого нацелена на реконструкцию прошлого этого настоящего, настоящего, в котором происходит акт воображения, настоящего, воспринимаемого “здесь и теперь”» (Коллингвуд, 1980, с. 235–236). Сам объект тоже не остается неизменным; он меняется в зависимости от того вопроса, который задает историк (Там же, с. 268–287)3. Тойнби в целом разделяет эту позицию (Toynbee, 1934, I, p. 16) и признает роль настоящего в видении прошлого: «Единственное, что высвечивается нам [нашим воображением. – О. В.], – это наше настоящее, наш собственный мир, который сконцентрирован вокруг нас и существует рядом с нами. Это единственное, что доступно нам ощутимо и в деталях» (Bodleian Library, b). И еще раз подчеркивает, что «каждый из… новых взглядов нарисует новую картину и в другой перспективе», но «спустя какое-то время <эти> попытки будут скорректированы и пересмотрены» (Ibid.). Однако Тойнби пытается подловить Коллингвуда на логической ошибке, связанной, по его мнению, с определением взаимоотношения между вечным и относительным объектом. Сам он рассматривал эту связь историка с объектом как его постоянное дополнение и полагал, что это дополнение является вечным (абсолютный объект). Для Коллингвуда же вечный объект – это такой объект, который может в любом месте и в любом времени быть воссоздан в сознании историка. Тойнби же, не обратив внимания на весь ход его рассуждений, увидел противоречие между его определением вечного объекта и утверждением о подвижности объекта, которая возникает благодаря относительности мышления историка, и пришел к выводу о том, что тот допустил ошибку. К сожалению, поскольку Коллингвуд ушел из жизни раньше, у него не было возможности пояснить свое решение противоречия между абсолютностью и относительностью исторических объектов. Другими словами, в данном случае Коллингвуд и Тойнби, скорее всего, опять не поняли друг друга, как, собственно, и в других деталях. Например, Коллингвуд полагал, что любое событие состоит из мысли внутри и внешних ее проявлений, и для понимания первой необходим глубокий анализ внешней ситуации. Нам кажется, эта ситуация очень близка к тому, что Тойнби называет социальной средой, в которой осуществляют свою деятельность и исторические акторы, и историки.
***
Таким образом, несмотря на внешнее различие концептуальных построений Коллингвуда и Тойнби (история идей у Коллингвуда и история цивилизаций у Тойнби), а также вытекающих из них методологических оснований, направленность их поисков и решение фундаментальных для историка вопросов не столь уж и различаются. Коллингвуд, критиковавший Тойнби за то, что тот не понимает субъективной предвзятости историков, упустил из виду признания Тойнби об относительности исторического мышления, а потому интеллигибельном характере своей теории цивилизаций. Тойнби же в своей критике концепции Коллингвуда как чрезмерно интел-лектуалистской не обратил внимания на роль в ней иррациональных процедур для понимания идей прошлого. Оба признавали специфику истории и отличие способа ее познания от естественных наук. Коллингвуд увидел смысл истории в прогрессивном самопознании человеческого разума, Тойнби (со временем) – в прогрессивном движении к Творцу, т.е. рассматривали историю как способ мышления для понимания человеческого духа. Оба были уверены, что историческое знание является видением реальности, которое содержит в себе все другие формы знания о ней. Первоначально сильные сциентистские интенции Тойнби по ходу написания «Постижения истории» уступили место их критике, поскольку строгий эмпиризм не позволял понять «истинное» значение фактов. Да и эмпиризмом то, что с самого начала делал в «Постижении истории» Тойнби, назвать сложно, равно как и выявляемые им «законы», которые на самом деле содержат сильную субъективную и иррациональную составляющую. Методологическое несоответствие между довоенными и послевоенными томами «Постижения истории» является следствием движения тойнбианской мысли и внесения корректировок в саму концепцию, в том числе в проблему понимания взаимосвязи между относительностью исторического мышления и наличием абсолютных объектов познания при признании этой относительности. В этой связи можно согласиться с мнением Х. Уайта, когда он пишет, что «и “идеализм” Коллингвуда, и гностическая теософия Тойнби, если они и конфликтуют по определенным пунктам, то согласны, когда нападают на позитивизм и эмпиризм как на неадекватные ответы на вопросы, задаваемые истории современным западным человеком» [ White , 2010, p. 21]. А также с тем, что оба историка создали заметную трещину в «броне» британской историографической традиции, долгое время избегавшей контактов с континентальным историцизмом и философией истории. В эпоху кризисов и Коллингвуд, и Тойнби осознали глубину и значимость связи между философско-историческим взглядом на историю и способами переживания настоящего и начали задавать вопросы не только истории, но и об истории.