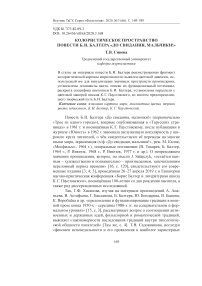Колористическое пространство повести Б.И. Балтера "До свидания, мальчики!"
Автор: Сивова Татьяна Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале повести Б.И. Балтера реконструирован фрагмент колористической картины мира писателя: выявлен цветовой диапазон, используемый им для визуализации значимых пространств произведения, установлены доминанты цвета, описан их функциональный потенциал, раскрыта специфика цветописи Б.И. Балтера, установлены параллели с цветовой манерой письма К.Г. Паустовского, во многом предопределившего творческий путь Б.И. Балтера.
Языковая картина мира, лингвистика цвета, термин цвета, идиостиль, б.и. балтер, к.г. паустовский
Короткий адрес: https://sciup.org/146281704
IDR: 146281704 | УДК: 81’373:82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.168
Текст научной статьи Колористическое пространство повести Б.И. Балтера "До свидания, мальчики!"
Повесть Б. И. Балтера «До свидания, мальчики!» (первоначально «Трое из одного города»), впервые опубликованная в «Тарусских страницах» в 1961 г. и посвящённая К. Г. Паустовскому, после публикации в журнале «Юность» в 1962 г. завоевала заслуженную популярность у широкого круга читателей, о чём свидетельствуют её переводы на многие языки мира, экранизация (х/ф «До свидания, мальчики!», реж. М. Калик, «Мосфильм», 1964 г.), театральные постановки (В. Токарев, Б. Балтер, 1964 г., Р. Виктюк, 1968 г., Р. Виктюк, 1977 г. и др.). О непреходящем значении произведения, которое, по мысли J. Sałajczyk, «остаётся ценным – художественно и познавательно – произведением, запечатлевшим переломный период времени» [16, с. 120], свидетельствуют его современные издания [3; 4; 5], проведённая 26–27 апреля 2019 г. в Евпатории научно-практическая конференция «Борис Балтер и литературная школа К. Г. Паустовского», посвящённая 100-летию со дня рождения писателя, а также ряд диссертационных исследований.
Так, Г. Ф. Хасанова, изучая на материале произведений А. Ананьева, В. Астафьева, Г. Бакланова, Б. Балтера, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьёва и др. «преломление и функционирование традиции в военной прозе конца 1950-х – середины 1980-х гг. на содержательном и формальном уровнях» [15, с. 3], рассматривает вопрос о соотношении антивоенных и державных идей, фольклорной и романтической традиций, выясняет «закономерности наследования традиций внутри типологической общности писателей» [Там же, с. 4]. Т. В. Садовникова, исследуя «феномен исповедальности и его проявления в наиболее характерных разновидностях повестей 1960-х гг.» [10, с. 3], отмечает, что конфликт в повести Б. Балтера «До свиданья, мальчики!» «не касается межличностных взаимоотношений, не носит внутриличностный характер, <…> а перенесён в плоскость противостояния человека и судьбы» [Там же, с. 14].
Н. П. Баландина, сопоставляя с позиций искусствоведения произведения «отечественного и французского кино конца 50-х – 60-х гг., в которых наиболее выразительно раскрываются образы города и дома» [1, с. 10], раскрывает тему южного города в кинематографе М. Калика. Автор исследует стиль и поэтику картины «До свидания, мальчики!» (1964 г.), отмечает интонацию ностальгии, «ставшую после этой картины личной “биографической” чертой творчества М. Калика и М. Та-ривердиева» [Там же, с. 18], а также, что важно в ракурсе настоящего исследования, характеризует колорит фильма: «По замыслу режиссёра, основой его стилистики стал синтез современного киноязыка со стилем довоенных лет. В картине “До свидания, мальчики!” Калик отказался от красочного решения своего предыдущего фильма и выбрал чёрно-белую фактуру кадра. Но из-за того, что в пространстве кадра так много солнца и моря, “кажется, что изображение не контрастно чёрно-белое, а сверкающее, серебристое”» [Там же, с. 19]. В свете изложенного, а также в связи с недостаточной степенью лингвистического интереса к произведению представляется значимым описание с позиций лингвистики цвета [8] колористического пространства повести «До свидания, мальчики!», которое послужит как реконструкции колористической картины мира писателя, так и его языковой картины мира в целом.
Колористический диапазон повести может быть представлен в модели поля, ядро которого составляют имена цвета, входящие в блоки цвета, согласно теории Р. М. Фрумкиной [14, с. 54].
Блок «красные»: красный 19, розовый 8, малиновый 2, алый , кровавый 1. В контекстах (далее цитаты по изданию [2] приводятся с указанием только номера страницы в круглых скобках): краска на Инкиных губах совсем была не видна; губы у неё всегда были очень красные (212); Волны катились под «Поплавком», а мне казалось, что плывёт веранда к розовому горизонту (228); Малинового цвета пористый нос Попан-допуло, казалось, пропитался вином (124); На воде проступали краски: сиреневые, алые , фиолетовые (98); Мишка Шкура выворачивал верхнюю губу и всем желающим показывал окровавленные зубы (97).
Квазиблок «оранжевые»: рыжий 14. В контексте: Инка тоже была рыжая – вся рыжая , от пышных волос и крупных веснушек вокруг носа до золотистого пушка на ногах (27).
Блок «жёлтые»: золотой 7, жёлтый 6, канареечный 2. В контекстах: К этому времени просыхали после зимних штормов пляжи и жёлтый песок золотом отливал на солнце (7); С наших ладоней круглый год не сходили мозоли, жёлтые и твёрдые, как ракушечник (10); Я помню маму на конце перрона в её чёрных туфлях с перепонками, в канареечного цвета носках и длинной юбке (259).
Блок «зелёные»: зелёный 16. В контексте: Этот двадцатипятилетний зеленоглазый грек с фигуркой подростка был окружён какой-то жгучей таинственностью (155).
Блок «синие»: голубой 26, синий 15. В контекстах: Глаза у него < дяди Пети> были такие же, как у Витьки, – голубые , только голубизна их была холоднее (66); Мимо нас прошёл мужчина в белых брюках и синем пиджаке (226).
Блок «фиолетовые»: сиреневый , фиолетовый , лиловый 1. В контекстах: На воде проступали краски: сиреневые , алые, фиолетовые , – все разных оттенков и густоты (98); под правым глазом будущий синяк ещё сохранял первозданную лиловатость (51).
Блок «серые»: чёрный 51, серый 8, мышиный 1. В контекстах: <собаки> шли, вздыбив на загривке шерсть и приподняв в свирепой улыбке чёрную бахрому губ (240); я натянул бумажные брюки мышиного цвета с широкой светло-серой полоской (51).
Блок «белые»: белый 56, белёсый 5, молочный 1. В контекстах: По воскресеньям город заполняли белые форменки моряков , и город отдавал им всё лучшее, что у него было (19); Горизонт закрывала белёсая пелена , прорезанная косыми полосами: с моря надвигался дождь, а над городом по-прежнему светило солнце (30); У него < Витьки> на затылке молочнорозовела незагоревшая кожа (131).
Блок «коричневые»: коричневый 6, бурый 1. В контекстах: С тех пор как я начал помнить маму, она ходила в тужурке из мягкого коричневого шевро и таком же кепи с широким закруглённым козырьком (36); Плавали бурые комки прошлогодних водорослей , окурки, клочки бумаги (30). «Промежуточное» ИЦ: медный 1. В контексте: там, где солнце касалось Инкиных волос , они отливали медью (78).
Квазиблок «кремовые» ( сливочный , цвет слоновой кости , телесный , кремовый , опаловый , палевый , бежевый , цвет кофе с молоком ) не используется в повести. Аналогично у К. Г. Паустовского: писатель избегает пастельных тонов в романах «Романтики», «Блистающие облака» [11], «Дым отечества» [13], в повестях «Кара-Бугаз», «Колхида» [11], лишь в гексалогии «Повесть о жизни» [Там же] отмечены единичные случаи употребления: <Аврора> летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья [9, т. 5, с. 98]; в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости [Там же, с. 269].
Таким образом, ядро поля цвета повести составляют термины цвета: белый 56; чёрный 51; голубой 26; красный 19; зелёный 16; синий 15;
рыжий 14; розовый , серый 8; золотой 7; жёлтый , коричневый 6; белёсый 5; канареечный , малиновый 2; алый , бурый , кровавый , лиловый , медный , молочный , мышиный , сиреневый , фиолетовый 1.
На основе некоторых из них ( белый , зелёный , рыжий , серый , синий , чёрный ) создаются расширяющие цветовой диапазон произведения и передающие оттенки цвета и его сочетания цветовые композиты (14 словоупотреблений). Наибольшую продуктивность проявляют термины цвета зелёный , серый , чёрный . По структуре композиты представляют собой двух- (13) и трёхкомпонентные (1) образования, с точки зрения семантики – являются словами со сложными основами, выраженными: а) терминами цвета: нигде не видал таких // Серо-зелёно-чёрных < глаз> , – читал Сашка (150); термином цвета и лексемой с имплицитным цветовым значением, напр. грязный ‘серовато-мутный, нечистый, с примесью других цветов’ (о цвете) [6, с. 233] ( брюки с грязно-рыжим оттенком ; трусы грязно-серого цвета ): волны вспухали до горизонта, и над ними взлетал грязно-серый треугольник паруса (250); б) термином цвета и лексемой со значением насыщенности цвета ( брюки с широкой светло-серой полоской ; светло-зелёное море ; ослепительно-белые пятна ): По глазам ударило море – густо-синее , в белых барашках (263); в) термином цвета и лексемой со значением ‘свет’, ‘тьма’ ( мутно-зелёный гребень волны ; навстречу мутно-зелёной стене < волны>, где мутный ‘тусклый’, ‘непрозрачный’ [Там же, с. 564]; в маслянисто-чёрной воде , где маслянистый ‘лоснящийся’, ‘блестящий’ [Там же, с. 523]): зажгли свет, когда мы уходили, огни отражались в маслянисто-чёрной воде (232).
Цветовые доминанты повести – белый , чёрный , голубой , в сопоставлении с последовательностью, репрезентирующей стандарт русского цветового языкового сознания – белый , красный , зелёный , жёлтый [7, с. 144], пересекаются лишь в точке цвета белый , отражая высокую степень индивидуально-авторского в восприятии цвета. Сопоставление с цветовыми доминантами некоторых произведений литературного учителя Б. И. Балтера К. Г. Паустовского, с одной стороны, обнаруживает традиционный для цветописи К. Г. Паустовского обусловленный романтическим мировосприятием контраст чёрный – белый , в котором у К. Г. Паустовского доминантой является чёрный : ср. роман «Романтики»: чёрный , белый , жёлтый / синий , гексалогия «Повесть о жизни»: чёрный , белый , красный [11], романы «Дым отечества»: чёрный , белый , красный [13, с. 217], «Чёрное море»: чёрный , белый , красный [12, с. 19]. Лишь в повести «Колхида» у К. Г. Паустовского доминирует: белый , красный , чёрный / синий [11]. С другой – вновь подтверждает уникальность авторского колористического восприятия Б. И. Балтера.
Доминанты цвета повести многофункциональны: они создают как колористические описания значимых пространств произведения, так и времени; в контрасте белый – чёрный проявляется романтическое мироощущение героев повести, юношей-романтиков, и её автора.
БЕЛЫЙ. Являясь доминантой цвета произведения, термин цвета белый создаёт колористические описания пространства человека, природы, а также города, творчества, игры, маркирует темпоральную координату.
Функционируя в пространстве человека, термин цвета белый в корреляции с соматизмами зуб , нога , палец , пятка , рука участвует в создании соматического кода произведения ( Инкина рука белела на перилах ; <Маруся> провела по моим волосам белой рукой ; белые зубы его < дворника> влажно блеснули и др.): Ноги у мамы были как мраморные: белые в синих прожилках (259); На его < Зайцева> загорелых ногах сверкали белые пятки (75). Более того - фиксирует влияние внешних факторов: Сжатые пальцы были выбелены солью и покрыты трещинами (73) и проявление психологических состояний персонажей: я видел, как побелели его < Жестянщика> пальцы , сжимавшие спинку (230).
Белый активен в создании вестиального кода произведения: в корреляции с вестонимами - муж. костюм , форменка , китель , брюки , сорочка , манишка , пояс , платочек ; жен. платье , косынка , носки , туфли создаёт колористические описания преимущественно мужских предметов одежды и аксессуаров ( мужчина в белом санаторном костюме ; мужчина в белых брюках ; с бантиком на белой сорочке ; король в чёрном фраке и в белоснежной манишке ; в трикотажных трусах с белым поясом ; <достал> из нагрудного кармана пиджака белоснежный платочек ): В белом фланелевом костюме , в заграничных туфлях, сплетённых из тонкой кожи, Жестянщик преображался (12), несущих дополнительную информацию, например о профессиональной принадлежности персонажа ( белые форменки моряков ; в белом кителе ): Белоснежные кителя , фуражки с крабами, золотые якоря (219). В меньшей мере термин цвета белый активен в описаниях женских предметов одежды ( в темноте белели их платья ; белые шёлковые носки ; носки белых туфель ): <Инка> в белой косынке , завязанной под подбородком, в синей выцветшей майке, из которой она выросла (233), а также предметов «вещного» мира: <бумажка> осталась лежать, белея на зелёной траве (109); наша ослепительно белая и мелкая, как пудра, соль (64).
В пространстве природы белый значим в колористической визуализации водного пространства ( озеро было покрыто белыми гребнями ; море в белых барашках ): Короткие волны с белыми гривами вспухали до самого горизонта (250), для чего спорадически актуализируется и световая составляющая (<в воде> , над которой белыми холодными огоньками вспыхивали брызги ). А также растительного мира (<акация> цвела долго, осыпая город белыми лепестками ; <водоросли> высохли и побелели ):
Свет рассеивался в белых листьях деревьев (215). В меньшей степени -воздушного пространства: В оконном стекле переливалось синее море и плыли белые облака (199).
Визуализируя пространство города, термин цвета белый создаёт как интерьер: Под гулким сводом стояли бочки с вином и белели два мраморных столика (124), так и городской экстерьер ( между деревьями белели здания ; на стенах домов выступали ослепительно-белые пятна ): тени акаций резко отделялись от выбеленной солнцем мостовой (26), воссоздаёт колористическое представление о городе в целом: Берег и город состояли из трёх цветов: белого, жёлтого и зелёного (251). Ср. у К. Г. Паустовского: Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было окрашено в три цвета: синий, белый и коричневый. Это был океан, паруса и белые корабли, коричневые люди и плоды [9, т. 1, с. 345].
Белый спорадически актуализируется в описании пространства шахматной игры ( белый ферзь ; атаки белого ферзя ; мне достались белые ): Мне удалось избежать мата, разменяв белопольных слонов (173) и творчества: он < гитарист> показывал всем, что в руке у него белая металлическая пластинка (192).
В создании колористического описания времени Б.И. Балтер использует словосочетание белые ночи ‘северные летние ночи, когда вечерние сумерки переходят в утренние без наступления темноты’ [6, с. 71], в котором, в первую очередь, актуализируется световая составляющая: В Ленинграде идут дожди. Белые ночи и дожди (199).
ЧЁРНЫЙ. Термин цвета чёрный актуализируется в колористических описаниях пространства человека и природы, игры, а также морской навигации, творчества, города.
Визуализируя пространство человека, термин цвета чёрный создаёт соматический код повести: чёрная голова короля гавайской гитары (182). Примечательно, что писатель не использует лексему брюнет для передачи цветового значения ‘черноволосый или тёмноволосый мужчина’ [Там же, с. 99]. Ср.: Джон Данкер кланялся и устало разводил руками, и прядка чёрных волос косо упала на его матово-смуглый лоб (196), а также: Блондинки все податливы. А чёрная на любителя (198), где чёрный разг. ‘смуглый и черноволосый’ [Там же, с. 1474]. Б. И. Балтер прибегает к интенсификации цветового впечатления ( чёрные, со смоляным блеском волосы ; запавшие чёрные глаза её блестели ): Надеюсь, ты понимаешь, что происходит в мире? – мамины запавшие глаза блестели в чёрных глазницах (49), а также расширяет оттеночную палитру цвета: Но нигде не видал таких // Серо-зелёно-чёрных < глаз> (150).
Чёрный активен в создании вестиального кода повести, в первую очередь, колористических описаний мужских предметов одежды и аксессуаров (брюки, костюм, трусы, повязка, оправа): в чёрном костюме из грубого сукна; мужчина в чёрных трикотажных трусах; второй <глаз> прикрывал кружок чёрной материи; чёрная повязка вам очень идёт; рабочие очки в чёрной оправе и др. В контексте: жил в собственной даче, ездил по городу в красном лакированном экипаже, одетый во фрак, с чёрным бантиком «собачья радость» на белой сорочке (125). В меньшей степени - женских: подол голубого платья в чёрный горошек (78); Чёрные туфли с перепонкой, на низком каблуке (48).
В пространстве природы с термином цвета чёрный коррелируют номинации, репрезентирующие растительный мир ( бархатно-чёрные тени акаций ; чёрная тень акаций ; листья отбрасывали чёрные тени ): чёрная тень деревьев обрывалась у кромки тротуара (159) и водное пространство ( в маслянисто-чёрной воде ; огни кораблей отражались в чёрной воде ): потом курзал, а после концерта купание в чёрной и тёплой воде (17). Спорадически - небесное пространство: В чёрном небе чего-то искали прожектора (243); когда гас земной свет, небо становилось бархатно-чёрным (186), ландшафт: Чёрная степь отделилась от посветлевшего неба (244) и животный мир: <собаки шли>, приподняв в улыбке чёрную бахрому губ (240).
Значимое в повести пространство морской навигации также получает колористическое описание с помощью термина цвета чёрный : в море, где виднелись чёрные чёрточки рыбачьих лодок (100); на песке чернели просмоленные борта парусно-моторных баркасов (26). Актуализируется чёрный и в создании пространства игры ( прикрытый ладьёй и чернопольным слоном ; чёрные быстро вводили в игру все свои фигуры ; повести сильную атаку на чёрного короля ; взял пешкой чёрного коня ; расставляя чёрные фигуры ): вместо королевского коня чёрные вывели ферзевого (175), спорадически – в визуализации пространства творчества: В чёрной глубине сцены закрылся прямоугольник света (191) и города: Улица упиралась в чёрный провал пустыря (201).
Опосредованная цветовая характеристика времени в повести становится результатом пересечения пространственной и темпоральной координат в точке цвета: У Жени было продолговатое лицо с бархатистой, будто припудренной кожей и чёрные , как ночь , глаза (80).
ГОЛУБОЙ. Термин цвета голубой используется Б. И. Балтером в колористической характеристике пространства человека, природы (селекции), также символического пространства и пространства творчества.
Цветообозначение голубой , константно коррелируя с соматизмом глаз , создаёт соматический код повести, в котором находит отражение авторский колористический стереотип: сквозь очки я видел его острые голубые глаза (174), причём Б. И. Балтер акцентирует внимание как на собственно цветовой составляющей, в которой значимы: а) сочетание цветов: увидел зоркий взгляд его голубых с чёрным зрачком глаз (175);
б) оттенок цвета: <глаза> голубые, только голубизна их была холоднее (66); в) интенсивность цвета, обусловленная пространственным фактором: голубизна их глаз < морских девчонок> то сгущается до синевы , то бледнеет , становясь почти прозрачной (163), так и на световой: опухоль спала, и голубой глаз блестел (131). Отметим, что цветовой спектр глаз в повести широк: включает как термины цвета, так и авторские цветоо-бозначения ( его глаза, обычно белёсые ; желтоватые , как у стариков, белки ; зеленоглазый грек ; глаза у Инкиной мамы были тоже рыжие ; серые глаза Кати ; глубоко запавшие чёрные глаза , а также: глаза, переменчивые, как цвет моря ; <глаза> как будто вобрали в себя цвет <голубых> роз ), вместе с тем голубой цвет глаз является приоритетным. Цветовая характеристика глаз может стать результатом пересечения пространственных плоскостей (природы и человека): Море и Катины глаза были одного цвета (163).
Голубой используется в создании вестиального кода произведения ( рубаха , рубашка ; платье , каёмка , зонтик ) – колористических описаний как мужских предметов одежды ( где голубая рубашка? ; ничего против голубой шёлковой рубашки я не имел ): Какую рубаху приглаживать? Голубую ? (101), так и женских: подол голубого платья в чёрный горошек (78); в носках канареечного цвета с голубой каёмкой (48).
Термин цвета голубой принимает участие в колористической визуализации природного пространства, а в нём – небесного: только небо голубело над крышами домов (46), а также значим в смежном пространстве - в пространстве селекции ( выращивал голубые розы ; вывел три новых сорта, а голубых нет ; голубые розы были недолговечны ): Я, как и прежде, не понимал, чем садовник недоволен: он и его голубые розы прославили наш город (241), которое пересекается с символическим: С годами чувства притупляются и голубая роза уже представляется не живым цветком, а экзотической декорацией (242). Спорадически актуализируется в пространстве творчества: На со-о-олнечном пля-я-яже в июне // В своих голубых пижамах, – заныл Сашка и тут же спросил (150).
Колористическое описание временного отрезка (темпоральная координата «Утро») основано на пересечении небесного и растительного пространства повести в точке цвета голубой : Каждый вечер, когда балерина исполняла последний танец, в проходе перед сценой появлялась билетерша с корзиной голубых , как утреннее небо , роз (12).
Таким образом, доминанты цвета моделируют значимые пространства повести, причём белый и чёрный проявляют наибольшую активность в визуализации пространства человека и природы, а также шахматной игры, голубой – пространства природы ( роза ) и человека ( глаза ); опосредованно используются в создании колористических описаний временных отрезков.
Околоядерная зона колористического поля повести включает:
-
а) группу лексем, не входящих в блоки цвета, однако зафиксированных в лексикографии, например: радужный ‘имеющий цвет радуги’ [6, с. 1058]: В глазах её, полных слёз, блеснули радужные искры (162); седой ‘серовато-белый, белёсый’ [Там же, с. 1170]: жилистый дядька с круглой, стриженой и седой головой грузил пустые тачки (67); смоляной ‘чёрный и блестящий’ [Там же, с. 1219]: У него были очень белые зубы, резкие морщины в углах рта и чёрные, со смоляным блеском волосы (182);
-
б) стилистически маркированные цветообозначения, например: млечный трад.-поэт. ‘белый, цвета молока’ [Там же, с. 547]: пол – морской песок, над головой проступало млечное небо с бледными звёздами (186);
-
в) авторские цветономинации ( бархатно-чёрные тени акаций ; в маслянисто-чёрной воде ): Когда гас земной свет, небо становилось бархатно-чёрным и звёзды на нём мерцали (186); На последнем концерте я увидел его глаза : обычно белёсые, они светились ярко и холодно, как будто вобрали в себя цвет <голубых> роз (12). Примечательно использование Б. И. Балтером цветообозначения цвет расплавленного золота : Я никогда не видел расплавленного золота , но был уверен, что оно такого же цвета , как Инкины глаза (27). Ср. у К. Г. Паустовского в «Романтиках»: Несколько дней < Винклер> пытался смешать краски так, чтобы получился цвет расплавленного золота [9, т. 1, с. 148]. В создании авторских номинаций Б. И. Балтер актуализирует также световую составляющую: В выбоинах тротуара, мощённого кирпичом, блестели слепые от заката лужи [Там же, с. 35].
Ближняя периферия цветового поля повести включает группу лексем с корнем цвет - ( цвет , цветной , разноцветный , расцветка - выцветший ). В контекстах: Диаграммы очень красивые - цветные (41); у нас даже был буфет - громоздкий, с разноцветными стёклами (32). Причём цвет получает темпоральную ( былой цвет ), оценочную характеристику ( в носках нелепого цвета ; необыкновенный цвет ), писатель фиксирует его утрату: в синей выцветшей майке , из которой она выросла, и в сатиновой юбке (233); в бриле, в выцветших синих брюках с матерчатыми подтяжками садовник работал в розарии (241).
Дальняя периферия цветового поля состоит из:
-
а) лексем, содержащих общую интегральную сему с цветовым признаком имплицитно ( блондинка , веснушки , загар , загорелый , клетчатый , обветренный , полосатый , пудра и др.). В контекстах: Блондинки все податливы (198), где блондинка ‘белокурая светловолосая женщина’ [6, с. 85]; в туфлях из коричневой парусины с кожаными носками и в клетчатой рубахе-ковбойке (102), где клетчатый ‘имеющий рисунок, узор в клетку’ [Там же, с. 432]; Мы были мало знакомы с этим широкоплечим парнем в брюках клёш и полосатой тельняшке и знали его только
как местную знаменитость (21), где полосатый ‘покрытый полосами, имеющий узор, рисунок в виде полос, с окраской в полоску’ [Там же, с. 906] и др.;
-
б) лексем со значением интенсивности окраски ( бледный , побледнеть , поблёкнуть , холодный - густой , густота , яркий , ослепительно-яркий и др.). В контекстах: глаза у неё были прозрачные, как у морских девчонок, а полные губы слегка подкрашены и всё равно были бледные (231), где бледный ‘лишённый интенсивной окраски’, ‘утративший яркость и свежесть тона’ [Там же, с. 83]; Опухоль спала, и голубой глаз блестел, окружённый густой синевой (131), где густой ‘чрезвычайно обильный, интенсивный’, ‘насыщенный, яркий, сочный’ (цвет) [Там же, с. 236];
-
в) лексем со значением ‘утратить (первоначальный) цвет’ ( выгореть , вылинять , вымазать , поблёкнуть и др.). В контекстах: женщина снимала лозунги: от солнца и соли быстро выгорала красная материя (76), где выгореть ‘потерять цвет, окраску под воздействием солнечных лучей’, ‘выцвести’ [Там же, с. 169]; <в рубахе> , вылинявшей и пропахшей потом (102), где вылинять ‘потерять первоначальный яркий цвет’ [Там же, с. 174];
-
г) образных цветообозначений, актуализирующих цветовое значение в контексте: город менял своё лицо, делался шумным, нарядным (10);
-
д) лексем с цвето-световым значением, демонстрирующих закономерную связь цветовой и световой составляющей: впервые на этих пустынных пляжах, у моря , переливавшегося блеском до самого горизонта, я понял, что живётся мне очень легко и свободно (77); Солнце садилось, и стекло на нашем столе горело (228).
Таким образом, использование модели поля в описании колористического спектра произведения позволяет выявить широту лексических средств, используемых Б. И. Балтером для передачи цветового признака, а также переход от информативной (колористической) составляющей к эмоционально-выразительной и обусловленный физической природой цвета переход от цветовой к световой составляющей.
В функционировании терминов цвета проявились некоторые закономерности цветописи Б. И. Балтера, среди них: 1) взаимодействие цвета и света (<в глазах> блеснули радужные искры ; рельсы вспыхивали малиновыми отсветами ): Она откинулась на спинку стула, сцепив на затылке руки, и сверху на меня лился свет её рыжих глаз (144);
-
2) использование приёма контраста, основанного как на традиционно оппозиционных ( белый - чёрный ): Белые листья деревьев отбрасывали чёрные тени (201), так и других терминах цвета: В оконном стекле переливалось синее море и плыли белые облака (21);
-
3) создание описания на основе цветовой гармонии: Солнце уже село, и в чуть розоватом воздухе синели плоские очертания гор (232);
-
4) расширение границ сочетаемости цветолексики ( рыжие глаза ): сверху на меня лился свет её рыжих глаз (144) как проявление тенденции к интенсификации восприятия действительности: посмотреть на шестерых коричневых от загара мальчишек , вытаскивающих «мёртвые» мячи, собиралось много отдыхающих (17);
-
5) использование элементов синестезии: Природу не обманешь. Нет роз голубых оттенков. Наверное, голубой цвет не имеет запаха . А роза без запаха не бывает (241).
-
6) изображение отражённого цвета: в оконном стекле переливалось синее море (21);
-
7) передача динамики цвета: <Нюра> улыбалась, а глаза её, переменчивые , как цвет моря , подозрительно щурились (95);
-
8) проведение колористических параллелей: Такие <рыжие> глаза , как у Инки , я видел ещё у рыжих собак (27); Но особенно Серёжа нравился Инке - наверно, потому, что тоже был рыжим (39);
-
9) нивелирование границ пространства: Горы синели и постепенно сливались с небом и морем (232). Ср. у К. Г. Паустовского: Нельзя было отличить, где белое небо сливается с белой землёй [9, т. 4, с. 231];
-
10) широкое использование сравнения для передачи цветового признака ( желтоватые, как у стариков, белки ; мозоли, жёлтые и твёрдые, как ракушечник ; и небо там как синее стекло; голубых, как утреннее небо, роз ; ноги у мамы были как мраморные: белые в синих прожилках ; чёрные, как ночь, глаза ; такого же цвета, как Инкины глаза и др.): Столбы фонарей прятались между деревьев, и горящие в листве лампочки были похожи на бледные желтки (102); Серёжа отправлялся на пляж. Тени он не признавал. Что из этого получалось, представить не очень трудно: варёный рак по сравнению с ним казался бледным (39).
Таким образом, выявленный обширный колористический спектр повести Б. И. Балтера свидетельствует о внимании писателя к цветовой составляющей в организации текста, а широта лексических средств для передачи цветового значения – о художественном мастерстве писателя, принадлежащего к литературной школе К. Г. Паустовского. На фоне возможного влияния творческой манеры К. Г. Паустовского Б. И. Балтер демонстрирует уникальность собственной перцепции и визуализации цвета, авторской манеры цветописи.
Список литературы Колористическое пространство повести Б.И. Балтера "До свидания, мальчики!"
- Баландина Н.П. Образы города и дома в киноискусстве: на материале отечественного и французского кино конца 50-х - 60-х гг.: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03 / Н.П. Баландина; Всерос. гос. ун-т кинематографии. М., 2008. 30 с.
- Балтер Б.И. До свидания, мальчики! М.: Сов. писатель, 1978. 264 с.
- Балтер Б.И. До свидания, мальчики! М.: Текст, 2013. 252 с.
- Балтер Б.И. До свидания, мальчики! М.: Эксмо, 2007. 527 с.
- Балтер Б.И. До свидания, мальчики! М.: Энас-книга, 2018. 305 с.
- Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
- Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М.: Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН, 1999. 180 с.
- Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. Термины цвета в польском и русском языках. М.: Моск. Лицей, 2001. 470 с.
- Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Худож. лит., 1981-1986. Т. 1: Романы и повести. 1981. 623 с.; Т. 4: Повесть о жизни. Кн. 1-3. 1982. 734 с.; Т. 5: Повесть о жизни. Кн. 4-6. 1982. 591 с.
- Садовникова Т.В. Исповедальное начало в русской прозе 1960-х гг.: на материале жанра повести: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Т.В. Садовникова; Ур. гос. ун-т. Екатеринбург, 2004. 22 с.
- Сивова Т.В. Взаимосвязь цвета, света и хронотопа в языке произведений К.Г. Паустовского: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 / Т.В. Сивова; Белорус. гос. ун-т. Минск, 2018. 29 с.
- Сивова Т.В. Колористическое пространство повести К.Г. Паустовского "Чёрное море" // Езиков свят (Orbis Linguarum). 2019. Т. 17. Кн. 2. С. 17-25.
- Сивова Т.В. Колористическое пространство романа К.Г. Паустовского "Дым отечества" // Studia Wschodniosłowiańskie. 2018. Т. 18. С. 213-234.
- Фрумкина P.M. Цвет. Смысл. Сходство (аспекты психолингвистического анализа). М.: Наука, 1984. 175 с.
- Хасанова Г.Ф. Военная проза конца 1950-х - сер. 1980-х гг. в контексте литературных традиций: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Г.Ф. Хасанова; Орлов. гос. ун-т. Орёл, 2009. 23 с.
- Sałajczyk J. Zapomniany "szestidiesiatnik" // Przegląd Rusycystyczny. 2011. № 2 (134). С. 115-120.