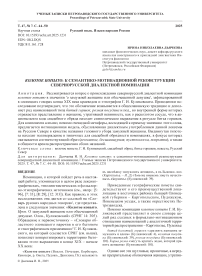Колотое копыто: к семантико-мотивационной реконструкции северно русской диалектной номинации
Автор: Дьячкова И.Н.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о происхождении севернорусской диалектной номинации колотое копыто в значении ‘о замужней женщине или обесчещенной девушке’, зафиксированной в олонецких говорах конца XIX века краеведом и этнографом Г. И. Куликовским. Проведенное исследование подтверждает, что это обозначение вписывается в общеславянскую традицию и дополняет ряд наименований типа битый горшок, розная посудина и под., во внутренней форме которых отражается представление о женщине, утратившей невинность, как о расколотом сосуде, что в акциональном коде свадебного обряда находит символическое выражение в ритуале битья горшков. Для компонента копыто, помимо очевидной метафоры, восходящей к прямому значению этого слова, предлагается мотивационная модель, обусловленная диалектным употреблением данной лексемы на Русском Севере в качестве названия головного убора замужней женщины. Выдвинутая гипотеза находит подтверждение в типичных для свадебной обрядности номинациях, в фокусе которых оказывается соответствующий образ (венчанные, бесшамшурная, пустоволоска, покрытка), а также в общности ареала распространения обоих названий.
Колотое копыто, Г. И. Куликовский, свадебный обряд, битье горшков, невеста, Русский Север
Короткий адрес: https://sciup.org/147252146
IDR: 147252146 | УДК: 811.161.1'28 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1231
Текст научной статьи Колотое копыто: к семантико-мотивационной реконструкции северно русской диалектной номинации
Номинация, о которой пойдет речь в настоящей работе, упоминается в целом ряде лексикографических, этнолингвистических и фольклорно-этнографических источников (см., напр.: [5: 96], [7: 35], [8: 29], [12: 313]). Как правило, в этих исследованиях она дается со ссылкой на «Словарь русских народных говоров»1, где представлена в следующем значении: « Колотое копыто . Ирон. О замужней женщине или обесчещенной девушке. Олон., Куликовский» (СРНГ 14: 305). Обращение к первоисточнику – «Словарю областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении»2 Г. И. Куликовского, на который ссылается СРНГ (см. выше), позволяет конкретизировать территорию бытования этого выражения в конце XIX – начале XX века:
«Колотое копыто (Водлоз. Почезеро, Корбозеро, Кенозеро, р. Онега, Пудожъ, Данилово, Пт.) называютъ въ насмѣшку замужнихъ женщинъ, а въ Быковск. вол. (Каргополье. – И. Д.) тѣмъ-же именемъ зовутъ нечести-выхъ дѣвушекъ» (Куликовский: 39).
Приведенные географические пометы свидетельствуют о его преимущественной локализации в восточных районах бывшей Олонецкой губернии – Каргопольском, Пудожском, Повенецком уездах, а также окрестностях Петрозаводска.
Помимо номинации колотое копыто Г. И. Куликовский представляет в своем словаре целый ряд сходных в формально-мотивационном отношении наименований с аналогичной территорией распространения – Каргополье, Пудожье:
битый (колотый) горшокъ «дразнятъ женщинъ за-мужнихъ и вдовъ» (Куликовский: 4), колотая посудина (Куликовский: 39), розная посудина (Куликовский: 101). Корма розна «могутъ кричать лодке, которой пра-витъ женщина» (Куликовский: 101).
Однако все эти шутливые, ироничные, а нередко презрительные обозначения женщин, утратив- ших невинность, с использованием лексем горшок и посудина в контексте символики свадебного обряда, о чем будет сказано далее, получают достаточно прозрачную мотивировку, чего нельзя сказать об их именовании копытом, не вписывающемся в общую картину и заставляющем искать иные причины и объяснения его внутренней формы.
Определение этих причин, связанных с традициями и символикой севернорусского свадебного обряда, является предметом и целью проведенного исследования, направленного на выяснение так называемой «культурной этимологии» (термин С. М. Толстой [15: 223]) рассматриваемого наименования. В этнолингвистике приемы и принципы разработки подобных этимологических решений основываются на методе семантико-мотивационной реконструкции, который применяется в тех случаях, когда, как отмечает Е. Л. Березович,
«изучаются лексические единицы, представляющие собой результат вторичной номинации или ее источник <…> Такой материал может не ставить перед исследователем сугубо этимологические проблемы, предполагающие собственно корневую идентификацию, учет фонетико-словообразовательных закономерностей и пр. Проблемы состоят главным образом в реконструкции мотивировки и обнаружении историко-культурного контекста, стоящего за словами. Подобная реконструкция, как правило, невозможна для отдельного, рассматриваемого вне системных связей, изолированного слова; его необходимо поместить в мотивационный ряд, восстановить звенья сети, которая соединяет изучаемое слово с другими, обнаружить структуру этой сети» [2: 204–205].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку в нашем случае речь идет о двухсловной номинации, остановим вначале внимание на ее первом компоненте – лексеме колотый. В символике славянского свадебного обряда это наименование и его синонимы (битый, розный – в словаре Куликовского) восходят к ритуалам битья (продырявливанья) посуды, которое традиционно устраивалось после первой брачной ночи и служило обозначением утраченной невестой девственности [14: 194]. С. М. Толстая отмечает, что наряду с привлечением цветового кода (демонстрация простыни, рубашки молодой и др.) семантическая оппозиция «целое – нецелое, разбитое, разорванное, истолченное и т. п.» является одним из наиболее древних и типичных способов «овеществления» в славянской свадебной обрядности «метафоры “женщина (женское лоно) – сосуд”, находящей подтверждение во многих языковых номинациях и культурных явлениях (ритуалах, верованиях и др.)» [14: 194]. В этно- графических исследованиях отмечается, что «подать родителям “худой” (т. е. плохой, дырявый) кубок с вином» был одним из самых старых (известных с XV века) способов «осрамления» нечестной невесты в ходе русской свадебной церемонии [11: 197].
Обычай разбивать горшки во время свадебного обряда на Русском Севере фиксируется повсеместно. См., например, как описывается ритуал «бужения» молодых у поморов в словаре И. М. Дурова3, где представлен материал начала XX века:
« Будить молодых. Свадебный обычай, теперь отживающий вместе с традициями поморской свадьбы. Состоит он в следующем. Утром рано, на следующий день после венца, один из старших в семье (невестка, брат, деверь, тетка) берет глиняный горшок или какую-либо нещелявую (цельную) глиняную посудину и, с силой ударяя, бросает его к дверям комнаты молодоженов. Разбив в черепки посуду, будильщик уходит <…> Этот обычай несколько будет циничным в своем значении; он дает намек на превращение девушки в женщину. <…> Повс.» (Дуров: 40–41).
Аналогичный обычай в архангельских и ярославских говорах так и назывался бить горшки : «когда бьют посуду, поднимая молодых после первой брачной ночи» (АОС4 9: 376; ЯОС5 1: 60). В Северном Прикамье похожий обряд именовался ломать (бить) корчагу :
« Ломать (бить) корчагу. Ритуальное определение “честности” молодой, когда жениху после брачной ночи поручалось разбить глиняный сосуд. Если честная невеста, так жених корчагу утром ломает. <^> Спать повезут молодых с гармонью, с рыбным пирогом, с вином. Мать, отец, свахи провожают. Утром они же идут будить с подносом. Корчаги потом ломали » (ЭССП 6 : 84).
Ритуальное битье горшков на второй день свадьбы было распространено в Заонежье. Если невеста была честной, то крестная бросала об пол глиняный горшок со словами: «Хороши наши молодые!», в противном случае «для битья выдавался горшок, имеющий трещину» [9: 248]. Если невеста оказывалась девственницей, на стол могли выносить горшок с вареным молоком, перевязанным красной лентой, такие же ленты привязывались к рюмкам, которыми чествовали молодых после первой брачной ночи. Существовал также обычай будить молодых «под гром горшков»: «Бьют горшки в знак лишения девичьей чести» [9: 247].
В Тарногском районе Вологодской области, когда будили молодых, горшок разбивали о стену или о порог горницы. Свекровь при этом могла приговаривать: «Хороший был горшочек, жалко горшочка!» В некоторых деревнях после разбивания горшка невеста одаривала све- кровь горшечником – специальным полотенцем для доставания горячих горшков из печи [1: 297, 366].
В Северном Прикамье, перед тем как разбить горшки, их могли надевать на головы молодым:
«на второй день свадьбы надевали горшки жениху с невестой на голову, затем их били (со словами “где бьется, тут и живется”, затем черепки выбрасывали на огород, “чтоб в огороде велось и чтоб дети были”; также осколки от битых горшков подкладывали под подушку брачной постели жениха и невесты)» (ЭССП: 219).
Ритуальное битье горшка могло заменяться его «продырявливанием»: в Красновишерском районе Пермского края этот ритуал совершала свекровь, которая после пробуждения молодых ломала горшок черенком ухвата, ударяя им в дно глиняного горшка (ЭССП: 302).
На фоне сказанного становится понятна мотивационная основа севернорусских выражений битый (колотый) горшок, колотая посудина , розна (то есть ‘дырявая’) посудина, которые фиксируются в словаре Г. И. Куликовского. Все они подчеркивают отнесение женщины к определенной социовозрастной группе посредством апелляции к свадебному ритуалу, который этот статус за ней закреплял. Этнографический материал подтверждает, что разбивание горшков как метафора дефлорации могло приобретать как положительный (если невеста сохраняла целомудрие до брака), так и отрицательный (если невеста оказывалась «порченой») смысл. Это обстоятельство объясняет, почему аналогичный образ в народной речи использовался в том числе для обозначения нечестных невест. Отсюда понятна и коннотативная окраска подобных выражений, которую отмечают словари: заключая в себе прозрачный намек на физиологические подробности, связанные с телесным низом, символическим коррелятом которых выступало битье горшков, эти наименования либо выражали иронично-шутливый подтекст по отношению к женщине, «законно» утратившей невинность, либо презрительно клеймили ту, что не сумела сохранить свою девичью честь до брака.
Представление о потерявшей невинность женщине как о разбитой / продырявленной посуде находит отражение и в других севернорусских диалектных номинациях. К ним можно отнести, например, такой глагол, как обрешетиться в значении ‘(насм.) нарушить девство до замужества’, зафиксированный А. И. Подвысоцким7 в онежских говорах (Подвысоцкий: 106). Сход- ный мотив прочитывается в устойчивом эвфемистическом обороте ломать донышко (перм.), обозначающем коитус: Спали молодые, дёнышко-то ломали (ЭССП: 85). Образ не расколотого, но тем не менее «испорченного» горшка лежит в основе выражения снятая криночка: «Снятая криночка. Яросл. Ирон. О девушке, утратившей невинность до замужества» (ЯОС 5: 90). Наконец, в Словаре русских говоров Карелии находим в каргопольских говорах еще одно именование, синонимичное отмеченным Г. И. Куликовским, - ломаный горшок, но уже с более специализированным значением ‘жена новобранца’: Ночь проспит, проспит, да в армишку уедет, а она останется ломаной горшок. Карг. (СРГК8 1: 378).
Обратимся далее ко второй части рассматриваемой номинации – лексеме копыто , которая, как уже было отмечено выше, не вписывается в представленный ряд. Данный вывод подтверждается анализом значений слова копыто в исторических и диалектных словарях, поскольку ни в одном из них не отражается его связь с наименованием какого-либо сосуда, что свидетельствует о семантической мотивации иного рода.
С одной стороны, существуют весомые основания обратиться в данном случае к прямому значению этой лексемы, исходя из которого выражение колотое копыто может быть определено как метафора, связанная с образом ступни парнокопытного животного (коровы, овцы). К аргументам, говорящим в пользу этой версии, например, можно отнести то, что бык и корова в свадебном обряде (наряду с петухом и курицей) в целом считаются «наиболее распространенными символами жениха и невесты, общими для всех славян» [4: 793]. Известно, что к слову корова восходит название каравая , который воплощал в себе соответствующую анималистическую символику. Повсеместно у русских при сватовстве использовались приговоры, в которых высказывалось желание купить корову или телушку либо найти корову для своего быка [4: 240]. А. В. Гура отмечает, что в смоленских говорах девушку на обручении иногда называли коровкой , также у русских на второй день свадьбы был известен шуточный обычай под названием искать телушку (или искать ярку ) – спрятанную невесту [4: 104, 240]. Однако приведенные аргументы все-таки оставляют сомнения, поскольку во всех рассмотренных случаях в качестве символического коррелята невесты выступает название самого животного, тогда как представление о копыте коровы или овцы нигде не встречается.
Стремление найти альтернативу данному решению привело нас к иному значению слова копыто , которое отмечается в севернорусских говорах и закрепляется за названием одноименного головного убора, который носили в ряде районов Русского Севера замужние женщины. См. у В. И. Даля: « Копытце ср. умалит. арх. кокошник» (Даль9).
Словарь А. И. Подвысоцкого уточняет территорию распространения и раскрывает мотивировку этого названия: « Копыто, Копытцо – женскiй головной уборъ, сходствующiй формою съ копытомъ, – въ родѣ кокошника, но выше его. Онеж., Холм., Пин.» (Подвысоцкий: 70). Ссылаясь на А. И. Подвысоцкого и В. И. Даля, «Словарь русских народных говоров» фиксирует оба варианта, отмечая их функционирование в данном значении также в олонецких и вологодских говорах (СРНГ 14: 305). В словаре Г. И. Куликовского эта лексема не отмечена, но чрезвычайно любопытен для нас комментарий, который составитель дает для другого женского головного убора – сдерихи , важным конструктивным элементом которого была твердая подковообразная основа в виде копыта, на которое крепилось очелье сороки: «Сдериха (Кеноз., р. Онега, Б. Шалга, Пд.) головной уборъ молодой замужней женщины въ видѣ лошадинаго копытца (выделено мною. - И. Д .), поддерживающий сороку» (Куликовский: 105). Обращает на себя внимание то, что для данной реалии обозначен практически тот же географический ареал, что и для анализируемого нами выражения.
Этнографические источники подтверждают, что сдериху за особенности формы также называли на Русском Севере копытом . Так, Н. И. Лебедева и Г. И. Маслова отмечают, что «наиболее значительная область распространения копытообразной кички, известной под названием “копыто”, “сдериха”, – Олонецкая, Архангельская и частично Вологодская губернии» [10: 25]. Свидетельствуют об этом и другие источники: о распространении в Каргопольском и Онежском уездах Олонецкой губернии сдерих с «копытцами» пишет Г. А. Григорьева – автор каталога «Головные уборы Русского Севера» [3: 5], она же отмечает, что отличающиеся по форме, но с той же твердой подковообразной основой шапочки-«копыта» носили замужние женщины в Шенкурском уезде Архангельской губернии, Яренском и Сольвычегодском уездах Вологодской губернии [3: 7].
Чтобы объяснить, почему связь с копытом – головным убором кажется вероятной в случае с обсуждаемым выражением, обратимся к типологическим параллелям. Первая и наиболее известная закреплена в таких номинациях, как общенар. венчаться, венчание, венчанные, из-под венца, помор. венец, венца смотреть (Дуров: 48), в которых оказывается запечатленным именно образ головного убора, которым покрывают головы брачующихся во время свадебного обряда. А. В. Тихомирова дополняет этот список такими диалектными номинациями, как орл., сиб. принимать венец ‘вступить в брак, венчаться’, печор. без венца ‘без проведения обряда венчания’, пск. наложить венки ‘обвенчать кого-либо’, сиб. изломать венец ‘экспр. разойтись с мужем’ [13: 44]. С. М. Толстая отмечает, что в Полесье «порченой» невесте не надевали венка, говорили, что она его «перетерла», «пролежала», «продрала», либо этот венок надевали поверх платка, «это было знаком того, что невеста нечестная, “покрытка” (букв. покрытая платком, преждевременно “обабившаяся”. - И. Д.)» [14: 199], ср. также украинское выражение загубгти вток, означающее потерять невинность до брака [5: 98].
Представление о головном уборе отражается и в других собственно женских номинациях . Так, на Русском Севере и ряде других территорий девушек, которые самовольно, «без родительского дозволения» вступали в брак и поэтому «при отсутствии сватьи-кручельщицы» сами были вынуждены подбирать свои волосы под повойник (Подвысоцкий: 152), называли самокрутками . Отсутствие положенного по статусу и возрасту головного убора фиксируется в таких номинациях, как бесшамшурная (ЭССП: 21), пустоволоска [6: 31] со значением ‘старая дева’ (так и не примерившая головной убор замужней женщины – шамшуру). Моральный облик девицы, преждевременно утратившей невинность, закрепляется также в лексеме простоволоска ‘незамужняя, вольного поведения женщина, потерявшая право убирать голову по-девичьи’ (Даль). А. В. Коровашко, ссылаясь на этнографические труды Д. К. Зеленина, отмечает зафиксированные им подставные имена девок и баб, которые использовали охотники-промысловики на Дальнем Востоке, соблюдавшие табу на упоминание «прямых» женских имен. Девок они именовали простыги (то есть простоволосые), а женщин – белоголовки (по покрывавшей голову белой намитке / убрусу) [8: 29]. Как видим, для выражения противопоставления в данном случае опять же используется представление о наличии / отсутствии на женщине головного убора.
Сказанное позволяет предположить, что именование колотое копыто могло быть образовано по сходной модели, где копыто – головной убор метонимически номинировало замужнюю женщину, а прилагательное колотое -по связи с тем же ритуалом битья горшков и символикой дефлорации в целом – означало утрату ею невинности. О возможности самостоятельного употребления данного определения свидетельствует выражение розна корма в значении ‘лодка, управляемая женщиной’, которое отмечает в своем словаре Г. И. Куликовский, где ироничный намек на «женскость» передается только первым словом. Кроме того, поскольку колотым копытом называли нечестных невест, лексема колотый в данном контексте могла передавать такие значения, как ‘порченый’, ‘бракованный’, ‘плохой’, что в соединении со словом копыто должно было прочитываться как ‘порченая невеста / жена’. Возможно, что именно эта функция обсуждаемого выражения и была первичной, если принимать во внимание предложенную гипотезу. Если же перед нами все-таки метафора, восходящая к прямому значению, то актуализация этой реалии в народном сознании, ее не-типичность для соответствующей общеславянской терминологии тоже кажутся неслучайными на фоне распространения на той же территории свадебного головного убора с аналогичным названием. По-видимому, в этом еще предстоит разобраться.
ВЫВОДЫ
Выполненные наблюдения подтверждают, что номинация колотое копыто , обнаруженная в олонецких говорах конца XIX века Г. И. Куликовским, вписывается в общеславянскую традицию и дополняет ряд наименований, во внутренней форме которых отражается представление о женщине, утратившей невинность, как о расколотом сосуде, что в акциональном коде свадебного обряда находит символическое выражение в ритуале битья горшков на утро второго свадебного дня. Для компонента копыто , помимо очевидной метафоры, восходящей к прямому значению этого слова, предлагается мотивационная модель, обусловленная диалектным употреблением данной лексемы на Русском Севере в качестве названия головного убора замужней женщины. Выдвинутая гипотеза находит подтверждение в типичных для свадебной обрядности номинациях, в фокусе которых оказывается образ головного убора, а также в общности ареала распространения обоих названий.