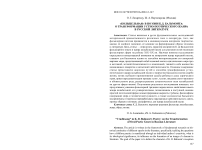"Колыбельная" в поэзии К. Д. Бальмонта: о трансформации устно-поэтического жанра в русской литературе
Автор: Лазареску Ольга Георгиевна, Вартазарова Жаклин Артуровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья написана в русле фундаментальных исследований исторической преемственности различных эпох в литературе, того, как фольклорная поэтика проявляется в индивидуальном авторском творчестве, каково ее идейное значение, ее влияние на формирование образа человека в литературе. Цель статьи - определить характер восприятия К. Д. Бальмонтом фольклорного опыта в жанре колыбельной песни для уяснения путей эволюции фольклорных форм на рубеже XIX-XX вв. Научная новизна исследования определяется концентрацией внимания на конкретном жанре народной поэзии, ставшем для Бальмонта одним из способов воспроизведения его авторской картины мира, представляющей собой сложный синтез идиллического мира грез и мечтаний, детской безмятежности и изменчивой, таящей в себе множество неожиданных поворотов и испытаний действительности. Основное содержание статьи представлено анализом путей и способов трансформации устнопоэтического жанра колыбельной песни в творчестве Бальмонта (мотив скорби жизни, мотив глубокого проникновения судьбы ребенка в душу лирического героя, прием пересемантизации призыва «спи», «усни», введение свето-звукового и обонятельного ряда, распространение семантического поля колыбельной на другие сферы жизни). Полученные результаты исследования показали, что продуктивное усвоение фольклорной традиции определялось свойствами самого жанра колыбельной, его универсализмом, позволяющим в доступной, внешне простой поэтической форме концентрированно выразить глубокое, философское содержание мира и человеческой сущности, а также склонностью Бальмонта воспринимать и творчески перерабатывать окружающую действительность сквозь призму образов и мотивов, специфичных для жанра колыбельной песни.
К. д. бальмонт, народная традиция, фольклор, колыбельная, жанр, образ, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/149140445
IDR: 149140445 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-147
Текст научной статьи "Колыбельная" в поэзии К. Д. Бальмонта: о трансформации устно-поэтического жанра в русской литературе
В. Я. Брюсов в стихотворении «К. Д. Бальмонту» писал о поэзии как особом состоянии — «сна», но сна в полете, на недосягаемой высоте, в окружении вольных стихий, «подобен облакам», «тучке бесполезной», ассоциируя это состояние с поэтом Бальмонтом:
На раздумья снов не трать <...>
Будь - единый, непохожий, Нашей силы не желай.
Ты сильней нас! Будь поэтом, Верь мгновенью и мечте.
Стой, своим овеян светом,
Где-то там, на высоте [Брюсов 1982, 144-145].
Состояние «сна» и «полета», «сна в полете» как отмеченная современниками черта личности Бальмонта заставляет присмотреться к факту его регулярного обращения к народному жанру колыбельной песни, чтобы понять, насколько неслучайным было его внимание к этому жанру, насколько органичен был этот жанр мироощущению поэта, отвечал ли он качеству «единичности» и «непохожести» Бальмонта, о котором говорит Брюсов в упомянутом стихотворении, осознанным ли было отношение Бальмонта к традиции как к тому, что «обеспечивает накопление, передачу и длительность функционирования культуры или отдельных ее комплексов» [Шу-строва 2010, 119].
О пристальном внимании Бальмонта к устно-поэтической традиции писали критики-современники и исследователи последующих эпох. Неблагосклонное отношение современников (А. Белого, С. Городецкого, 148
В. Брюсова и др.) к фольклоризму Бальмонта - известный в истории литературы факт [Молчанова 2010; Розанов 2015]. Оно было связано, в первую очередь, с выходом в 1907 г. его книги «Жар-птица. Свирель славянина». Исключением из этого ряда была оценка А. Блока, увидевшего в «Жар-птице» «нового» Бальмонта, который «стал писать более медленным и более простым стихом. <...> В “Жар-птице” можно наблюдать, как старые декадентские приемы “дурного тона” побеждаются высшей простотой, за которой стоит вся сложность прежних душевных переживаний» (статья «О лирике» 1907 г.) [Блок 1980, 75]. Ранее, в рецензии на двухтомное Собрание стихов Бальмонта (1905), Блок указывал на особое свойство дарования поэта — его музыкальность, «певучесть», «звукоподражательность», которые есть одновременно и главная черта русской народной поэзии. Однако, отмечает Блок, «в специально “русских” стихах (о каком-то “седом” ямщике, о Дмитрии Красном) — он оказался скорее “интернациональным”, не глубоко проникшим в “деревянную Русь”» [Блок 1980, 285].
Более поздняя критика считала, отталкиваясь от литературоведческих подходов своего времени, что русская тема в поэзии Бальмонта «неорганична»: «она не более как одна из тех многообразных личин, которые примеряет “принимающий все” лирический герой», а фольклоризм Бальмонта зиждется на «стилизаторском приспособлении к требованиям “современного” (декадентского) вкуса. Получилась сусально-аляповатая подделка в оперном “русском стиле” (о книге “Жар-птица” — О.Л., Ж.В.), из которой начисто улетучился дух подлинной народной поэзии. Мужественная и суровая красота русской былины превратилась в дешевую декадентскую красивость» [Орлов 1969, 11, 65-66].
Современные исследователи, продолжая критическую линию Блока, напротив, рассматривают творческую обработку Бальмонтом устнопоэтических источников как способ «преодоления поэтом декадентского мироощущения и своеобразного приобщения к глубинам народного сознания» [Парочкина 2016, 20] - начиная с книги «Будем как солнце» (1903). В произведениях Бальмонта, основанных на устно-поэтических источниках, обнаруживают себя архаические модели существования человека как проявление неопримитивизма, характерного для русских символистов, в основе которого — «культивирование имперсонального начала», «синтетически-органические стремления» к слиянию человека с природой, к ощущению цельности, которая является «залогом гармонического существования человека в мире», к своеобразному «детскому ощущению бытия» [Федотова 2010]. С попыткой художественной реконструкции «органического» человека связан «идеальный топос», воплощенный в различных образах поэзии Бальмонта [Дударева, Тэтик 2017], прекрасный сад «вертоград» [Разумовская 2010], другие фольклорные и мифопоэтические образы и мотивы [Петрова 2008; Петрова 2014].
Фольклоризм Бальмонта рассматривается в контексте неославяно-фильских тенденций в русском символизме 1900-х гг, когда поэт стремится через образы-символы народных сказок, легенд, былин, заговоров
«глубже понять “народную душу”» [Молчанова 2008, 102], используя при этом жанровую стилизацию и другие виды художественной обработки фольклорных источников [Молчанова 2010; Топорков 2015].
Как и при жизни Бальмонта, однозначной оценки о качестве художественной переработки им народных источников в современной критике не существует: «его поэтический мир оказался слишком далеким от фольклорного художественного мышления. Притягательная народная психея так и осталась для К. Бальмонта “заколдованным садом” где “на миг показалась Жар-птица, длиннокрылая птица славян”» [Молчанова 2010, 126]. Однако стоит обратить внимание на интуитивно-образное нащупывание народной основы творчества и самой личности Бальмонта Брюсовым, назвавшим своего друга-соперника «змеем многообразным», вечно борющимся со всем миром, с его стихиями («К портрету К. Д. Бальмонта») [Брюсов 1982, 85-86]. Если экстраполировать образ Бальмонта-«змея многообразного» на его работу с устно-поэтическими источниками, то можно увидеть самые общие очертания его художественного метода, рассматривавшего народные источники как возможность борьбы со «стихиями» -тем или иным жанром, образом, мотивом народного творчества. Бальмонт погружается в стихию народного творчества и, стремясь обуздать ее, дает творческое переосмысление того, к чему прикасается. Схожую трактовку подхода Бальмонта к традиционному жанру колыбельной песни можно обнаружить в труде В. В. Головина: «моделирование традиционного “колыбельного мировоззрения” происходит внутри авторского поэтического сознания. При этом воспроизводится глубинная “колыбельная” семантика, но в ином, нетрадиционном, образном строе» [Головин 2000, 293].
Устойчивый интерес Бальмонта к устно-поэтической традиции связан и с его особым отношением к детству. Будучи по мироощущению символистом, Бальмонт, как и другие поэты-символисты, воспринимал глобальные перемены рубежа XIX-XX вв. «как начало новой эры, как детство нового человечества» [Арзамасцева, Николаева 2009, 236]. В самом ребенке «символисты видели <...> современного Сфинкса, т.е. существо-загадку, поскольку будущее угадывалось только интуитивно», а мир представлялся как «неуловимо изменчивый» [Арзамасцева, Николаева 2009, 241]. Символисты видели в ребенке сакрально-бытийный феномен, «воплощение многомерности и глубинной сущности человеческого бытия», пытались прозреть в нем «феноменологический потенциал человека будущего» [Дворяшина 2009,4, 9, 10]. С другой стороны, «[д]етское стало для русского символизма мерилом многих жизненных явлений», «[д]етское сознание противопоставлялось взрослому как истинное — ложному, достойное — неприличному. Дитя, считавшееся противником общепринятых правил, представлялось носителем творческого отношения к жизни, что роднило его с сущностными качествами поэта-творца» [Дворяшина 2009, 14]. Исследователи творчества Бальмонта говорят о «детском строе души» поэта, сохранившего «в себе ребенка», а значит, сохранившего «связь с Бытием как идеальной сущностью» [Дворяшина 2009, 32-33]. Сам Бальмонт подводил под подобные качества глубокую социо-культурную основу: «В народных колыбельных песнях особенно трогательна та, повторяющаяся у разных народов черта, что, напевая убаюкивающую песенку ребенку, взрослый поющий превращается сам в дитя». [Бальмонт 1991, 495]. В наибольшей степени подобное мироощущение Бальмонта проявило себя в стихотворениях, имеющих авторское жанровое определение «колыбельная песня».
Традиционная колыбельная в своем названии «восходит к глаголам “колыбать”, “кохать”, “колебать”, “качать”, “зыбать” <...> “байкать, убаюкивать”» [Капица, Колядич 2016, 36]. Сам жанр «достаточно нормативен» по форме, «основным структурным единицам», «сюжетным схемам», хотя и предполагает «импровизационность», «вариативность одного и того же текста»; он имеет разветвленную классификацию, а его функциональность развивалась на протяжении веков и включала в себя утилитарнобытовую функцию, познавательную, воспитательную, эстетическую [Капица, Колядич 2016, 46; Головин 2000, 13; Ильина 2019, 245]. Идейная задача жанра колыбельной песни — выразить со стороны исполнителя «свое отношение к окружающему его миру», сообщить «некоторые полезные сведения», сформулировать «и свои потаенные желания, связанные с будущим ребенка, стремлением вырастить его по определенной поведенческой модели. Ребенок получал некоторые сведения об окружающем мире, постигал особенности родной речи» [Капица, Колядич 2016, 37]. «Колыбельная песня по своей природе, по форме своего функционирования, становится “транслятором” традиционного мировоззрения» [Головин 2000, 42]. Гармоничность мира традиционной колыбельной песни утверждалась равновесием мира ребенка и мира, его окружающего: «Ванюшка» / «Митенька» / «Костюшка» спит — «ласточки» / «лисицы» / «куницы» спят; ночью «милое дитя» «бай-бай» - днем «на работушку пойдет». «Котики», «грачи», «Сон», «Дрема», «Покой» и другие представители природного и животного мира, народной мифологии - первые помощники в создании гармоничного мира колыбельной [Детский фольклор 2002, 57-84]. Хозяйственные заботы, тревоги, о которых нередко пелось в колыбельных песнях, уравновешивались мечтами матери о долгой счастливой жизни ребенка. Гораздо реже в традиционной колыбельной встречалось упоминание о смерти, которое можно рассматривать как «пережиток древнего обычая, когда слабых, увечных и “лишних” детей убивали, избавляя от мук болезни и голода» [Капица, Колядич 2016, 44]. Также мотив смерти в колыбельной рассматривается как «обман смерти» и как «инициирующий акт» [Головин 2000, 165-167].
Мир колыбельной — в поле зрения Бальмонта. Как и в традиционной колыбельной, у поэта он наполнен теплом, уютом, Божьей милостью. Бог сплетет «деточке» «мягкую колыбельку» «из листьев березы», навеет, с помощью «сна» и «дремоты», «воздушные грезы», потом «разбудит» («Финская колыбельная песня», кн. «Литургия красоты» (1905)) [Бальмонт 1994, I, 698]. В стихотворении в доступной, внешне простой форме концентрированно выражается глубокое, философское содержание мира и человеческой сущности как гармонии и согласия разных начал — человеческого и божественного, зримого и невидимого, ночи и дня, сна и реальности. «Простота» - характерная особенность и традиционного жанра колыбельной [Ильина 2019, 243], она является оборотной стороной «универсального потенциала» этого жанра в силу заложенного в нем «обширного спектра личных переживаний и настроений», с которыми знаком любой человек [Головин 2000, 276]. В «Колыбельной песне» из книги «Фейные сказки» (1905) гармония мира утверждается благодаря введению идеального топоса «Рая», который обретает — через сон — ощутимые свойства. Он — «светлый», он наполнен «цветами». Он не противопоставлен реальному миру, здесь «небо» тоже спит, «в Небе светятся огни», лампадка горит. В этом «Раю» нет одиночества: «Будем вместе мы в Раю, / Баю-баюшки-баю» [Бальмонт 1994, II, 32]. «Поэтический цикл “Фейные сказки” К. Д. Бальмонта представляет собой символическую модель идеального мира», который «имеет окраску, сходную с библейским описанием рая. В большинстве текстов стихотворений отсутствуют контрастные противопоставления» [Шебловинская 2008, 14, 17].
Однако большая часть «колыбельных» у Бальмонта включает в себя систему противопоставлений, создающих условия для глубокой трансформации традиционных для колыбельных песен образов, мотивов, изобразительных средств, что, в свою очередь, и могло определить «оригинальность авторского “жанровоплощения”» [Головин 2000, 430] традиционной колыбельной. В книге «Под северным небом» (1894) также присутствует «Колыбельная песня» («Липы душистой цветы распускаются...»), в которой желаемое состояние сна и покоя определяется словом «окутан-ность» — как ощущение защиты, надежности, заботы, тепла в «мире холодном»:
Ночь нас окутает ласковым сумраком,
В небе далеком зажгутся огни,
Ветер о чем-то зашепчет таинственно... [Бальмонт 1994,1, 28].
Убаюкивание «деточки», «окутанной» заботой и теплом («О, моя ласточка, о, моя деточка <.. .> Спи, моя радость, усни!») — ситуативная основа традиционного жанра колыбельной. В этом стихотворении Бальмонта традиционная основа получает особую разработку за счет введения мотива глубокого проникновения судьбы ребенка в душу лирического героя: («Бедный ребенок, больной и застенчивый, / Мало на горькую долю твою / Выпало радости, много страдания»), от которого «бедный ребенок» ждет ответов на жизненные вопросы: «Так заглянула ты в душу мою, / Ищешь ответа в ней...». Типическая сюжетная основа традиционного жанра наполняется нетипической ситуацией активности персонажей — того, кто убаюкивает, и того, кого убаюкивают. Пространство колыбельной песни, традиционно определяемое как пространство «покоя», у Бальмонта как будто предназначено для судьбоносных решений, самоопределения героев, заверений в надежности, планов на будущее. В этой ситуации призыв «спи», «усни» предполагает прямо противоположное значение — «не засыпай», «давай поговорим». Наполненность пространства этой колыбельной песни жизнью, чувствами манифестируется свето-звуковым и обонятельным рядом — огнями в небе, таинственным шепотом ветра, всепроникающим запахом липы. Колыбельная песня у Бальмонта — это момент самоо сознания и высшего переживания окружающей действительности — «прошлых дней» и «муки грядущей», а вовсе не «сна» в прямом смысле этого слова. «Уснуть» для поэта — отправиться в мир грез и мечтаний, противопоставленный «горькой» действительности. Ребенок здесь перестает быть объектом приложения сил — тем, кого убаюкивают, он участник этого «полета» в мир грез и мечтаний:
Радость и горе разделим мы поровну,
Крепче к надежному сердцу прильни... [Бальмонт 1994,1, 28].
В стихотворении «Баюшки-баю» («В безбрежности», 1895) драматический мотив скорби жизни усиливается. Если в предыдущем стихотворении соприкосновение душ, глубокое проникновение в душу другого несло в себе надежду («Будем мы вместе и ночи, и дни», «Вместе с тобою навек успокоимся»), то в этом стихотворении не осталось даже и надежды: «Счастия не жди, / В сердце не гляди». Беспредельность скорби подчеркивается отказом от детализации мира грез и мечтаний в их свето-звуковом и обонятельном воплощении, где может найти отдохновение человек. Здесь мир мечты определяется как «безрассудный», «чудный», просто «сон», который совпадает с безрадостной жизнью:
Где-то море пенится,
И оно изменится,
Утомится шумное, Шумное, безумное. Будет под Луной Чуть дышать волной [Бальмонт 1994,1, 80].
В колыбельной песне «Легкий ветер присмирел...» из этой же книги стихов мотив скорби жизни сохраняется, а надежда на отдохновение связывается со «сладким» сном - в прежних свето-звуковых и обонятельных ощущениях («Вечер бледный догорел, / С неба звездные огни <.. .> Дремлют птички и цветы, / Отдохни, усни и ты...»), которые переносят героев в мир, где нет «скорби гнета», где есть единение душ: «Я как няня здесь с тобой <.. .> Я всю ночь здесь пропою: / “Баю-баюшки-баю”» [Бальмонт 1994,1, 97].
Мир бальмонтовской «колыбельной» обогащается за счет распространения семантического поля колыбельной на другие сферы жизни. Колы- бельная песня утрачивает свое утилитарное значение и перерастает в метафору жизни, смерти, любви, творчества, подобно тому, как перерастает свое значение слово «колыбель». Так, словарь В. Даля, помимо основного значения слова «колыбель» как «зыбка, люлька, качалка, баюкалка, колы-ска», дает переносное значение: «Родина, мТсто рожденья человека, гдТ провелъ онъ свое младенчество; мТсто происхождешя народа, поколенья, науки» [Даль 1881, II, 144]. В стихотворении Бальмонта «Смерть, убаюкай меня» («Под северным небом») утомленность жизнью поэт передает в образах колыбельной песни: «наклонись надо мной», «убаюкай меня». Но воззвание к смерти лишь усиливает жажду жизни — через светозвуковой и обонятельный ряд:
Ранней душистой весной,
В утренней девственной мгле, Дуб залепечет с сосной.
Грустно поникнет к земле Ласковый ландыш лесной. Вестник бессмертного дня, Где-то зашепчет родник, Где-то проснется, звеня... [Бальмонт 1994,1, 44-45].
Устойчивая соотнесенность жизни — в разных стихотворениях - с отмеченным свето-звуковым и обонятельным рядом позволяет интерпретировать эту взаимосвязь как образ Родины для Бальмонта, шире — как место происхождения народа, культуры. Призывая смерть в образах колыбельной песни, поэт, напротив, поет гимн жизни, тесно связанной с местом, куда стремится его душа, где, возможно, «провелъ онъ свое младенчество», со своим истоком. Так, в стихотворении «Памяти И. С. Тургенева» («Под северным небом») «баюкание» ушедшего «поэта» в его смертной «постели» передано звуками и красками его Родины:
В немом гробу ты спишь глубоким сном.
Родной страны суровые метели
Рыдают скорбно в сумраке ночном, Баюкают тебя в твоей постели, И шепчут о блаженстве неземном [Бальмонт 1994,1, 31].
Об иносказательном потенциале слова «баюкать» и близких ему по значению слов писал А. Н. Афанасьев, включавший слова «баюкать», «байкать» - «укачивать ребенка под песню» - в ряд слов («баить», «байка», «баюн», «краснобай», «прибаутка» и т.д.), которые связаны с ранними, магическими представлениями о мироустройстве, согласно которым «слову человеческому была присвоена та же всемогущая сила, какою обладают сближаемые с ним божественные стихии» [Афанасьев 1983, 104], что дает основание рассматривать «баюкание» как способ воспроизво- дить мир в слове, организованном средствами жанра колыбельной песни. У Даля также колыбельная песня определяется как «байка», «припЕвъ для усыплешя дитяти» [Даль 1880, I, 57]. В стихотворении Бальмонта «Если в душу я взгляну...» («Будем как солнце», 1903) слово «забаюкаю» в равной мере относится к стихиям — водной, небесной, земной и стихотворческой — как миростроительный акт, в котором сливается мир видимый и мир мечты, «снов»: здесь и «душа», и «мука», и «печаль», и «волна многопенная», и «неба нежная эмаль», «убегающая даль»:
И заплачет звонкий стих,
Запоет о снах моих, И себя я силой их Забаюкаю [Бальмонт 1994,1, 392].
Ранее, в стихотворении «Выше, выше» («Горящие здания», 1900) слово «забаюкал» также «собирает» вокруг себя все миростроительные стихии и становится метафорой творчества:
Я коснулся душ чужих <...>
Трепетаньем звонких крыл
Отуманил, опьянил,
По обрывам их помчал,
Забаюкал, закачал [Бальмонт 1994,1, 275].
«Баюкание» как творческий акт в этом стихотворении детализируется устойчивым свето-звуковым и обонятельным рядом: «тихий звон», «цветы», «радуга», а эквивалентом колыбели становятся «сети», расставленные поэтом: «Попадитесь в сеть мою, / Я пою, пою, пою» [Бальмонт 1994, I, 275].
В стихотворении «Разлука» («Под северным небом») мир человеческих чувств и природный мир также передаются в образах колыбельной песни:
.. .только одну белокрылую чайку
С любовью баюкает, точно в родной колыбели,
Морская волна. <...>
Я баюкал твой ласковый образ в своей трепетавшей груди,
Вдыхая морской освежительный воздух,
Качаясь на сине-зеленых волнах... [Бальмонт 1994,1, 27].
Как видно, для Бальмонта «колыбель» и «баюкание» - способ воссоздать желаемый мир «грез», «снов таинственных», прочно связанный с жизнью во всем ее многоцветье, запахах и звуках — как в стихотворении «Баю» («Хоровод времен», 1909):
Баюкал я своими колыбельностями,
Качал мечту, качели хороши.
Из грезы — в жизнь, с обрывками и с цельностями,
«Баю» любви, к душе «баю» души [Бальмонт 1994, II, 647].
В использовании Бальмонтом приемов «колыбельной» поэтики можно видеть много общего с Н. А. Некрасовым. Стихотворение Некрасова «Песня Еремушке» (1859) включает в себя блок стихов, который по жанровой организации может быть отнесен к колыбельной песне. «Колыбельный» блок в этом стихотворении Некрасова также основан на системе противопоставлений: на уровне исполнителей — «нянюшки» и «проезжего, городского», на уровне содержания исполняемой колыбельной, выражающей определенную мировоззренческую позицию. Нянюшкина колыбельная формирует у ребенка «поведенческую модель» приспособления к жизни, «холопского терпения»: «Ниже тоненькой былиночки / Надо голову клонить, / Чтоб на свете сиротиночке / Беспечально век прожить <...> И привольная и праздная / Жизнь покатится шутя...» [Некрасов 1981, II, 65]. Для проезжего в этой песне сконцентрирован весь опыт прошлой — «пошлой» жизни. Его колыбельная — призыв порвать все узы с «пошлой ленью» и «возлелеять» в себе лучшие человеческие стремления к «Братству, Равенству, Свободе» [Некрасов 1981, II, 66-67]. Некрасов, как и позже Бальмонт, применяет прием пересемантизации призыва «спи», «усни» как основы жанра колыбельной песни - в способность человека пробудить в себе «душу вольную»: «Человеческим стремлениям / В ней проснуться не мешай» [Некрасов 1981, II, 66-67]. Как и у Бальмонта, у Некрасова «колыбельная» семантика распространяется и на другие сферы жизни, в данном случае, на сферу творчества как разрыва со старыми «формами»: «Будь счастливей! Силу новую / Благородных юных дней / В форму старую, готовую / Необдуманно не лей!» [Некрасов 1981, II, 66].
В позднем стихотворении Некрасова «Баюшки-баю» (1877) колыбельная песня матери лирического героя — песня из гроба: «Пора, пора под сень покоя; / Усни, усни, касатик мой!» [Некрасов 1981, III, 203]. Она построена на противопоставлении земных «непобедимых страданий» («неутолимой тоски», «людской злобы», «клеветы», «стужи нестерпимой») и «света», «любви», «прощения», жизни в памяти последующих поколений - после смерти. Как и для Бальмонта, для Некрасова призыв «усни» — метафора желаемого, а не наличного бытия, это область, куда перемещается истинная жизнь. И хотя маркеры этой истинной жизни у поэтов разные — у Бальмонта характерный свето-звуковой и обонятельный ряд, мотив глубокого проникновения в душу другого, у Некрасова — реалии земной «ядовитой» жизни, принцип, на котором строится образ человека и мира у этих поэтов, общий: противопоставление сна и реальности, перемещение истинной, насыщенной всеми красками жизни в сферу сна, хотя бы даже это и был сон смертный.
Органичность жанра колыбельной творчеству Бальмонта подтверж- дается его вниманием к колыбельным песням разных народов мира. Его переводы колыбельных из В. Блейка, Я. Врхлицкого, испанской народной поэзии несут на себе отпечаток его, Бальмонта, авторского видения этого народного жанра. Как отмечал Вл. Орлов, перевод Бальмонт «понимал как способ расширения своего творческого мира... Поэтому переводы удавались ему в тех лишь случаях, когда он переводил поэта, близкого ему по духу» (курсив автора — О.Л., Ж.В.) [Орлов 1969, 70]. «Дух» колыбельных, переведенных из иностранной литературы, представлен схожим с оригинальными бальмонтовскими колыбельными песнями, близким им свето-звуковым и обонятельным рядом, общими мотивами, общей топикой («рай»), стремлением распространить «колыбельную» семантику на другие сферы жизни. В «Колыбельной песне» из В. Блейка мотив скорби жизни, один из самых частотных в колыбельных самого Бальмонта, преобразуется в мотив слез Создателя над своим творением:
Как невинное дитя,
Плакал, глазками блестя, О тебе и обо всех,
И слезами смыл наш грех [Бальмонт 1969, 498].
«Колыбельная» Я. Врхлицкого под пером Бальмонта представляет «сон» как метафору любви, в которой свето-звуковой и обонятельный ряд передает не полутона чувств, желаний, мечтаний лирического героя, как это было в колыбельных самого Бальмонта, но предельно насыщенные краски, звуки, запахи - «багряные реки», «дождь золотой», «облака золотые», «темнота», «дым» [Бальмонт 1969, 559-560].
В испанских колыбельных песнях пространство Рая, которое приходит к «дитятке» во сне - там Пречистая Дева, там Бог, «ангелочки», переплетается с драматическим мотивом скорби жизни, который сопровождает детский сон, убаюкивание, укачивание ребенка:
Больненьким видеть тебя
Сердце мое разрывает,
Плачу, когда я пою, Голос в груди погасает»; «Я тебя ласкаю, На руки беру.
Что с тобою будет,
Если я умру? [Бальмонт 1991, 476-477].
В переведенных колыбельных Бальмонт как будто стремится довести до предела ключевые, опорные приемы и способы воспроизведения мира и человека средствами жанра колыбельной песни, которые свойственны ему самому, что находит подтверждение в его авторских комментариях к «Испанским песням»: «Как колыбель похожа на гроб, так в колыбельных песнях есть всегда запредельная смертная грусть» [Бальмонт 1991, 495]. Комментируя наиболее, на его взгляд, «совершенные» и «бессмертные по своей озаренности» колыбельные песни - испанскую и русскую - он использует тот же изобразительный ряд, что и в самих стихах: «Обе они красивые, как цветок, обрызганный росой» [Бальмонт 1991, 495].
Вывод: «Колыбельные песни» как жанр народной поэзии открыли для Бальмонта возможность воспроизвести мир теми художественными средствами, которые были органичны его мироощущению человека с «детской душой», устремленной к Бытию как «идеальной сущности», а «колыбельная» поэтика позволила передать палитру чувств, переживаний на пространстве, традиционно определяемом как пространство «сна», «покоя». Вводя в это пространство авторские мотивы (мотив глубокого проникновения судьбы ребенка в душу лирического героя, мотив скорби жизни) и приемы (прием пересемантизации призыва «спи», «усни», введение свето-звукового и обонятельного ряда, распространение семантического поля колыбельной на другие сферы жизни), Бальмонт воссоздает мир, в котором противопоставляются грезы, мечтания, детская безмятежность и «горькая» действительность, утрата надежд, неожиданные повороты и испытания. Но противопоставляя сон и реальность, поэт переносит в мир «сна» все, без чего невозможно жить — душу, любовь, родные места, творчество. В этом мире сама смерть мыслится как встреча с Родиной во всем богатстве ее цветов, запахов и звуков.
Очевидно, что подобное переосмысление традиционного жанра колыбельной песни определило впечатление «единичности» и «непохожести» Бальмонта-поэта, о котором говорит Брюсов в стихотворении «К. Д. Бальмонту», а также отношение к нему как к художнику, который осознавал значимость устно-поэтической традиции как способа сохранения культуры, а значит, и самого народа.
Список литературы "Колыбельная" в поэзии К. Д. Бальмонта: о трансформации устно-поэтического жанра в русской литературе
- Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 576 с.
- Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избранные статьи. М.: Современник, 1983. 464 с.
- Бальмонт К. Д. Стихотворения: Серия «Библиотека поэта». Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1969. 712 с.
- Бальмонт К. Д. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи. М.: Издательство «Правда», 1991. 608 с.
- Бальмонт К. Д. Собрание сочинений: В 2-х т. М.: Можайск-Терра, 1994. Т. 1. 832 с.; Т. 2. 704 с.
- Блок А. А. Об искусстве. М.: Искусство, 1980. 503 с.
- Брюсов В. Я. Избранное. М.: Издательство «Правда», 1982. 463 с.
- Головин В. В. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Турку: Âbo Akademi University Press, 2000. 451 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. В 2-х т. СПб., М.: Издаше книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880-1881. Т. 1. 699 с. Т. 2. 779 с.
- Дворяшина Н. А. Феномен детства в творчестве русских символистов (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт): автореф. дис... докт. филол. н.: 10.01.01. Сургут, 2009. 49 с.
- Детский фольклор. М.: Русская книга, 2002. 560 с.
- Дударева М. А., Тэтик К. Идеальный топос и его символы в поэтике К. Д. Бальмонта (об одном стихотворении) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (77): в 3-х ч. Ч. 3. С. 14-16.
- Ильина Л. Е. Аксиологический аспект колыбельной песни как жанра фольклора // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 243-247.
- Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: Учебное пособие. М.: ЛЕНАНД, 2016. 320 с.
- Молчанова Н. А. Фольклорно-мифологические мотивы в книге К. Д. Бальмонта «Злые чары» // Афанасьевский сборник: Материалы и исследования. Вып. V. Народная культура сегодня и проблемы ее изучения: Сборник статей. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008. С. 102-107.
- Молчанова Н. А. Фольклорная стилизация в книге К. Д. Бальмонта «Жар-птица» // Афанасьевский сборник: Материалы и исследования. Вып. IX. Народная культура сегодня и проблемы ее изучения: Сборник статей. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010. С. 119-127.
- Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15-ти т. Л., СПб.: Наука, 1981-2000. Т. 2. 447 с.; Т. 3. 511 с.
- Орлов В. Н. Бальмонт. Жизнь и поэзия. Вступит. статья // К. Д. Бальмонт. Стихотворения. Большая серия «Библиотека поэта». Л.: Современный Писатель, Ленингр. Отделение, 1969. С. 5-70.
- Парочкина М. М. Мифопоэтические и фольклорные корни поэзии К. Бальмонта // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28 (249). Вып. 32. С. 20-27.
- Петрова Т. С. Мифопоэтика лексико-семантической группы «птицы» в лирике К. Д. Бальмонта // Русский язык в школе. 2008. № 9. С. 48-54.
- Петрова Т. С. Мифопоэтический символизм «Сказки о серебряном блюдечке и наливном яблочке» К. Бальмонта // Русская речь. 2014. № 2. С. 114-118.
- Разумовская А. Г. Вертоград в поэзии Серебряного века // Русская речь. 2010. № 1. С. 14-21.
- Розанов Ю. В. Идея «реставрации» славянской мифологии в литературе русского символизма // Рябининские чтения — 2015: материалы VII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», 2015. С. 512-514.
- Топорков А. Л. Духовные стихи в русской литературе первой трети XX века // Русская литература. 2015. № 1. С. 5-29.
- Федотова Н. Ф. Мифопоэтика русского символизма и примитивизм // Вестник Чувашского университета. 2010. № 2. С. 269-275.
- Шебловинская А. Н. «Фейные сказки» К. Д. Бальмонта в контексте творчества писателя (особенности поэтики): автореф. дис. ... канд. филол. н.: 10.01.01. Воронеж, 2008. 20 с.
- Шустрова И. Ю. От рождения до крестин: ребенок в русской крестьянской семье XIX-начала XX века // Ребенок в истории и культуре: Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4. М.: Библиотека журнала «Исследователь / Researches, 2010. С. 119-136.