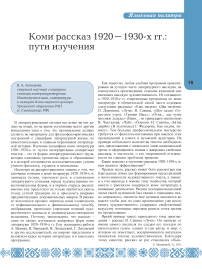Коми рассказ 1920-1930-х гг.: пути изучения
Автор: Лимерова Валентина Александровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предложена к обсуждению проблема необходимости обновления интерпретаций национальной литературной классики первых советских десятилетий. На примере известных, «хрестоматийных» рассказов 1920-1930-х годов автором рассматриваются пути их изучения в сочетании жанрового и этнопоэтического подходов.
Жанр, рассказ, этнопоэтика, история коми советской литературы, пути изучения прозы
Короткий адрес: https://sciup.org/14722854
IDR: 14722854
Текст научной статьи Коми рассказ 1920-1930-х гг.: пути изучения
В литературоведении сегодня все яснее звучит далеко не новая, но на время уступившая место другим концепциям идея о том, что произведение должно служить не материалом для философско-критических построений о специфике литературной жизни, но самостоятельным и главным персонажем литературной истории. Изучение специфики коми литературы 1920–1930-х гг. путем интерпретации конкретных текстов – это та форма литературоведческого труда, которая одинаково органична науке и образованию и в которой соединяются исследовательские усилия ученого-филолога, студента и школьника.
Несмотря на распространенное мнение о том, что ключевые позиции в коми литературе 1920–1930-х гг. занимала поэзия, огромную роль в становлении литературного сознания играла художественная повествовательная форма, и в первую очередь рассказ: именно ему предстояло не только пробиться сквозь толщу устной традиции, но и преодолеть инерцию предшествующих документальных жанров. В рассказе воплотился процесс перехода коми словесности от нефикционального к фикциональному способу изображения, произошло упрочение позиций художественного вымысла и индивидуально-авторского мышления. Поэтому закономерно, что рассказ – один из самых изучаемых жанровых форм коми литературы 1920–1930-х гг. Ему посвящены работы А. Вежева, И. Ванеевой, В. Латышевой, Г. Лисовской и других исследователей, он широко представлен в вузовском курсе истории литературы и в школьных программах.
Как известно, любая учебная программа ориентирована на лучшую часть литературного наследия, на совокупность произведений, ставших классикой или имеющих высокую художественность. Из созданного в 1920–1930-е гг. современные программы по коми литературе в обязательной своей части содержат следующие рассказы: «Кык патрон» (Два патрона) П. Доронина, «Луча» В. Савина, «Шог асыв» (Горестное утро), «Трипан Вась», «Öтик... дас куим миллион лыдысь» (Один… из тринадцати миллионов) В. Чисталева, «Чай», «Öлекан» И. Сажина, «Ытва дырйи» (В половодье) Г. Федорова. Как видим, немного. Тем большее профессиональное мастерство требуется от филолога-наставника при анализе этих произведений в классе и вузовской аудитории. На примере небольшого количества текстов необходимо дать представление о начальном этапе национальной прозы и сформировать знания о жанровых свойствах рассказа, в частности, о его оперативной отзывчивости на главные проблемы времени.
Какие подходы к изучению рассказа 1920–1930-х гг. нам видятся эффективными?
Прежде всего, рассказ может быть рассмотрен как благодатная почва для формирования представлений о многозначности художественного текста, а значит, и о том переходе к новому типу творчества, который вместе с рассказом совершила коми литература в названные десятилетия. Рассказ послереволюционной эпохи своей пуповиной был связан с описанием лично пережитого, писатель еще целиком находился во власти злобы дня, но само произведение уже несло печать художественного, содержало свойственный искусству потенциал передачи разных точек зрения на происходящее.
Яркий пример такого переходного типа произведения – рассказ В. Савина «Луча». Он написан от имени самого писателя по следам его поездки по вычегодским селам, однако и сам автор, и мир, о котором он повествует, воспринимаются читателем явлениями вполне художественными. Благодаря этому качеству рассказ не раз становился объек- © Лимерова В. А., 2011
том литературоведческого анализа. В процессе его изучения в школе или вузе возможно сопоставить мнения разных исследователей или оттолкнуться от ранних интерпретаций, в которых «Луча» отнесен к произведениям о том типе людей, чья жизнь после революции, как отмечает сам писатель, приподнялась над буднями, озарилась новым светом.
Литературная критика советского времени указывала, что Савин выбрал необычное событие и чрезвычайно яркого героя, но не описал полно и глубоко те изменения, которые произошли во взглядах последнего [1, 104–105 ]. Между тем весь рассказ построен так, чтобы показать отсутствие существенных изменений в его сознании. Текст рассказа содержит как бы случайные, не участвующие в сюжетном движении авторские замечания, которые заставляют нас более вдумчиво отнестись к содержанию образа главного героя – Тист Ивана. Так, в первом же портретном описании есть говорящая деталь – Тист Иван обут в валенки, а писатель, словно мимоходом, заключив в скобки, добавляет: «шел петровский пост». Напомним: петровский пост длится от 8 до 42 дней и завершается празднованием дня Петра и Павла 12 июля. Следовательно, герой рассказа носит странную для летнего сезона обувь. Что же это значит? Можно заметить, что Тист Иван как бы не имеет точки опоры в пространстве: он держит советскую станцию в Жияне, там же живет его семья, но сам он находится в постоянных разъездах; его нет дома при рождении сына, нет и на его крестинах. Семейные заботы и воспитание детей остаются за рамками изображенной реальности. Тист Иван находится в отъезде и в тот момент, когда рассказчик посещает его дом. Таким образом, герою словно чужд оседлый образ жизни.
Литературная критика указывала, что Савин выбрал необычное событие и чрезвычайно яркого героя, но не описал полно и глубоко те изменения, которые произошли во взглядах последнего.
В дополнение обратим внимание на следующую «дисгармонию» в поведении героя: он дает сыну революционное, атеистическое, не освященное церковной традицией имя, а сам неделями справляет храмовые праздники. Не удивительно, что в июле он является взору изумленного рассказчика в валенках. Эта маленькая деталь значительно проясняет характер героя – человека, не имеющего пространственно-временной привязанности, а вслед за ней и мировоззренческой устойчивости. В образе своего героя автор стремится выразить неравнозначность понятий «новое» и «новизна». Кажется, что Тист
Иван стремится к новому, но на самом деле его усилия ограничиваются лишь новизной. Вот почему писатель не дает подробного описания внутренних преобразований, которые, следуя логике соцреализма, должны были произойти в герое, но, следуя правде жизни, не произошли. Разглядеть эту, по-настоящему гражданскую и художническую, позицию В. Савина будет возможно, изучая произведение в аспекте различных его трактовок.
Среди вышеназванных рассказов есть произведения, которые свидетельствуют о попытках малой формы выйти за свои пределы, решить вопросы, свойственные более крупным жанрам. Рассказ, как правило, организуется вполне определившейся точкой зрения автора на происходящее и концентрированно ее выражает. С этой позиции рассказ П. Доронина «Два патрона» может показаться рыхлым или недоработанным. Главным героем в нем является ребенок, но уловить авторскую задачу и единый смысловой стержень произведения нелегко. Автор как бы не может упорядочить, справиться с описываемой ситуацией и характерами, они то и дело уходят из-под его опеки и воли, рождая внеплановые, добавочные и даже альтернативные смыслы, разламывающие рассказовую форму.
Центром, вокруг которого выстраиваются события, является народная сказка-притча о Правде и Кривде. «Нужно по правде жить, в глаза и за глаза правду говорить», – таков смысл притчи, усвоенный мальчиком Семеном в самом наивно-детском варианте, одновременно самом близком к традиционным представлениям о «жизни по правде». Трагичен финал рассказа, когда мальчик, следуя этому буквальному пониманию правды, показывает белым место, где спрятался отец. Значит, автор подвергает негативной оценке правду народной сказки, вневременную и отвлеченную от конкретных политических обстоятельств? Отчасти, да. Вспомним, что коми литература 1930-х гг. активно усваивала теорию классовой правды и справедливости. Но вот что примечательно: автор не принял безоговорочно и ту правду, которую в рассказе воплощает линия жизни отца Сени, сельского активиста. Уже после трагической развязки событий, гибели сына и отца, автор помещает диалог:
– Акка, что такое буржуй?
– Отойди, не болтай… У матери спроси…
– Скажи, мам, кого зовут буржуем?
– Отойди, не мешай, у отца спроси…
– Тять, скажешь про буржуя?
– Подожди, некогда… Поиграй с игрушками… Вырастешь, сам узнаешь…
Набожная мать мальчика изображена в духе того времени, т. е. как объект сатиры. Отец, с одной стороны, не имеет негативного ореола. В то же время, будучи председателем какого-то комитета без

названия, он занят борьбой за «светлое будущее» (у Сени создается впечатление вечного отсутствия отца, без конца заседающего с людьми со строгими, сердитыми лицами), но пренебрегает самым главным условием его достижения – воспитанием собственного сына. Писатель интуитивно уловил главную химерическую идею своего времени, положенную в основание революционного миросозерцания, – идею превосходства будущего над настоящим. Отец Сени жертвует самым дорогим, что у него есть в настоящем, ради будущего. В судьбе героев П. Доронина, в неоднозначности нравственной позиции автора реализовано не различение добра и зла, правды и неправды, столь характерное для человека 1930-х гг., воспитанного в мире традиционных ценностей, а живущего в мире, управляемом классовой моралью. Интересно, что писатель пытается не только сопоставить, но и соединить, а значит, и чем-то примирить две противоположные мировоззренческие системы в сознании одного героя – ребенка, но не находит ничего более правдивого, чем привести его к гибели. В этом проглядывает человеческая прозорливость автора, но художественное решение проблемы явно требует выхода за рамки рассказа.
Таким образом, рассказ может быть рассмотрен как главный тип прозаического произведения 1920–1930-х гг., взявший на себя нагрузку и других повествовательных жанров, появление которых им же и подготавливалось. Кроме того, рассказ стал репрезентом этнопсихологии, культурно-национального выражения. В этом аспекте плодотворно рассмотреть рассказы В. Чисталева «Трипан Вась» и «Öтик... дас куим миллион лыдысь». Их главные герои являются носителями традиционного мировоззрения, одинаково свойственного всем представителям земледельческих цивилизаций. В то же время в сценариях жизни героев, характере их отношений с миром конкретизированы типичные черты самосознания коми человека начала ХХ в. События в рассказах имеют исторические временные параметры: Первая мировая война и Гражданская война. Герои живут в военное время, но, очевидно, не войной. Трипан Вась отделен от нее пространственно. Фабульную основу одноименного рассказа составляет тот отрезок жизни героя, когда он находится за пределами деревни, вне социума, и театром его действий являются поле, река и лес. Его жизнь, подобно существованию всех природных объектов, целиком подчинена сезонному календарю. Эта невыделенность из живого, вечно обновляющегося мира природы сопровождается особым поведением героя. Трипан Вась сторонится любого вмешательства в мир, любой его переделки. Даже посев сбереженных в голодную зиму семян он совершает не на специально разработанном участке, а на самой природой подготовленной пальнике, гари посреди леса.
Герой другого рассказа Сергей Вась, казалось бы, наоборот, помещен в эпицентр исторических событий: вместе с земляками он мобилизован на фронт и проходит обучение ратному делу в каком-то маленьком южном городке. Несмотря на то что Вась – охотник, меткий стрелок («способен белке в глаз попасть»), он не может стрелять по мишеням, похожим на человеческие фигуры, протыкать штыком соломенные чучела, напоминающие тела людей. Вась не выступает открыто против братоубийственных порядков мира, в который насильственно помещен, но и не принимает его, предпочитая убийству другого человека собственную смерть, и в результате погибает в первом же бою, тем самым освобождая себя от противного своему естеству дела. Герой в рассказе лишен собственного слова: он практически не говорит вслух, два письма, отправленные домой, тоже написаны не им. Его молчание объясняется не только внутренним нежеланием реагировать на жестокий и непонятный мир, но и тем агрессивным отпором, который встречает со стороны военного начальства любая попытка нерусских ратников высказаться. «Молчать, все равно скоты!» – такова реакция унтера, в которой концентрированно выражен статус главного героя и его соплеменников в российской военной державе. Совершенно очевидно, что писатель выполнял задачу своего времени – стремился показать, как он пологал, оставшуюся в прошлом беспросветную, унизительную жизнь родного народа, но как всякий глубокий и по-настоящему талантливый человек обнажил черты, которые вообще свойственны коми: нежелание и неспособность жить в социально конфликтной, агрессивной среде.
Рассказ может быть рассмотрен как главный тип прозаического произведения 1920–1930-х гг., взявший на себя нагрузку и других повествовательных жанров.
Особое свойство коми литературы, придающее ее лицу не общее выражение, – тесная связь с народным творчеством, проявляющаяся на разных уровнях произведения, от словоупотребления до скрытых, неявных форм, опоры на древние, мифопоэтические пласты народных представлений. Не секрет, что в 1920–1930-е гг. обращение писателя к фольклорному материалу дозволялось лишь в строго ограниченных и рекомендованных рамках. От писателя требовалось искусство с новым содержанием. Фольклоризм становился приемом, но не мировоззренческой категорией. Тем не менее в лучших своих образцах коми рассказ сохранил связь с древними формами поэтического освоения мира. Таков рассказ В. Чисталева «Шог


асыв» («Горестное утро»), сюжет и персонажный мир которого целиком подчинены изображению вечного антагонизма порядка и беспорядка, света и тьмы, а также сил, их олицетворяющих.
Особое свойство коми литературы – тесная связь с народным творчеством, проявляющаяся на разных уровнях произведения, от словоупотребления до скрытых, неявных форм, опоры на древние, мифопоэтические пласты народных представлений.
V KEYWORDS
Список литературы Коми рассказ 1920-1930-х гг.: пути изучения
- Вежев, А. А. Зарождение и становление коми советской литературы/А. А. Вежев. -Сыктывкар, 1966. -С. 104-105.
- Уляшев, О. И. Кöрт//Энциклопедия уральских мифологий. Т. 1. Мифология коми/О. И. Уляшев. -М.; Сыктывкар, 1999. -С. 204-206.