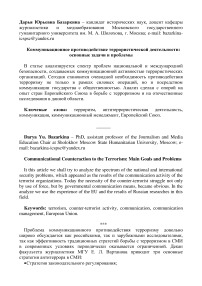Коммуникационное противодействие террористической деятельности: основные задачи и проблемы
Автор: Базаркина Дарья Юрьевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется спектр проблем национальной и международной безопасности, создаваемых коммуникационной активностью террористических организаций. Сегодня становится очевидной необходимость противодействия терроризму не только в рамках силовых операций, но и посредством коммуникации государства с общественностью. Анализ сделан с опорой на опыт стран Европейского Союза в борьбе с терроризмом и на отечественные исследования в данной области.
Терроризм, антитеррористическая деятельность, коммуникация, коммуникационный менеджмент, европейский союз
Короткий адрес: https://sciup.org/14752428
IDR: 14752428
Текст научной статьи Коммуникационное противодействие террористической деятельности: основные задачи и проблемы
***
Проблема коммуникационного противодействия терроризму довольно широко обсуждается как российскими, так и зарубежными исследователями, так как эффективность традиционных стратегий борьбы с терроризмом в СМИ в современных условиях периодически оказывается ограниченной. Декан факультета журналистики МГУ Е. Л. Вартанова приводит три основные стратегии антитеррора в СМИ:
-
• Стратегия законодательного регулирования;
-
• Стратегия добровольного самоограничения;
-
• Стратегия общественного согласия [2; с. 21].
Как по мнению самой Е. Л. Вартановой, так и по мнению ряда других специалистов в данной области, все три стратегии имеют как безусловные достоинства, так и серьезные недостатки. Так, отмечено, что стратегия законодательного регулирования в условиях современной России «практически однозначно вызывает ассоциации с цензурой» [2; с. 21]. Однако нужно отметить, что правовой нигилизм в данном вопросе недопустим, так как в отсутствие каких бы то ни было ограничений не всегда возможно предотвратить, к примеру, распространение материалов со сценами насилия.
«Несовершенство» стратегии законодательного регулирования связано в основном с различными политическими манипуляциями, злоупотреблениями, в частности, опытом применения репрессивных мер в ФРГ по отношению к тем, кто подозревался в сотрудничестве с «Фракцией Красной армии» (РАФ), а также негативным эффектом «антитеррористических законов», главной целью которых было противодействие ультралевому терроризму [1; ч. III, гл. 4].
Известный американский юрист А. М. Дершовиц, отмечают для кризисных ситуаций, связанных с террористическими атаками, опасность передачи части полномочий законодательной и судебной ветвей власти ее исполнительной ветви, в особенности военным. Требования национальной безопасности начинают превалировать над требованиями свободы слова, и под угрозой оказывается нормальное функционирование свободной прессы и адвокатуры, независимые выступления религиозных лидеров и критически настроенной интеллигенции. Попытки подвергнуть цензуре выступления инакомыслящих встречают негативную реакцию в обществе, что частично может способствовать его радикализации. В такой ситуации возникает также опасность подмены национальных и международных интересов граждан государства интересами отдельных представителей элиты, которые могут воспользоваться ситуацией для провоцирования межэтнических, межрасовых конфликтов. В качестве примера можно привести упрек в «выходе за рамки дозволенного» в адрес генерального прокурора США Дж. Эшкрофта, который предполагал, что «несогласные с подходом администрации США к проблеме терроризма оказывают помощь и поддержку террористам» [4; с. 200].
А. М. Дершовиц справедливо отмечает, что «в диапазоне между обычными формами выражения оппозиции по отношению к правительственной политике и прямыми призывами к террористической деятельности можно поместить бесконечное множество ситуаций и высказываний, способных трактоваться законом двояко, например, ситуация общения видного проповедника с террористами» [4; с. 200]. В отношении этих амбивалентных ситуаций законодательство еще не выработало специальных норм. Но хотя введение прямой цензуры опасно как для гражданского общества в целом, так и для доверия общественности к государственным органам, стоит отметить, что отождествлять правовое регулирование лишь со средствами давления на оппозицию – еще более опасно.
Стратегия добровольного самоограничения СМИ представляется довольно эффективной, однако широкому кругу СМИ трудно выработать универсальные принципы освещения террористических актов, проверенные на практике и при этом свободные от влияния экономических интересов самих СМИ и медиаконцернов.
Наконец, стратегия общественного согласия, подразумевающая как саморегулирование медиапрофессионалов, так и регулирование их деятельности со стороны государственных структур и неправительственных организаций, представляется исследователям наиболее эффективной [2; с. 66 – 67]. Однако без выработки инструментария коммуникационного противодействия терроризму, самой коммуникационной стратегии, которой бы пользовались как СМИ, так и сотрудничающие с ними институты, концепция антитеррора в СМИ не избавится от внутренних противоречий. При применении системного коммуникационного менеджмента предоставление свободы слова оппозиционным структурам не противоречит принципам обеспечения национальной безопасности.
Исследователи отмечают, что главным информационным и коммуникационным подспорьем для террористической деятельности является та парадигма, система представлений об окружающей действительности, которую создает терроризм и коммуникационная деятельность его явных или скрытых сторонников [10]. Именно она повышает лояльность к терроризму как среди граждан стран Ближнего Востока, так и жителей стран ЕС, рекрутирующихся в ячейки «Аль-Каиды».
К примеру, деятельность лидера йеменской ветви «Аль-Каиды» Анвара Аль-Авлаки, которого называют «про-Аль-Каидовским проповедником» [9] и «идеологом терроризма одиночек» [12] получала активное содействие в Великобритании, в том числе техническую помощь (часто это была организация его видеоконференций). Был организован ряд выступлений А. Аль-Авлаки, чему содействовало «большое количество лиц и организаций». Среди них указываются частные организации и университетские общества, а также зарегистрированные в Британии благотворительные учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании.
Британский независимый Центр социальных связей (The Centre for Social Cohesion) опубликовал брошюру, в которой дан «всесторонний список всех организаций и лиц, которые защищали, хвалили и показывали Авлаки в наиболее выгодном свете в Великобритании после 11 сентября 2001 г.» Согласно докладу Ч. Э. Аллена, главы отдела разведки и анализа Управления внутренней безопасности США, А. Аль-Авлаки являлся духовным наставником для троих участников теракта 11 сентября. До 11 ноября 2009 г. он вел регулярно обновляемый блог, через который распространял идеи экстремизма [9]. Широкое распространение сообщений А. Аль-Авлаки, многочисленные приглашения его в качестве лектора в учебные заведения Великобритании привели к тому, что к «группам риска», наиболее подверженным воздействиям экстремистской риторики, стали причислять студентов-мусульман.
Не только проповедники и другие лидеры мнений, но и массовая культура часто повышает лояльность к террористической пропаганде. Исследователи отмечают, что, с тех пор, как было осознано влияние на восприятие феномена терроризма в обществе, оказываемое массовой культурой, периодически ставился вопрос: как массовая культура влияет на самих террористов? Приводятся даже свидетельства того, что некоторые террористы при планировании и осуществлении своих акций вдохновлялись примерами из кинематографа.
Фильм Джилло Понтекорво «Битва за Алжир» (1965), повествующий о реальном конфликте между повстанцами Национального освободительного фронта Алжира и французской армией, вдохновил, по утверждению австрийского историка и журналиста Т. Риглера, как многих левых радикалов, так и террористов: по некоторым данным, руководители ИРА, «Тигров освобождения Тамил Илама» и «Черных Пантер» демонстрировали членам своих организаций этот фильм как учебное пособие, так как в нем весьма правдоподобно изображена внутренняя организация и динамика повстанческой борьбы и городской герильи, которая представлялась эффективной. Лидер западногерманской РАФ Андреас Баадер, по словам того же автора, высоко оценивал фильм Дж. Понтекорво. Согласно одной из его биографий, А. Баадер в 1970 г. смоделировал «Dreierschlag» – одновременное ограбление трех банков в Западном Берлине – по образцу ключевой сцены в этом фильме [11; с. 43].
Как более современный (и, признаться, более полемичный) пример приводится свидетельство во время процесса над сочувствующим «Аль-Каиде» в Великобритании в 2006 г. Специалисты просмотрели найденный у него видеофрагмент. Это был боевик 1995 г. «Крепкий орешек 3: Возмездие», который резко обрывался на 60-й минуте и сменялся кадрами ландшафтов Нью-Йорка, при этом голос за кадром подражал звукам взрыва. Некоторые исследователи предполагали даже, что план теракта 11 сентября 2001 г. разрабатывался под воздействием голливудских фильмов. «Утверждать, что терроризм – просто форма копирования предыдущих акций, конечно неправдоподобно – даже в случае «Битвы за Алжир», в котором крайне трудно установить прямую связь между просмотром фильма и применением на практике тактик, описанных в нем» [11; с. 43]. Однако не исключено, что террористы заимствуют свою идентичность (например, провозглашают себя борцами за независимость) не только под влиянием политических работ разнообразной направленности, но и под влиянием массовой культуры, особенно наиболее талантливо выполненных ее образцов. В свою очередь, терроризм становится одной из популярных тем произведений современной массовой культуры. В такой ситуации внедрение коммуникационных механизмов антитеррористической борьбы представляется своевременным и обоснованным.
Чтобы вкратце охарактеризовать проблемы государств, участвующих в глобальной «войне с террором», можно привести мнения специалистов Всемирного антикриминального и антитеррористического форума (ВААФ). Так, заместитель Председателя комитета Государственной думы по безопасности А. С. Куликов утверждает, что «война с террором» «нанесла больше морального ущерба государствам воюющей коалиции, чем материального ущерба тем террористическим группировкам, против которых она объявлена» [5; с. 12].
Он же отметил, что к 2006 г. спецслужбы стран Запада немногое узнали о механизмах функционирования, сильных и слабых сторонах террористических групп. С коммуникационным аспектом проблемы терроризма связан и тот факт, что в современных условиях «воспринимать Бен Ладена и его «Аль-Каиду» как некий авангард террористического движения – значит, закрывать глаза на более неудобную реальность, суть которой состоит в том, что от ядра первородной «Аль-Каиды» эстафету приняла глобальная сеть не связанных друг с другом, но, вероятно, идейно поддерживающих друг друга радикальных ячеек» [5; с. 12].
Другой специалист ВААФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью А. Е. Сафонов, также обращает внимание на тот факт, что в период с 2001 по 2006 г. «Аль-Каида» «из организации, финансирующей, планирующей и проводящей собственно основные террористические акции, превратилась в идеологическую организацию» [6; с. 17]. Далее делается вывод, что, сохранив часть финансовых функций, «АльКаида» делегировала полномочия по подготовке новых боевиков и осуществлению терактов многочисленным разрозненным организациям и группам террористов по всему миру.
На этом фоне основной проблемой, которую можно выделить для государств – участников «войны с террором», является падение их материальных и нематериальных активов. К материальным активам можно отнести технические и финансовые ресурсы, расходуемые при проведении антитеррористических операций. К нематериальным активам в данном случае относятся имидж и репутация государства и его силовых структур, как на международной арене, так и в собственной внутренней политике.
Эксперты в области безопасности признают, что коммуникационный аспект антитеррористической деятельности остается не до конца разработанным даже на базе общеевропейских антитеррористических организаций [см., к примеру: 7]. Так, на уровне Антитеррористического подразделения ОБСЕ главным направлением работы с информацией и коммуникациями признается распределение оперативной информации по разветвленной сети экспертов, основная цель которых – выработка эффективных решений в борьбе с терроризмом, в том числе и в коммуникационной сфере. Однако очень часто представители как силовых структур, так и научного сообщества делают акцент на необходимости защиты информации, упуская из виду те направления, на которых информация выступает не как объект накопления, распределения и защиты, а как средство управляющего воздействия. В некоторой степени эта проблема исследована в работах, посвященных эффекту террористической и антитеррористической деятельности в СМИ, но сам управленческий эффект, оказываемый на целевые аудитории в результате распределения информации, к сожалению, не анализируется в полной мере.
Исследователь В. А. Гарев полагает, что «основной единицей информационной борьбы является акт коммуникации между источником и получателем сообщения». «В случае осуществления процесса коммуникации между террористическими организациями и международным сообществом террористический акт, как правило, является первичным сообщением» [3; с. 9]. Анализ терактов в Европе показывает, что основная целевая аудитория террористических групп – власти государств, на территории которых проводится теракт, – способна в силу разных факторов совершать спонтанные поступки, еще более дестабилизирующие государственную систему при отсутствии слаженного плана не только оперативных мер, но и кризисных коммуникаций. Главная причина этого явления, на наш взгляд, заключается в том, что основное внимание исследователей сконцентрировано не на базисном субъекте коммуникационного менеджмета («заказчике» коммуникационной стратегии), каковым является государство, а на технологическом субъекте – средствах массовой информации, которые, независимо от своей лояльности, в условиях конкуренции неминуемо действуют в интересах тех или иных экономических или политических институтов. Мы можем найти многочисленные рекомендации для журналиста по освещению террористического акта, но крайне редко – указания для представителей власти или организаций, осуществляющих антитеррористическую деятельность.
***
Коммуникационные стратегии террористических групп опираются во многом на тот нигилизм, который сформировался в европейском обществе под влиянием объективных слабостей ключевых сообщений, сформулированных современными политиками. Сегодня, к примеру, существуют точки зрения, согласно которым именно несостоятельность либерализма как регулятора общественных отношений в условиях религиозных, культурных и социальных разногласий является ключевым фактором нестабильности западного общества [8].
Очевидной чертой коммуникационной стратегии современных террористических организаций является использование реакции населения Европейского Союза на проблемы, связанные с мировым экономическим кризисом. Очевидным коммуникационным просчетом европейских властей является неизменное декларируемое ими отношение к конфликтам в Афганистане и Ираке, а также явное отставание коммуникаций, направленных на контакт с мигрантами, от требований текущего момента. Происходит радикализация взглядов европейского населения на экономическую и политическую обстановку, в ситуации которой граждане, особенно молодежь, становятся более уязвимыми перед лицом террористической пропаганды.
Это может привести к ситуации, когда потенциальные представители прогрессивного протестного движения, способного действовать легальным путем, выводятся из такового, становясь жертвами террористической пропаганды, что только усугубляет напряженную ситуацию в обществе, не усиливает элемент дискуссии, а наоборот, исключает ее полностью. Поэтому сегодня так важен поиск новых коммуникационных стратегий для государственных структур и общественных институтов на пути к безопасности. Европейский опыт с его положительными и отрицательными примерами противодействия терроризму должен быть осмыслен и учтен на этом пути и в нашей стране.
Список литературы Коммуникационное противодействие террористической деятельности: основные задачи и проблемы
- Базаркина Д. Ю. Ультралевый терроризм в ФРГ: Основные направления деятельности «Фракции Красной армии» (РАФ) и ее коммуникационное сопровождение (1971 -1992 гг.). М., 2010.
- Вартанова Е. Л. Современные масс-медиа и терроризм: природа взаимоотношений.//Журналистика и СМИ против террора. М., 2009. Гарев А. В. Информационные угрозы современного международного терроризма. М., 2010.
- Дершовиц А. Почему терроризм действует. М., 2005. Куликов А. С. Борьба с терроризмом: достигнуты ли цели, верен ли выбор средств?//Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. Материалы международного форума./Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. М., 2007.
- Сафонов А. Е. Состояние международной борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Обзор.//Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. Материалы международного форума./Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. М., 2007.
- Шургалин М. А. Международное сотрудничество в области противодействия распространению террористической идеологии.//Роль федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и СМИ в формировании системы противодействия идеологии терроризма, разработке и осуществлении мероприятий по информационному противодействию терроризму. Материалы II Всероссийской научно-практической Конференции, Москва, МГУ, 13-14 октября 2010 г. Том I. М., 2010.
- Kamal Pasha M. Islam, nihilism and liberal secularity. // Journal of International Relations and development. Volume 15. №2. April 2012. Meleagrou-Hitchens A. Anwar al-Awlaki. The UK Connection. 11.11.2009. // The Centre for Social Cohesion // www.socialcohesion.co.uk/
- Pashentsev E. N. Management through communications: Terrorist activities and the antiterrorist reaction of the State and Media in Russia. Paper for the seminar “Communication mechanisms in anti-terrorist struggle” at Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Vienna, 28th April 2010. Riegler Th. Through the Lenses of Hollywood: depictions of Terrorism in American Movies//Perspectives on Terrorism. Vol. 4, Issue 2. May 2010.
- Simon J. D. Lone Wolf Terrorism. Understanding the Growing Threat. New York, 2013.