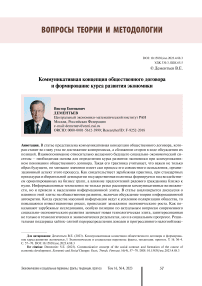Коммуникативная концепция общественного договора и формирование курса развития экономики
Автор: Дементьев В.Е.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Вопросы теории и методологии
Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена коммуникативная концепция общественного договора, которая ставит во главу угла не достижение компромисса, а сближение сторон в ходе обсуждения их позиций. Взаимопонимание относительно желаемого будущего социально-экономической системы - необходимая основа для определения курса развития экономики при коммуникативном понимании общественного договора. Такая его трактовка учитывает, что важен не только образ будущего, не меньшее значение имеет сам процесс его совместного осмысления, организационный аспект этого процесса. Как свидетельствует зарубежная практика, при стандартных процедурах избирательной демократии государственная политика формируется под воздействием ориентированных на бизнес групп, а влияние предпочтений рядового гражданина близко к нулю. Информационные технологии не только резко расширили коммуникативные возможности, но и привели к выделению информационной элиты. В статье анализируется дискуссия о влиянии этой элиты на общественное развитие, включая обсуждение теории информационной автократии. Когда средства массовой информации ведут к усилению поляризации общества, то повышаются инвестиционные риски, происходит замедление экономического роста. Как показывают зарубежные исследования, особую позицию по актуальным вопросам современного социально-экономического развития занимает новая технологическая элита, заинтересованная не только в технологических и экономических результатах, но и в социальном прогрессе. Решительная поддержка хайтек-элитой перераспределения доходов и прогрессивного налогообложения позволяет по-новому взглянуть на перспективы сближения позиций социальных кластеров относительно курса развития экономики. Коммуникативная концепция общественного договора - подходящая основа для синтеза идей социального кластеризма и коллаборативной демократии.
Общественный договор, курс развития экономики, информационная элита, технологическая элита, социальный кластеризм, коллаборативная демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241691
IDR: 147241691 | УДК: 330.3 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.3
Текст научной статьи Коммуникативная концепция общественного договора и формирование курса развития экономики
Германии, Японии, Южной Корее удалось после войн совершить «экономическое чудо». Хотелось бы, чтобы такая ситуация была характерна и для России. При всей важности проработки отдельных проектов и программ ключевым фактором успеха в условиях рыночной экономики является формирование институтов, обеспечивающих конструктивное сотрудничество элит, выражающих интересы основных социальных групп. Как указывает Д. Родрик, анализ промышленной политики должен быть сосредоточен не на ее результатах, которые по своей сути непознаваемы заранее, а на правильном проведении политического процесса. «Нужно беспокоиться о том, как мы создаем условия, в которых частные и государственные субъекты объединяются для решения проблем в производственной сфере, при этом каждая сторона узнает о возможностях и ограничениях, с которыми сталкивается другая, а не о том, является ли правильным инструментом промышленной политики, скажем, целевое кредитование или субсидии на НИОКР или следует ли продвигать сталелитейную промышленность или индустрию программного обеспечения» (Rodrik, 2004, р. 3).
На создание таких условий ориентировано коммуникативное понимание общественного договора: «Оправдание существования государства состоит в первую очередь не в охранении равных субъективных прав, но в обеспечении открытого для всех процесса формирования общественного мнения и воли, в ходе которого свободные и равные граждане достигают взаимопонимания относительно того, какие цели и нормы представляют общий для всех них интерес. Тем самым от гражданина республиканского государства требуется большее, нежели постоянная ориентация на собственный интерес» (Хабермас, 2001, с. 385).
Тема общественного договора все чаще фигурирует в научных исследованиях. Если, согласно данным Google Академии, в 2001– 2020 гг. каждые пять лет появлялось около 16 тысяч материалов, в той или иной мере обращающихся к этой тематике, то начиная с 2021 года всего за два с половиной года зафиксировано 15800 таких публикаций. Обычно фигурирует контрактная трактовка общественного договора, в рамках которой согласие между народом и государством относительно целей, средств их достижения, идеологического обеспечения, эффективности обратной связи и участия народа в управлении делами общества и государства предстает в качестве результата своего рода торга, компромисса сторон. При этом речь может идти о балансе интересов не только между всем народом и властью, но и между составляющими народ стратами, социальными общностями и группами (Тощенко, 2023).
Однако контрактные отношения допускают при формальном равенстве сторон существенные различия в их переговорной силе, возможность манипулирования более слабой, менее информированной стороной. По Дж. Ролзу (Ролз, 1995), равенство исходных позиций – необходимое условие выбора справедливого общественного устройства. В связи с этим можно говорить об ограниченности контрактной трактовки общественного договора применительно к российскому обществу, поскольку справедливость относится к числу его основных ценностей. «Россия традиционно является страной, в которой запрос на социальную справедливость во все времена ее развития стоял особенно остро и имел особо важное значение» (Гречихин, 2020, с. 14).
Коммуникативная концепция общественного договора ставит во главу угла не достижение компромисса, а сближение сторон в ходе обсуждения их позиций. Общественный договор предстает не разовым актом, а длящимся коммуникативным процессом. Процедурный аспект этого процесса имеет большое значение для сохранения взаимопонимания при меняющихся обстоятельствах социально-экономического развития.
Взаимопонимание формируется в условиях, когда «а) никто из желающих внести релевантный вклад в дискуссию не может быть исключен из числа ее участников; б) всем предоставляются равные шансы на внесение своих соображений; в) мысли участников не должны расходиться с их словами; г) коммуникация должна быть настолько свободной от внешнего или внутреннего принуждения, чтобы позиции принятия или непринятия относительно критикуемых притязаний на значимость мотивировались исключительно силой убеждения более весомых оснований» (Хабермас, 2001, с. 115).
Коммуникативное понимание общественного договора предполагает, что курс экономического развития определяется и корректируется в соответствии с достигаемым взаимопониманием относительно желаемого будущего социально-экономической системы и пути его достижения. Как показала российская практика, контрактный вариант общественного договора, сосредоточенный на обязательствах власти и бизнеса, не обеспечивает необходимый для экономического роста уровень инвестиций. Имеется в виду общественный договор в редакции «лояльность в обмен на стабильность»1. Еще в 2011 году А.А. Аузан обратил внимание на то, что партнеры федеральной власти «хотят участия в принятии решений о том, куда идет страна. Это не обязательно политическая конкуренция в том виде, в каком она существовала в 90-е. Она может быть и в других схемах и вариантах. Но все-таки и бизнес, и активная часть общества, и региональные и муниципальные власти не готовы инвестировать, если у них нет гарантий своего участия в принятии решений. Поэтому наиболее предпочтительный вариант для развития – инвестиции в развитие в обмен на участие в принятии решений»2. Можно заключить, что коммуникативный вариант общественного договора близок к запросам многих российских социальных субъектов.
Как показывает практика, страны, где экономические и политические механизмы отвечают такого рода запросам, где предпочтение сотрудничества конкуренции носит массовый характер, лидируют по индексу удовлетворенности жизнью (индексу счастья) и существенно опережают другие государства Запада, включая США, в развитии экономических и политических институтов (Полтерович, 2022a; Полтеро-вич, 2022b).
Военный период – не лучшее время для дискуссий, но уже сама подготовка к общественному диалогу, обсуждение его перспектив являются важным сигналом для всех, кто рассматривает изменения внутри российского общества в качестве необходимого условия для достижения страной полного национального суверенитета и конкурентоспособности в XXI веке. «Именно сегодня в России создаются предпосылки для формирования нового Общественного договора; новых критериев сосуществования и взаимодействия общества и власти, которые будут актуальны уже после достижения всех целей специальной военной операции» (Ильин, Морев, 2022, с. 9).
Некоторые общие контуры будущего России уже очерчены в виде установки на сохранение традиционных ценностей при уважении культурного своеобразия населяющих страну народов. Однако в этих границах возможны разные решения, в частности, в отношении экономической политики. Попытка обрисовать требования к обновленному общественному договору представлена в работе (Балацкий, Екимова, 2022).
Элиты призваны внести непосредственный вклад в поиски взаимноприемлемого для всего общества образа будущего, составляющего основу общественного договора. Такая роль элит соответствует самому их пониманию. Так, в трактовке Дж. Хигли, элиты – «это лица и группы, которые обладают организационным потенциалом для регулярного и сильного воздействия на политические решения» (Хигли, 2006, с. 24). Политико-административному ракурсу анализа соответствует «узкая» трактовка элиты.
Понимание элиты в «широком» смысле отражает социальную стратификацию, наблюдаемую в любой сфере деятельности, когда выделяются те, кто занимает в ней высшие статусные позиции (не обязательно формально закреплённые). Как известно, слово «элита» соответствует французскому elite — избранный, лучший, от лат. eligo – выбирать. По этому принципу в разных сферах выделяются «общности людей, получивших наивысший индекс в области своей деятельности» (Парето, 1995, с. 12).
Формирование приемлемого для всего общества образа будущего важно не только в целях более точного прогнозирования достижимости личных целей, принятия соответствующих стратегических решений. Оно служит повышению институционального и межличностного доверия, накапливанию социального капитала. Формирование объединяющего общество образа будущего – это еще и укрепление социальной идентичности населения страны. Коммуникативная трактовка общественного договора учитывает, что важен не только образ будущего, не меньшее значение имеет сам процесс его совместного осмысления, согласования взглядов участвующих сторон, их готовность договариваться при меняющихся условиях. Выработка устраивающего разные группы образа будущего – принципиальный шаг в достижении социальной справедливости, а с ней и национальной безопасности.
Важным аспектом аргументации в пользу коммуникативной концепции общественного договора выступает анализ, в какой мере учет интересов граждан обеспечивается другими концепциями формирования государственной политики, включая стандартные процедуры избирательной демократии.
Какие возможности и риски для формирования коллективной воли разных социальных групп сопряжены с развитием современных коммуникационных технологий? Какое влияние на перспективу перехода к коммуникативному варианту общественного договора может оказать формирование элиты, связанной с цифровыми технологиями? Эти технологии фигурируют среди факторов, побуждающих к обновлению условий общественного договора. «Вызванные цифровизацией изменения настолько радикальны, что людям приходит- ся переосмысливать прежние правила общественного сосуществования. Иными словами, новый этап цифровой трансформации социума подразумевает и пересмотр условий общественного договора» (Михайленок, Малышева, 2021, с. 36).
Обзор современной литературы
В работе (Gilens, Page, 2014) представлены результаты эмпирического анализа четырех теоретических концепций относительно того, чьи интересы отражает государственная политика. Эмпирической базой исследования послужили материалы 1779 национальных опросов в период с 1981 по 2002 год, когда широкой общественности США задавался вопрос: за/ против предлагаемого изменения политики. Сравнивались следующие трактовки политического процесса: мажоритарная избирательная демократия, в соответствии с которой политика правительства США подчинена коллективной воле граждан, выявляемой в результате демократических выборов; концепция доминирования экономической элиты, утверждающая, что в формировании политики основную роль играют люди, обладающие значительными экономическими ресурсами; концепция мажоритарного плюрализма, рассматривающая правительственную политику как результат соперничества разных групп по интересам; концепция смещенного плюрализма, учитывающая разные «весовые категории» таких групп.
Сопоставление рассматриваемых концепций свидетельствует, что на государственную политику влияют предпочтения экономических элит и позиции организованных групп по интересам, а влияние предпочтений среднего американца близко к нулю. М. Гиленс и Б. Пейдж выявили, что общие позиции наиболее влиятельных, ориентированных на бизнес групп негативно связаны с пожеланиями среднестатистического гражданина. Эти результаты контрастируют с выводами предшествовавших работ, утверждавших, что политика федерального правительства США согласуется с предпочтениями большинства граждан примерно в двух третях случаев (Monroe, 1998; Erikson et al., 2001). Однако ни в одной из них не оценивалось влияние таких переменных, как предпочтения богатых людей или предпочтения и действия организованных групп по интересам.
В (Gilens, Page, 2014) дается некоторая проекция полученных результатов на практические интересы, когда авторы высказывают сомнение в том, что экономические элиты и лидеры групп по интересам лучше знают, какая политика принесет пользу всем: «Несомненно, богатые американцы и руководители корпораций, как правило, много знают о налоговой и регулятивной политике, которая непосредственно влияет на них. Но много ли они знают о воздействии на человека социального обеспечения, медицинской помощи, талонов на питание или страхования по безработице, ни одно из которых, вероятно, не имеет решающего значения для их собственного благополучия? Самое главное, мы не видим оснований полагать, что информационная компетентность всегда сопровождается склонностью выходить за рамки собственных интересов или решимостью работать на общее благо. В целом, мы считаем, что общественность, скорее всего, будет более уверенным защитником своих собственных интересов, чем любая возможная альтернатива» (Gilens, Page, 2014, р. 576).
Такой оценке общественности, но применительно к предпочтениям граждан в политической сфере, фактически оппонирует в своей статье Р. Холкомб (Holcombe, 2021). Он рассматривает факторы, влияющие на политические предпочтения, которых придерживаются массы, и заключает, что люди перенимают политические предпочтения, навязываемые им политической элитой. Одно из объяснений этого заключается в том, что люди не вырабатывают самостоятельно свои политические предпочтения по отдельным вопросам. Скорее, они формируют якорные предпочтения, определяющие их политическую ориентацию. Привязавшись к политической партии, наиболее соответствующей их якорным предпочтениям, люди склонны принимать остальную часть платформы этой партии как производные предпочтения (Holcombe, 2023). Чтобы уменьшить когнитивный диссонанс, люди с готовностью принимают информацию, поддерживающую их якорь, и склонны отвергать информацию, которая ставит его под сомнение (Mullainathan, Washington, 2009). Избиратели, у которых мало стимулов для самостоятельного сбора информации, часто следуют рекомендациям групп по интересам, с которыми они себя идентифици- руют. Люди хотят вписаться в общество своих друзей и поэтому склонны перенимать политические предпочтения своих групп сверстников (Chen, Urminsky, 2019). Кроме того, люди могут голосовать за кандидатов и политику, способствующие перераспределению государственных средств в пользу бедных, даже если эти избиратели недоброжелательны и сами не стали бы давать деньги бедным. Голосование за помощь менее удачливым приносит таким избирателям моральное удовлетворение и не требует от них никаких материальных затрат (Holcombe, 2021).
Примером узкой трактовки экономических интересов политической власти и ее лидера является теория информационной автократии, представленная в статьях С. Гуриева и Д. Трейс-мана (Guriev, Treisman, 2019; Guriev, Treisman, 2020). Разрыв между «информированной элитой» и широкой общественностью в знаниях о реальном положении дел – ключевой элемент этой теории, где лидер противопоставляется «информированной элите», которая следит за ним, и широкой общественности, которая этого не делает. Его положение в соответствии с этой теорией зависит от двух переменных — численности информированной элиты и легкости, с которой, учитывая технологические возможности, государство способно монополизировать средства массовой информации. Обе переменные связаны с уровнем экономического развития страны. «В высокоразвитых современных странах информированная элита, как правило, слишком многочисленна, чтобы манипуляции могли сработать, а цензура всех частных СМИ обходится дорого: демократия – единственный вариант» (Guriev, Treisman, 2019, р. 16–17). Однако на практике это положение теории информационной автократии наиболее впечатляюще нарушается именно в высокоразвитых современных странах. В США и Западной Европе в настоящее время действует почти полная блокада в СМИ на мнения, не желательные официальному курсу правительств.
С. Гуриев и Д. Трейсман фактически постулируют, что в модели информационной автократии должностное лицо не пытается улучшить работу государственного аппарата, а лишь стремится повлиять на общественное мнение, манипулируя информацией. Говорится, что лидер не выигрывает от роста ВВП напрямую, а только за счет увеличения ресурсов для фи- нансирования пропаганды, кооптации информированной элиты, цензуры и/или репрессий (Guriev, Treisman, 2020).
Хотя теория информационной автократии стала довольно популярной, ее трактовка деятельности лидеров, которых С. Гуриев и Д. Трейсман относят к авторитарным, остается чрезмерно упрощенной. В качестве таких лидеров фигурируют, в частности, Реджеп Тайип Эрдоган, Ли Куан Ю, Уго Чавес, Виктор Орбан. Представление их как людей, озабоченных исключительно сохранением своих властных позиций, является весьма дискуссионным. На это уже обратил внимание профессор Нью-Йоркского университета А. Прже-ворский (Przeworski, 2022). По его мнению, демократам трудно понять саму идею о том, что авторитарные режимы могут пользоваться народной поддержкой. «Если им не “промыли мозги” или не “провели идеологическую обработку”, как люди могут поддерживать автократа? Предполагается, что автократии изначально хрупки и выживают только потому, что людей вводят в заблуждение или подавляют… Безусловно, все действия правительственных чиновников в какой-то мере влияют на стабильность режима. Но это не означает, что все их усилия мотивированы стремлением выжить у власти» (Przeworski, 2022, р. 1). Речь идет о том, что теория информационной автократии игнорирует усилия правителей обеспечить то, что ценят люди. Разве не имеет значения, что средние доходы китайцев выросли в шесть раз с 1978 года? – спрашивает А. Пржеворский. Он указывает на идеологическую предвзятость теории информационной автократии. «В конце концов, простое предположение о том, что автократы не могут пользоваться народной поддержкой, является чистой идеологией» (Przeworski, 2022, р. 2).
Наличие в информационном поле разных точек зрения не обязательно является угрозой власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, выполненного на российских материалах. На основе проведенных экспериментов показано, что независимые СМИ способствуют поляризации общества (Enikolopov et al., 2022). Было обнаружено, что доступ к бесплатным онлайн-СМИ повышает как явку сторонников режима на выборах, так и число голосов за правящую партию в избирательных окру- гах, где поддержка была достаточно высокой. В то время как поляризация часто считается пагубной для стабильности существующих демократий (Abramowitz, McCoy, 2019), в автократиях эффект может быть противоположным (Enikolopov et al., 2022, р. 23). Фактически подтверждается, что сообщения, ориентированные на потребителей с резко противоположными предпочтениями, могут иметь обратный эффект, усиливая существующие предпочтения, а не отменяя их (Lord et al., 1979; Ditto, Lopez, 1992). Похожий вывод о возможности положительного влияния независимых иностранных СМИ на состояние автократического режима содержится в (Kern, Hainmueller, 2009).
Важно, однако, учитывать влияние поляризации общества, противостояния элит на темпы экономического развития. В работе (Azzimonti, 2011) представлена модель, показывающая, как разногласия по поводу структуры расходов в поляризованном и политически нестабильном обществе приводят к замедлению экономического роста. В указанной модели получают формализованное объяснение подобные эмпирические выводы В. Истерли и Р. Левайна (Easterly, Levine 1997) и Р. Барро (Barro, 1991). При сильной поляризации общества политика действующей власти в значительной мере диктуется политической неопределенностью и перспективой утраты властных позиций. Отсюда стремление форсировать удовлетворение финансовых запросов своего электората, пусть даже в ущерб для перспектив развития экономики, ценой сокращения инвестиций. Чем больше разногласий, отражаемых степенью поляризации, тем сильнее проявляется недальновидность в выборе политики действующей властью (Azzimonti, 2011, р. 2202).
Д. Ачемоглу и Дж. Робинсон на модели продемонстрировали, что политические элиты могут блокировать технологическое и институциональное развитие из-за «эффекта замены политиков», опасаясь вытеснения их с властных позиций новой элитой. Утверждается, что при наличии политической конкуренции элиты вряд ли будут блокировать развитие. Однако чем выше политические ставки, тем блокировка более вероятна (Acemoglu, Robinson, 2002). Этот результат – еще одно свидетельство того, что сильная поляризация общества оказывает отрицательное влияние на инвестиции и инновации.
Лидеру с амбициозными замыслами по развитию страны приходится иметь дело не только со своими сторонниками, но и с группами, как удовлетворенными существующим положением вещей и не испытывающими желания перемен, так и с ностальгирующими по утерянной власти. Когда деятельность таких групп направлена на поляризацию общества, лидер оказывается перед выбором: пытаться сдерживать эту поляризацию либо пожертвовать своими замыслами.
Наблюдаемое снижение участия граждан в выборах, падение доверия к политическим институтам, интенсификация протестных движений и массовых беспорядков свидетельствуют о кризисе современной западной демократии, основанной на межпартийной конкуренции (Полтерович, 2021). Анализ ряда трансформаций, происходящих в западных странах и служащих преодолению этого кризиса, стал основой для формирования концепции кол-лаборативной демократии. В.М. Полтерович определяет представительную систему принятия политических решений как коллабора-тивную демократию, если она: а) обеспечивает избирателям доступ к процессу принятия решений и широкие возможности выбора; b) предусматривает принятие решений на основе сотрудничества; с) нацелена на поиск эффективных решений, близких к консенсусу; d) опирается на экспертные оценки и защищена от превращения в охлократию (Полте-рович, 2021).
Содержащееся в пункте с) требование поиска консенсусных решений предполагает активное использование консенсусных политических институтов (Полтерович, 2022a) и является основанием для того, чтобы представлять кол-лаборативную демократию как консенсусную. Установка на сближение сторон в ходе обсуждения их позиций позволяет рассматривать кол-лаборативную демократию как воплощение коммуникативной концепции общественного договора.
Цифровые технологии и взгляды хайтек-элиты
Технологическое развитие приводит к тому, что на роль ключевого фактора производства претендуют новые ресурсы, а на роль властвующей элиты – собственники этих ресурсов. В настоящее время радикальные изменения в технологической базе экономики связаны с цифровыми технологиями. Собственники огромных цифровых компаний уже заметно подвинули финансовую и топливно-энергетическую элиту на экономическом олимпе. Чего ждать от новой элиты? Каковы ее предпочтения? Ответы на эти вопросы важны не только для экономики.
Цифровые технологии кардинально изменили информационную сферу. Большую роль в этой сфере играют электронные СМИ, информационно-коммуникационные платформы. На примере компании Alphabet Inc., управляющей компанией Google Inc . и её дочерними структурами, видно стремление информационной элиты к диверсификации бизнеса. Кроме различных услуг в сети Интернет деятельность Google охватывает, в частности, продажу товаров под брендами Fitbit (умные часы), Google Nest (товары для дома) и Pixel (электроника).
В теории информационной автократии информационная элита представлена в весьма упрощенном виде, фактически без собственных властных амбиций. Ее представители либо обслуживают автократа, либо отслеживают его ошибки и злоупотребления и информируют о них общественность. Не обращается внимание на готовность этой элиты манипулировать информацией, вводить собственную цензуру не только в угоду действующей власти, но и во вред ей, исходя из собственных интересов. Некооптированная властью информационная элита представлена в (Guriev, Treisman, 2020) как поборница демократии.
Совсем в ином образе выступает эта элита в книге А. Барда и Я. Зодерквиста (Бард, Зодерк-вист, 2004). Если в теории информационной автократии умножение информационных каналов ведет к усилению демократической направленности общественного развития, в концепции нетократии ожидается, что кризис демократии будет иметь смертельный исход, а информационная сеть выступит скорее в роли старухи с косой, чем рыцаря в блестящих доспехах. Согласно этой концепции, идеи о том, что прозрачность сети обеспечит повышение открытости общества и полную реализацию принципов демократии на всех уровнях, что информация будет в одинаковой мере доступна всем участникам сети и у них будут равные возможности влияния, следует считать не более чем нетокра-тической пропагандой.
А. Бард и Я. Зодерквист пишут о новой властной иерархии в информационном обществе, организованной на основе членства в тех или иных сетях. По их мнению, на нижнем уровне этой пирамиды располагается консьюм-тариат – те, кто только потребляет информацию. Его роль в производственных процессах вспомогательная. Процесс потребления продуктов производства регулируется вышестоящим уровнем, желания подсказываются с помощью рекламы. Внушаемая установка на самовыражение как цель бытия формирует массы занятых своими личными проблемами и не интересующихся мировым порядком. Над охватывающей консьюмтариат сетью, заполненной информационным мусором, отвлекающим от того, что важно, возвышается иерархия сетей со все более ограниченным доступом. Решающим фактором, управляющим положением индивидуума в этой иерархии, служит его или её привлекательность для сети, то есть способность абсорбировать, сортировать, оценивать и генерировать внимание к себе и ценной информации. На вершине иерархии находятся те, кто составляет правящий класс нетократов, наиболее искусно владеющих вниманием как ценнейшим ресурсом в новом мире. Присвоение внимания предстает новым смыслом эксплуатации, а знание истинного положения вещей – привилегией нетократии и одним из оснований ее власти. Отсутствие внимания к тому, что информационная элита является еще и хайтек-элитой, сближает концепцию нетократии с теорией информационной автократии.
Следует отметить, что выделение в концепции нетократии нескольких уровней информационной пирамиды отражает практику повышения эффективности манипулирования информацией. Промежуточным уровнем между нетократами и консьюмтариатом могут выступать лидеры мнений. Они не только помогают воспринимать транслируемую информацию, но и придают ей большую убедительность.
А. Бард и Я. Зодерквист не испытывают энтузиазма по поводу заката демократии, не принимают на себя роль капитулянтов или фаталистов. В предисловии к их книге они отмечают: «Разумеется, в любых условиях можно найти способ в той или иной степени воздействовать на ход общественного развития, но только основываясь на более или менее адекватной модели такого развития. Благие намерения бессильны сами по себе. Возможности оказывать влияние на ход событий смогут появиться, только если мы окажемся способными создать достаточно детальную и при этом непредвзятую модель того, каковы объективные исторические предпосылки и внутренняя природа явлений, набирающих силу» (Бард, Зодерквист, 2004, с. 2).
Представленная А. Бардом и Я. Зодеркви-стом еще в 2000 году3 картина развития информационной сферы близка к тому, что в современной литературе фигурирует как капитализм наблюдения (Zuboff, 2015), как платформенный капитализм (Srnicek, 2016). Во всех этих концепциях асимметрия в знаниях («информация — это новая нефть») приводит к асимметрии во власти.
Деятельность информационно-коммуникационных платформ не ограничивается ролью посредников. Facebook не только объединяет больше людей, чем управляется какой-либо одной страной на этой планете, но и «знает о личных предпочтениях избирателей, политической вовлеченности и психографических триггерных точках больше, чем многие правительства в этом мире» (Helberger, 2020, р. 842). Такие знания превращают платформы в обладателей значительной политической власти над общественным мнением. Еще в 2007 году М. Кастельс обратил внимание на то, что «политика основана на социализированной коммуникации, на способности влиять на умы людей» (Castells, 2007, р. 240).
Как утверждается в работе (Helberger, 2020, р. 849), «в настоящее время в Европе нет предложений по установлению ограничений на то, как далеко платформы могут зайти в использовании искусственного интеллекта, алгоритмов и собираемых ими данных для убеждения и злоупотребления этой властью в собственных политических целях». Попытки внедрить некоторые стандарты социальной ответственности платформ еще больше усиливают влияние этих платформ на общественное мнение и, следовательно, их политическую власть.
В таких условиях особенно важны исследования, которые не рассматривают экономическую элиту как однородную, а нацелены на выявление позиции по актуальным вопросам современного социально-экономического развития, занимаемой новой технологической элитой. Эти исследования фактически служат формированию модели объективных исторических предпосылок и внутренней природы явлений, набирающих силу, к чему призывали А. Бард и Я. Зодерквист.
Технологические предприниматели уже использовали свои возможности для влияния на политику США. Так, в 2012 году Google и другие интернет-компании попросили посетителей своих веб-сайтов связаться с Конгрессом, чтобы выступить против находящегося на рассмотрении законопроекта «Закон о борьбе с онлайн-пиратством», который возлагал бы на них ответственность за размещение контента, нарушающего авторские права. Конгресс столкнулся с потоком обращений, в результате чего поддержка законопроекта Конгрессом сошла на нет (Broockman et al., 2019).
Результаты исследований показывают, что технологические предприниматели США (Apple, Amazon, Alphabet/Google, Microsoft, Facebook и др.) придерживаются особого набора взглядов, необычного для любой другой массовой или элитной группы. В работе (Broockman et al., 2019) на основе проведенных опросов представлено мнение хайтек-элиты в четырех областях политики: перераспределение, регулирование, глобализация и социальные вопросы.
Технологические предприниматели сильно привержены глобализации, поддерживают соглашения о свободной торговле (87%), выступают за повышение уровня иммиграции (56%). Среди технологических предпринимателей, участвовавших в опросе, 61,3% идентифицируют себя как демократы по сравнению только с 14,1%, которые относят себя к республиканцам.
Технологические предприниматели почти единодушно поддерживают однополые браки (96%), выступают за контроль над оружием (82%) и против смертной казни (67%), рассматривают аборты как вопрос личного выбора (79%).
Такие предприниматели решительно поддерживают перераспределение и прогрессивное налогообложение. Почти все они являются сторонниками повышения налогов для тех, кто зарабатывает более 250 000 или 1 000 000 долларов в год, 75% поддерживают федеральные расходы на программы, которые приносят пользу только бедным, а 59% считают, что такие расходы следует увеличить, 82% заявили о необходимости всеобщего медицинского обслуживания, даже если это означает повышение налогов.
Несмотря на свой либерализм в вопросах экономического перераспределения, технологические предприниматели очень консервативны в вопросах государственного регулирования. Они реже, чем демократы, поддерживают регулирование товарных рынков и гораздо чаще верят, что государственное регулирование бизнеса приносит больше вреда, чем пользы. Их консервативные взгляды на вопросы, связанные с профсоюзами и регулированием рынка труда, очень похожи на взгляды республиканцев. Сочетание консервативных взглядов технологических предпринимателей на регулирование и либеральных взглядов на экономическое перераспределение уникально.
Эти наблюдения позволяют представить возможную эволюцию политики Демократической партии США под влиянием технологических предпринимателей, а в связи с этим эволюцию американской политики в целом. Студенты, специализирующиеся в области компьютерных наук, уже придерживаются во многом тех же взглядов, что и основатели технологических компаний.
Вывод о том, что члены технической элиты придерживаются схожих мировоззрений и явно образуют отдельную фракцию капиталистического класса, получил подтверждение в исследовании, которое уже не ограничивалось предпринимателями США, а фокусировалось на определенных журналом Forbes 100 самых богатых в мире людях в сфере высоких технологий (Brockmann et al., 2021). Те, кто попал в список Forbes, заработали свои деньги в основном на компьютерных программах, аппаратном обеспечении и связанных с интернетом технологиях и услугах. Половина из 100 крупнейших технологических миллиардеров – представители США, 5 – Канады, 5 – Европы, 17 – Китая, 3 – Гонконга, 7 – других частей Восточной Азии: Южной Кореи, Японии, Тайваня и Сингапура. Трое – предприниматели из Израиля, по двое – из Индии и Австралии и по одному – из Бразилии и России. Исследование показало, что 100 самых богатых представителей мира технологий демонстрируют особые взгляды, которые отличают их как от населения в целом, так и от других богатых элит. Поскольку созданные ими компании занимают доминирующее положение в формирующейся экономике, основанной на технологиях, взгляды хайтек-элиты имеют большое влияние на то, как расходуются экономические ресурсы. Высказывается мнение, что, несмотря на озабоченность деньгами как мерилом успеха, технологическая элита, похоже, действительно испытывает сильные позитивные чувства по отношению к идее «сделать мир лучше». В качестве аргумента приводится то, что шестьдесят технологических предпринимателей из рассматриваемой выборки имеют благотворительные фонды, которые поддерживают свои собственные вебсайты (Brockmann et al., 2021). В какой мере такие действия самоценны для технологической элиты, в какой мере призваны ослабить сопротивление переменам со стороны старой элиты, покажет будущее.
Заключение
Представленные в работах (Полтерович, 2022a, Полтерович, 2022b) достоинства колла-боративной демократии можно дополнить более высокой устойчивостью экономики в условиях турбулентности экономической среды, что было продемонстрировано в период пандемии СОVID-19 группой стран (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Швейцария и Нидерланды), тяготеющих к такой системе управления (таблица). Совокупное снижение
ВВП по этой группе стран в 2020 году составило 2,6%, что более чем в два раза меньше, чем в целом по Европейскому союзу.
В период масштабных структурных сдвигов в экономике важным источником неопределенности будущего является существенное расхождение во взглядах на него у элит. В таких условиях совместное осмысление перспектив развития страны российскими элитами приобретает особое значение. При всей привлекательности прямого участия граждан в принятии решений для предотвращения поляризации выносимых на голосование вариантов целесообразно предварительное сближение позиций лидеров мнений, имеющихся элит. На достижение баланса их интересов ориентирует концепция социального кластеризма (Макаров, 2010). С учетом изложенного ранее следует выделить подкластеры в рамках предпринимательского кластера.
Вовлеченность элит кластеров в поиски консенсусных решений открывает перспективу решения двух важнейших и связанных друг с другом трудностей коллаборативного управления. Речь идет о сложности организации продуктивного обсуждения между миллионами агентов и необходимости высокого уровня компетентности для эффективного принятия государственных решений (Полтерович, 2021).
Сотрудничество элит социальных кластеров не снимает с повестки дня вопрос о прямом голосовании, включая такое голосование в рамках кластеров. Важным предупреждением является представленная в (Lopez, Dubrow, 2020) аргументация того, что воспроизводство политического неравенства внутри стран и во време-
Темпы изменения ВВП стран в период 2020–2022 гг., %
|
Страна |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Дания |
-1,99 |
4,86 |
3,82 |
|
Норвегия |
-1,28 |
3,90 |
3,28 |
|
Швеция |
-2,17 |
5,39 |
2,64 |
|
Финляндия |
-2,35 |
3,05 |
2,08 |
|
Исландия |
-7,24 |
4,33 |
6,44 |
|
Швейцария |
-2,38 |
4,22 |
2,06 |
|
Нидерланды |
-3,89 |
4,86 |
4,48 |
|
Европейский союз |
-5,67 |
5,47 |
3,54 |
|
Великобритания |
-11,03 |
7,60 |
4,10 |
|
Страны OECD |
-4,21 |
5,47 |
2,78 |
|
Источник: World Development Indicators. |
|||
ни выступает результатом двух ключевых взаимосвязанных механизмов: координации элит и дискоординации масс.
При любой системе управления существует опасность ее перерождения, эрозии исходных принципов. На это еще в 1911 году обратил внимание Р. Михельс, сформулировав «железный закон олигархии» (Michels, 2001). Когда в основе общественного договора лежит общее признание необходимости взаимопонимания всех сторон, такое признание должно подтверждаться и реализовываться в рамках регулярной практики. В этом смысл трактовки коммуникативного общественного договора как процесса, а не единовременного акта. Чтобы согласование интересов социальных кластеров не подменялось согласованием интересов элит, необходимо расширение прямого участия граждан в принятии решений, включая регулярные референдумы по наиболее важным вопросам. При этом возрастает роль экспертов, призванных анализировать и разъяснять гражданам возможные последствия тех или иных решений (Пол-терович, 2021).
Из работ Э. Остром следует, что для эффективной совместной деятельности требуется определенная общность интересов. В исследованных ею успешных самоуправляемых институциях люди имеют общее прошлое и рассчитывают разделить будущее. Для них важно поддерживать свою репутацию надежных членов сообщества (Остром, 2013).
Как показывают исследования зарубежной хайтек-элиты, она заинтересована не только в новых технологических и экономических результатах, но и в социальном прогрессе. Решительная поддержка этой элитой перераспределения и прогрессивного налогообложения позволяет по-новому взглянуть на возможности снижения дифференциации социальных кластеров по доходам. Можно ожидать, что амбиции российского бизнеса в сфере высоких технологий со временем будут все больше выходить за рамки погони за прибылью. Остается надеяться, что одобрение некоторых инклюзивных культурных инноваций останется спецификой хайтек-элиты США.
Бизнес вынужден реагировать на меры государственной экономической политики. Однако поддержка им курса экономического раз- вития страны станет более активной, если этот курс будет выработан при непосредственном участии бизнеса наряду с другими социальными кластерами. Причем такое совместное формирование экономического курса не сведется к выторговыванию кластерами каких-то уступок со стороны правительства.
Предварительное формулирование элитами своих представлений о будущем страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу может быть полезно для ускорения выработки совместной стратегии социально-экономического развития страны. Вместе с тем важна изначальная установка на то, что формирование коллективной воли сопряжено с изменением исходных предпочтений сторон, их замыслов на перспективу. Политические институты призваны придавать именно такой характер процессу формирования коллективной воли (Floridia, 2013). Когда же на выражение такой воли претендуют разработанные вне представленного процесса кабинетные стратегии, это похоже на заявку о передаче власти меритократии. В настоящее время концепция меритократии ставится под сомнение во многих статьях и книгах (Frank 2016; Littler 2017; Markovits, 2019). Как указывают критики меритократической формулировки «равенства возможностей», она имеет позитивный смысл, но служит плутократам в качестве прикрытия неравенства. «В то время как существование элит вряд ли является чем-то новым, в какой-то степени более новым с исторической точки зрения является степень, в которой большие слои сегодняшней плутократии испытывают потребность притворяться, что они вовсе не являются элитой» (Littler, 2017, р. 115). Такая тактика имеет успех: «Чем больше неравенства в обществе, тем больше вероятность того, что его граждане объяснят успех меритократическими условиями, и тем менее важными они считают немеритократические факторы, например семейное богатство и связи человека» (Mijs, 2021, p. 7).
Усердие в учебе повышает шансы получить высокооплачиваемую работу, но 22 из 100 наиболее богатых представителей мировой хайтек-элиты никогда не учились в колледже или университете (Brockmann et al., 2021). Люди испытывают сильный психологический стресс, когда существует дисбаланс между доминирующей и всепроникающей идеологией меритократии и их усилиями подняться по социальной лестнице с помощью упорного труда (Garrison et al., 2021).
Можно ставить «равенство результатов» выше «равенства возможностей» (Littler, 2017), при том что богатство не является универсальным измерителем результатов. Концепция со- циального кластеризма допускает совместную выработку стратегии развития, согласование интересов кластеров, когда каждый из них руководствуется своим пониманием результатов. Коммуникативная концепция общественного договора – подходящая основа для синтеза идей социального кластеризма и коллаборатив-ной демократии.
Список литературы Коммуникативная концепция общественного договора и формирование курса развития экономики
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2022). Общественный договор в России: до и после 2022 года // Journal of Institutional Studies. № 3. С. 74–90. DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.3.074-090
- Бард А., Зодерквист Я. (2004). Неtократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 256 с.
- Гречихин В.Г. (2020). Проблемы социальной справедливости и неравенства в современном российском обществе // Теория и практика общественного развития. № 5 (147). С. 14–17.
- Ильин В.А., Морев М.В. (2022). В стране формируются контуры нового Общественного договора // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 6. С. 9–34. DOI: 10.15838/esc.2022.6.84.1
- Макаров В.Л. (2010). Социальный кластеризм. Российский вызов. М.: Бизнес Атлас. 272 с.
- Михайленок О.М., Малышева Г.А. (2021). Пандемия COVID-19 – новый этап цифровой трансформации общества // Социальные и гуманитарные знания. Т. 7. № 1. С. 28–39.
- Остром Э. (2013). Управление общим. Эволюция институций коллективного действия / пер. с англ. Т. Монтян. Киев. 400 с.
- Парето В. (1995). История – кладбище элит // Политическая мысль. № 3.
- Полтерович В.М. (2021). Кризис институтов политической конкуренции, интернет и коллаборативная демократия // Вопросы экономики. № 1. С. 52–72. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-52-72
- Полтерович В.М. (2022a). Конкуренция, сотрудничество и удовлетворенность жизнью. Ч. 1. Семерка европейских лидеров // Экономические и социальные перемены: факты. тенденции, прогноз. Т. 15. № 2. С. 31–43. DOI: https://doi.org/10.15838/esc.2022.2.80.2
- Полтерович В.М. (2022b). Конкуренция, сотрудничество и удовлетворенность жизнью. Ч. 2. Основа лидерства – коллаборативные преимущества // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 42–57. DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.2
- Ролз Дж. (2010). Теория справедливости. Изд. 2-е. М.: URSS; ЛКИ. 535 с
- Тощенко Ж.Т. (2023). Общественный договор: исторические и современные реалии в советском/российском обществе // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 3. C. 39–53. DOI: 10.15838/esc.2023.3.87.2
- Хабермас Ю. (2001). Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука. 417 с.
- Хигли Дж. (2006). Демократия и элиты // Полития. № 2. С. 22–31.
- Abramowitz A., McCoy J. (2019). United States: Racial resentment, negative partisanship, and polarization in Trump’s America. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 681(1), 137–156.
- Acemoglu D., Robinson J.A. (2006). Economic backwardness in political perspective. American Political Science Review, 100(1), 115–131. DOI:10.1017/S0003055406062046
- Azzimonti M. (2011). Barriers to investment in polarized societies. American Economic Review, 101(5), 2182–2204. DOI: 10.1257/aer.101.5.2182
- Barro R. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443.
- Brockmann H., Drews W., Torpey J. (2021). A class for itself? On the worldviews of the new tech elite. PLoS ONE, 16(1), e0244071. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244071
- Broockman D.E., Ferenstein G, Malhotra N. (2019). Predispositions and the political behavior of American economic elites: evidence from technology entrepreneurs. American Journal of Political Science, 63(1), 212–233. DOI: https://doi.org/10.1111/ajps.12408
- Castells M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 29(1), 238–266.
- Chen S., Urminsky O. (2019). The role of causal beliefs in political identity and voting. Cognition, 188, 27–38. DOI: 10.1016/j.cognition.2019.01.003
- Ditto P.H., Lopez D.F. (1992). Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred conclusions. Journal of Personality and Social Psychology, 63(4), 568–584.
- Easterly W., Levine R. (1997). Africa’s growth tragedy: Policies and ethnic divisions. Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1203-50.
- Enikolopov R., Rochlitz М., Schoors K.J.L., Zakharov N. (2022). The Effect of Independent Online Media in an Autocracy. Available at: https://ssrn.com/abstract=4131355. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4131355
- Erikson R., Mackuen M., Stimson J. (2001). The Macro Polity. Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9781139086912
- Floridia A. (2013). Participatory Democracy Versus Deliberative Democracy: Еlements for a Possible Theoretical Genealogy. Two Histories, Some Intersections. Paper Presented at the 7th ECPR General Conference, Sciences Po, Bordeaux, September 4–7. Available at: https:// ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/71d7f83c-3fe4-4b11-82a2-c151cd3769f4.pdf
- Frank R.H. (2016). Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Garrison Y.L., Rice A., Liu W.M. (2021). The American meritocracy myth stress: Scale development and initial validation. The Counseling Psychologist, 49(1), 80–105. DOI: 10.1177/0011000020962072
- Gilens M., Page B. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564–581. DOI: 10.1017/S1537592714001595
- Guriev S., Treisman D. (2019). Informational autocrats. Journal of Economic Per¬spectives, 33(4), 100–127. DOI: 10.1257/jep.33.4.100
- Guriev S., Treisman D. (2020). A theory of informational autocracy. Journal of Public Economics, 186(104158). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104158.
- Helberger N. (2020). The political power of platforms: How current attempts to regulate misinformation amplify opinion power. Digital Journalism, 8(6), 842–854. DOI: 10.1080/21670811.2020.1773888
- Holcombe R.G. (2021). Elite influence on general political preferences. Journal of Government and Economics, 3(C), 1–7. DOI: 10.1016/j.jge.2021.100021
- Holcombe R.G. (2023). Following Their Leaders: Political Preferences and Public Policy. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009323178
- Kern H.L., Hainmueller J. (2009). Opium for the masses: How foreign media can stabilize authoritarian regimes. Political Analysis, 17(4), 377–399.
- Littler J. (2017). Against Meritocracy: Culture, Power and Myths of Mobility. New York: Routledge.
- López M., Dubrow J.K. (2020). Politics and inequality in comparative perspective: A research agenda. American Behavioral Scientist, 64(9), 1199–1210. DOI: https://doi.org/10.1177/0002764220941234
- Lord C.G., Ross L., Lepper M. R. (1979). Biased assimilation and attitude polar¬ization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), 2098–2109.
- Markovits D. (2019). The Meritocracy Trap: How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite. New York: Penguin Press.
- Michels R. (2001). Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Kitchener: Batoche Books.
- Mijs J.B. (2021). The paradox of inequality: Income inequality and belief in meritocracy go hand in hand. Socio-Economic Review, 19(1), 7–35. DOI: https://doi.org/10.1093/ser/mwy051
- Monroe A.D. (1998). Public opinion and public policy 1980–¬1993. Public Opinion Quarterly, 68, 6–28.
- Mullainathan S., Washington E. (2009). Sticking with your vote: Cognitive dissonance and political attitudes. American Economic Journal: Applied Economics, 1(1), 86–111.
- Przeworski A. (2022). Formal models of authoritarian regimes: A critique. Perspectives on Politics, 1–10. DOI: 10.1017/S1537592722002067
- Rodrik D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. CEPR Discussion Papers 4767. Available at: https://cepr.org/publications/DP4767
- Srnicek N. (2016). Platform Capitalism. Wiley.
- Zuboff S. (2015). Big Other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, 30(1), 75–89. DOI: 10.1057/jit.2015.5