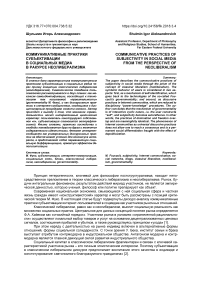Коммуникативные практики субъективации в социальных медиа в ракурсе неолиберализма
Автор: Шульмин Игорь Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье дана характеристика коммуникативным практикам субъективации в социальных медиа через призму концепции классического либерализма (неолиберализма). Символическое поведение пользователей рассматривается в двух планах: как механизм самоидентификации, восходящий к технологиям так называемой «правительности» (governmentality М. Фуко), и как дискурсивные практики в интернет-сообществах, сводящиеся к дисциплинарным процедурам «власти-знания». Автор приходит к выводу о том, что механизм «правительности» носит интерактивный циклический характер: пользователь конструирует собственное «я», субъективация становится авторефлексивной. Иными словами, практики господства и свободы накладываются друг на друга и являются содержательно идентичными. Феномен интернет-сообществ как универсальных дискурсивных практик не обеспечивает условий для консенсуса интересов, а представляет собой перманентную социальную дифференциацию, чреватую эффектом деполизитизации.
М. фуко, субъективация, интернет-коммуникация, социальные сети, блоги, классический либерализм, неолиберализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14941463
IDR: 14941463 | УДК: 316.77+070:004.738.5:32 | DOI: 10.24158/fik.2018.3.4
Текст научной статьи Коммуникативные практики субъективации в социальных медиа в ракурсе неолиберализма
В РАКУРСЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
Принцип гетерогенности, ключевой для философии постструктурализма, находит непосредственное преломление в теории классического либерализма и неолиберализма. Рынок, будучи интегральным феноменом, результатом действий мириад участников, не является эмпирической данностью, которую ученый, философ или политик препарирует как объект.
Современная национальная экономика, смыкающиеся с ней социальная сфера и частная жизнь граждан имеют «конструктивистский» характер и могут быть рассмотрены с позиций критической теории М. Фуко. В настоящей статье будут подвергнуты дискурс-анализу коммуникативные практики субъективации интернет-пользователей в соцмедиа как участников рыночных отношений.
Классический либерализм, равно как и неолиберализм, мыслит социальную реальность как множество социальных практик. Центральное для данных концепций понятие рынка определяется Ф.А. Хайеком как «стихийный порядок». Участники рынка в условиях «ограниченной рациональности» осуществляют локальный выбор товаров и услуг на основании децентрализованных ценовых сигналов, соотношения прибылей и убытков, а также руководствуясь принципом «ухода» [1].
При этом наряду с деятельностью на рынке индивид включен в альтернативные формы отношений, формы социальной солидарности. С точки зрения У. Бека, институт семьи и брака выступает атрибутом контрмодерна в индустриальном обществе. Антагонизм модерна и контрмодерна является главной движущей силой развития индустриального общества.
Социальный капитал в классическом либерализме фрагментарен и связан с ключевой характеристикой участника рынка – его личным эгоистическим интересом. Поэтому субъективация в классическом либеральном дискурсе предполагает воспитание этого качества в индивиде и конституирование «автономного благоразумного гражданина» [2].
Если в индустриальном обществе частная сфера граждан отделена от государственной, а частная жизнь – от публичной, то в информационном обществе происходит приватизация политической сферы и политизация частной. «Динамика индивидуализации, вырвавшая людей из классовых культур, не останавливается и на пороге семьи. …Эта сила вырывает их из рамок пола, из его сословных атрибутов и заданностей или по меньшей мере приводит в смятение» [3, с. 160]. Таким образом, социальный капитал в неолиберализме тотален, он связан не только с собственно экономическими отношениями, но и с прочими процессами, в том числе транзакциями (коммуникацией).
Данный тезис применительно к современным медиа сформулирован Н. Луманом как парадокс: «Все, что мы знаем относительно нашего общества и даже мира, в котором живем, мы знаем через средства массовой информации… И напротив, мы знаем так много о средствах массовой информации, что неспособны доверять им как источнику информации» [4, с. 175]. Иными словами, коммуникация в социальных сетях представляет собой символическое поведение пользователей. Последние включены в дискурс соцмедиа, субъективируются в практиках свободы и господства, причем эти процессы носят имманентный циклический характер.
«Поздний» М. Фуко, обращаясь к анализу современной либеральной демократии и капиталистического рынка, проблематизирует критические теории и философские концепции автономной личности, выявляющие «формы господства, которые будут препятствием для эмансипации или реализации возможностей людей» [5, с. 126]. М. Дин, реконструируя социально-критическую теорию французского мыслителя, предлагает следующую классификацию представленных им форм власти: суверенная , дисциплинарная и govern-mentality («правительность»).
Исторически первая форма характеризует отношения суверена и подданных в абсолютных монархиях, основанные на принципе «заставить умереть или позволить жить» и «механизмах изъятия»: верховный правитель отнимает «продукты, деньги, богатство, товары, услуги, труд и кровь» [6, с. 272]. Феномен власти понимается в таком случае тривиально как проявление господства в иерархических субъект-субъектных отношениях.
В контексте разговора о соцмедиа суверенитет реализуется в политико-правовом регулировании электронных средств массовой коммуникации: удалении нелегального контента, составлении списка запрещенных сайтов, административном и уголовном преследовании блогеров и т. д. Эта линия подкрепляется периодическими законодательными инициативами запретить интернет.
Дисциплинарная власть (или «власть-знание») в отличие от суверенной дискурсивна и представляет собой набор процедур, техник, приемов и пр., направленных на формирование субъекта в социальных практиках (больной в психиатрической клинике, заключенный в исправительном учреждении), в том числе сообществах (так называемых «пабликах», «группах») в социальных медиа.
Сообщества в соцсетях являются максимально широкой площадкой для общественных дискуссий и восходят к древнегреческой агоре , служившей, как известно, «собранием граждан для свободного обсуждения новостей и принятия относящихся к общественной жизни решений, а также городской площадью для таких собраний» [7]. И действительно, представительная демократия благодаря высоким технологиям как бы возвращается в античные времена, когда свободные граждане полиса прямо участвовали в политическом процессе.
Казалось бы, данные процедурные условия отвечают принципам морального универсализма Ю. Хабермаса, которые «он связывает с расширением сферы публичного политического дискурса (социально значимых коммуникаций)» [8, с. 86]. Однако, с точки зрения С. Жижека, тотальная политизация лишена глубокого «драматического конфликта», на котором построена представительная демократия. В модернистском обществе социальные группы субъективировались согласно парадоксальному принципу «часть, которая не является частью». Классический тому пример – пролетариат как субъект идеи социалистической революции. Для того чтобы он стал движущей силой истории, выразителем всеобщего, рабочим (как особенным) необходимо объединиться политически, т. е. субъективироваться для классовой борьбы [9, с. 255–263].
Традиционный механизм демократии, описанный С. Жижеком, в постполитическом дискурсе соцмедиа не только не находит своего выражения, а нивелируется окончательно. Пользователи не нуждаются в политических процедурах субъективации (создание партий и общественных движений, а также членство в этих организациях, участие в выборах и собраниях и т. д.), так как дискурс как «власть-знание» изначально маркирует их как социальных агентов. На «электронной» агоре каждый имеет право голоса, но этот голос является не «волеизъявлением», а инструментом самоидентификации. Иными словами, участие в обсуждениях не имеет перспективы консенсусного решения, но субъективирует пользователя в категориях социального.
К примеру, в группе «СтопХам» во «ВКонтакте» публичная дискуссия вокруг правового и морального статуса одноименного общественного движения остается открытой долгие годы. Пользователи взаимно различаются как пешеходы и автолюбители, общественные активисты и граждане, сторонники и противники гражданского контроля за соблюдением правил дорожного движения. Субъективация бесконечным образом индивидуализируется: каждый участник сообщества вносит новую краску в субъекты «пешеход» или «автолюбитель», однако содержание дискуссии остается в «вечном настоящем», не развивается исторически, а главное не снимается на основе консенсуса интересов, как это имеет место в традиционном политическом дискурсе.
Наконец, «правительность» как форма власти возникает тогда, когда в словаре политической рациональности появляются конструкты «население», «национальная экономика», «безопасность граждан» и др. В отличие от дисциплинарной формы власти, «правительность», во-первых, тотальна и распространяется на все социальные процессы, а во-вторых, авторефлек-сивна: ее механизмы обращены на саму себя и призваны оптимизировать управление «населением» путем дистрибуции властных полномочий в обществе.
Индивид, встраиваясь в авторефлексивные формы управления, подвергается целому ряду техник самоактуализации («роста самосознания, уполномочивания, самооценки, альтернативной педагогики, риторики голоса и представительства» [10, с. 374]). Это и объясняет амбивалентный характер субъективации в данном дискурсе власти: индивид становится «двойным агентом» практик свободы и господства, «социальный» конфликт разворачивается в «особой конфигурации взаимосвязи между истиной, властью и самостью» [11, p. 1130].
Управление агентностью населения достигает логического завершения в дискурсе соцмедиа. Напомним, что первоначально данные интернет-ресурсы способствовали тому, чтобы бывшие одноклассники, однокашники, коллеги спустя некоторое время могли найти друг друга. Т. е. коммуникация в соцсетях с момента их создания была завязана на технологии субъективации как самоидентификации. Так, аккаунт, оформленный в виде анкеты, представляет собой своеобразный «социологический опрос»: его участнику необходимо указать Ф. И. О., пол, возраст, место учебы и работы и т. д. Пользователь таким образом кодирует субъективность в «превращенной форме» социальной самоидентификации. И наоборот: осуществляет инструментализированный поиск людей, манипулируя статистическими переменными, подобно тому как это делает чиновник в своей административной деятельности.
Впоследствии социальные сети трансформировались в площадки самоконструирования идентичности, т. е. субъективация в них обернулась социальной индивидуализацией. Пользователь конструирует виртуальную субъективность, отличную от «я», маркированного в социальных практиках. Эту виртуальную субъективность «я» рекурсивно соотносит с собой и присваивает как самость. Таким образом, коммуникативная стратегия пользователя замыкается на производстве субъективности.
Резюмируя вышесказанное, зафиксируем, что символический обмен пользователей в социальных медиа реализуется в двух планах: как механизм самоидентификации, восходящий к технологиям «правительности», и как дискурсивные практики в интернет-сообществах, сводящиеся к дисциплинарным процедурам «власти-знания».
Механизм «правительности» носит интерактивный циклический характер: пользователь конструирует собственное «я», субъективация становится авторефлексивной. Иными словами, практики господства и свободы накладываются друг на друга и являются содержательно идентичными.
Феномен интернет-сообществ как универсальных дискурсивных практик не обеспечивает условий для консенсуса интересов, а представляет собой перманентную социальную дифференциацию, чреватую эффектом деполизитизации.
Ссылки:
Список литературы Коммуникативные практики субъективации в социальных медиа в ракурсе неолиберализма
- Пеннингтон М. Классический либерализм и будущее социально-экономической политики. М., 2014. 256 с.
- Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах. М., 2016. 591 с.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 383 с.
- Бехманн Г. Современное общество. Общество риска, информационное общество, общество знаний. М., 2014. 248 с.
- Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Вавилонская сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве интернета //Вопросы философии. 2013. № 1. С. 74-84. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=678 (дата обращения: 08.02.2018).
- Пружинин Б.И., Грановская О.Л. «Публичная рациональность» Ю. Хабермаса в контексте идеи ценностного плюрализма//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 3 (33). С. 82-87.
- Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии. М., 2014. 528 с.
- Ball S.J. Subjectivity as a Site of Struggle: Refusing Neoliberalism?//British Journal of Sociology of Education. 2016. Vol. 37, no. 8. P. 1129-1146. https://doi.org/10.1080/01425692.2015.1044072.