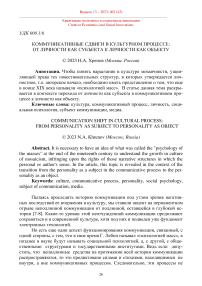Коммуникативные сдвиги в культурном процессе: от личности как субъекта к личности как объекту
Автор: Хренов Н.А.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (43) т.13, 2023 года.
Бесплатный доступ
Чтобы понять нарастание в культуре мозаичности, ущемляющей права тех повествовательных структур, в которых утверждается личностное, т.е. авторское начало, необходимо иметь представление о том, что еще в конце ХIХ века называли «психологией масс». В статье данная тема раскрывается в контексте перехода от личности как субъекта в коммуникативном процессе к личности как объекту.
Культура, коммуникативный процесс, личность, социальная психология, субъект коммуникации, медиа
Короткий адрес: https://sciup.org/142240629
IDR: 142240629 | УДК: 008.1/6
Текст научной статьи Коммуникативные сдвиги в культурном процессе: от личности как субъекта к личности как объекту
Пытаясь проследить историю коммуникации под углом зрения негативных последствий ее вторжения в культуру, мы ставили акцент на перманентном отрыве неподлинной коммуникации от подлинной, оставшейся в глубокой истории [7-8]. Какие-то уровни этой неотчужденной коммуникации продолжают сохраняться и в современной культуре, хотя под них и подведен уже фундамент электронных технологий.
Но есть еще один аспект функционирования коммуникации, связанный, с одной стороны, с тем, что в свое время Г. Лебон называл «психологией масс», а позднее в науке будут называть социальной психологией, а, с другой, с общественными структурами и государственными институтами. Ведь если допустить, что неподлинные средства на протяжении всей истории коммуникации распространяются, то это продиктовано силами и стихиями, находящимися не внутри, а вне коммуникативных процессов. Следовательно, эти процессы не всегда являются стихийными. Здесь возникает проблема направленности коммуникации. Касаясь воздействия интернета, Г. Рейнгольд пишет: «Нас заботит не только то, как мы пользуемся техникой, но и то, кем мы становимся, пользуясь ею» [5, с.261]. Кого в данном случае Г. Рейнгольд имеет в виду под субъектом коммуникативных процессов? Личность, социальную группу, субкультуру, общество, государство?
До беспрецедентного взрыва, что имел место в коммуникативных процессах ХХ века, внешние силы в виде не только государства и церкви еще контролировали и сдерживали энергию масс, способную проявиться в разрушительных формах. Именно эту мысль и находит у Руссо Ж. Деррида, обращая внимание на констатируемое рассредоточение соседства, что, если перевести на специфическую для коммуникации терминологию, означает отсутствие интеракции в ее элементарной форме как выражение угнетения и произвола власти («Правительства, угнетающие свои народы, делают одно и то же: разрушают наличие и соналичие граждан, единодушие «собравшегося народа», рассеивают людей, держат своих подданных порознь, лишая их тем самым чувства сопринадлежности общему пространству речи и общения, основанного на убеждении» [1, c.287].
Что же это означает, когда Ж. Деррида говорит о сопринадлежности каждого общему пространству речи? Это пространство и есть пространство площади или того типа коммуникации, которое успешно преодолевается в границах индустриальных и постиндустриальных обществ. Эта государственная политика введения участвующих в коммуникации масс в желаемое для государства русло сопровождает всю историю коммуникации. Поэтому коммуникация постоянно оказывается регулируемой. Следовательно, она постоянно склоняется к монологу, демонстрируемому тоталитарными обществами, а не диалогу.
О том, как это происходит, превосходно показывает Э. Каннети, прибегая к анализу проявлений психологии массы в определенное время и в определенном пространстве. Правда, он это показывает, обращаясь к опыту церкви. Однако какие бы способы власть не применяла, чтобы масса изживала свои эмоции в границах рассредоточенной в пространстве коммуникации, тем не менее, в истории эти заданные и культивируемые государством коммуникативные нормы масса постоянно разрушала, возвращая к давно, казалось бы, преодоленным традиционным формам коммуникации, символизируемым площадью. Такими формами являются различные варианты поведения массы на улицах и площадях, когда масса нуждается в непосредственном выражении эмоционального напряжения, связано ли оно просто с праздничным временем или же с общественными потрясениями и необходимостью продемонстрировать власти свое недовольство. Архетипом такой формы коммуникации, пожалуй, можно считать Нагорную проповедь Христа.
Мы уже констатировали то, что в нашей науке существует традиция разведения средств коммуникации, в которых интеракция присутствует, и средств коммуникации, в которых она отсутствует. Мы уже отмечали, что те средства коммуникации, в которых интеракция предстает в своем непосредственном выражении, называются средствами массового воздействия, а те средства, в которых она лишь имитируется, а, по сути, отсутствует, называются средствами массовой коммуникации. Это обозначение, конечно, весьма спорное, поскольку средства массовой коммуникации представить без массового воздействия невозможно. Но сама попытка развести эти коммуникативные формы заслуживает внимания.
Чтобы понять комплекс массы, связанный со стремлением к неограниченному росту, обратимся к Э. Каннети, который как никто ощутил и попытался этот комплекс осмыслить. Э. Каннети фиксирует внимание на стремлении массы к своему росту до бесконечности. Однако этот комплекс массы культура постоянно ограничивала. К одному из способов такого ограничения прибегла церковь. «Благодаря равномерности служб, совершающихся в строго установленное время, - пишет Э. Каннети- точности воспроизведения знакомых ритуалов массе обеспечивалась возможность как бы пережить самое себя в прирученном состоянии» [3, c.5]. Вот этому стремлению ограничивать выражение эмоций в своей непосредственности в истории соответствовали не только культовые, но и зрелищные сооружения. В частности, античные амфитеатры, необходимость в которых ощущали императоры [10]. На примере функционирования таких амфитеатров можно проиллюстрировать, как человек трансформируется в человека массы или массового человека, ставшего позднее предметом внимания Х. Ортеги-и-Гассета.
Такие сдерживающие и ограничивающие средства были эффективными лишь до того периода радикальной переходности, что имела место в ХХ веке. Урбанизационные процессы, увеличение численности населения и рост городов как процессы, выражающие суть индустриальной цивилизации, привели к тому, что эффективно действующие в прошлой истории институты, регламентирующие поведение массы, с этими функциями больше не справляются. Масса испытывает желание ощутить свой рост и выйти за пределы навязываемых ей ограничений. Этот совершающийся переход закрытой массы в открытую Э. Каннети называет «извержением», что и составило смысл массовой коммуникации.
Как это «извержение» (Каннети) или «взрыв» (Маклюен) можно представить? Вот как описывает это извержение Э. Каннети. «Может быть потому, -пишет он – что масса основательно очистилась от содержания традиционных религий, нам стало легче наблюдать ее в чистом, если угодно, биологически чистом виде, без тех трансцендентных смыслов и целей, которые раньше она позволяла в себя влить. История последних ста пятидесяти лет ознаменовалась резким увеличением числа извержений; это справедливо и по отношению к войнам, которые стали массовыми войнами. Масса уже не удовлетворяется благочестивыми обетами и обещаниями, она хочет испытать великое чувство собственной животной силы и страсти, используя для этого любые социальные претензии и поводы» [3, c.26].
Понятно, что появление последующих технологий, на основе которых оказалось возможным развитие кинематографа, а затем телевидения и интернета явилось выходом из этого затруднительного положения. В данном случае как раз и важно поставить вопрос: а не происходит ли в случае появления каждого нового средства коммуникации разрыв между коммуникацией, с одной стороны, и культурой, с другой? История коммуникации обязана продемонстрировать процессы и разрыва, и, с другой стороны, преодоления такого разрыва. Чтобы этот вопрос прояснить, обратимся к тому направлению в изучении массовой коммуникации, которое называется археологией медиа. Это обращение позволит объяснить то, что со временем средство коммуникации, воспринимающееся первоначально как отклонение от культуры, тем не менее, со временем становится по отношению к ней репрезентативным.
Все дело в том, что возникающие средства коммуникации не всегда являются качественно новыми. В них проявляются существующие до предоставленных техникой возможностей культурные архетипы. В качестве иллюстрации действия архетипов обратимся к одному из направлений исторического изучения медиа, к идеям финского исследователя Э. Хухтамо. Хотя в этой концепции выявлены далеко не все аспекты расхождения между потенциальными возможностями медиа и способностями общества их освоить, тем не менее, в ней намечается приближение к актуальной теме исследования медиа. Она касается того, как история медиа соотносится с историей культуры, а также с историей тех форм, которые культура за тысячелетия своей истории успела сформировать. Сторонникам отождествления современной культуры с практикой медиа можно было бы в связи с этим предъявить такой аргумент. Несмотря на выпадение из культурной матрицы технологий, на основе которых функционируют медиа, все-таки культура не теряет надежды их вернуть в свою матрицу, окультуривать их и подчинять своей логике. Так, представляя сравнительно позднее изобретение, медиа, тем не менее, в своем функционировании нередко воспроизводят именно эти, подчас весьма архаические формы культуры, а не демонстрирует, как это часто кажется, нечто принципиально новое и культуре пока неизвестное.
Не случайно один из самых глубоких теоретиков медиа, в частности, кино и телевидения В. Михалкович находит аналогии между одержимостью в архаических и традиционных культурах временем и пространством и реализацией с помощью современных технологий этого комплекса в кино и телевидении. В связи с этим он обращает внимание на некоторые сюжеты Библии, в частности, на образ Аэндорской волшебницы, показывающей царю Саулу тень пророка Самуила. В этом сюжете улавливается идея волшебного фонаря как прообраза кино и телевидения [9]. В библейском сюжете отсутствует деление времени на прошлое, настоящее и будущее. Комментируя этот архетип, В. Михалкович пишет: «Нечто аналогичное происходит благодаря кинематографу – он тоже отменяет тройственное членение времени: камера будто изымает фиксируемые объекты из его хода. В этом, полагал Андре Базен, кино будто смыкается с кол- лективным бессознательным, которому извечно присуща «потребность защитить себя от времени». Человек архаических культур ставил «посмертную жизнь в прямую зависимость от материальной сохранности тела». Отсюда возникла практика мумифицирования, направленная на то, чтобы «искусственно закрепить телесную видимость существа». Эту практику словно подхватили и продолжили технические средства репродуцирования: сначала – фотография, которая «мумифицирует время, предохраняя его от самоуничтожения», затем – кино, благодаря которому «впервые изображения вещей становятся также изображением их существования во времени и как бы мумией происходящих с ними перемен». И кадр, и всякий фильм в целом сохраняют внутри себя основные, фундаментальные модальности времени – прошлое, настоящее и будущее, но частное, локальное время кадра или фильма отторжено от времени объективного мира и замкнуто в себе самом. Следует заметить, что такие же структуры локального, замкнутого времени присущи и телевидению, но сверх того ТВ будто гложет страсть к овладению все более масштабными пространствами, отчего все ощутимее углубляется расхождение между обоими средствами» [4, c. 97].
Теория Э. Хухтамо позволяет осмыслить медиа не только с точки зрения социологии, но и культурологии, хотя к обобщениям методологического характера сам Э. Хухтамо явно не склонен. Предпринявший исследование медиа в специфическом направлении Э. Хухтамо пишет: «В данном случае цель археологии медиа заключена в том, чтобы продемонстрировать, что за явлениями, которые на первый взгляд могут казаться беспрецедентными, часто скрываются модели и схемы, появившиеся в более ранних контекстах» [11, c.120]. Э. Хухтамо убежден, что, занимаясь раскопками прошлого, археология медиа проливает свет на их настоящее. Так, сам Э. Хухтамо в истории зрелищной культуры пытается отыскать то, что применительно к кино и телевидению называют экраном. В ходе своих исследований он приходит к выводу, который является совершенно антимаклюеновским. Ссылаясь на Р. Уильямса, он пишет, что технология как таковая еще не определяет культурные формы, которые будут ей приданы [11, c. 152].
Сегодня эта проблема становится весьма актуальной в связи с функционированием интернета. Ведь его изобретатели явно не могли предусмотреть все возможные варианты его функционирования, т.е. того, как им способно воспользоваться общество. Пытавшийся понять последствия возникновения интернета на общество Г. Рейнгольд пишет: «ЭВМ и интернет закладывались их создателями, но то, как люди будут пользоваться ими, не закладывалось ни в какую технологию, и ни их создатели, ни продавцы не предвидели наиболее революционные приложения этих устройств» [5, c.256]. Таким образом, хотя Э. Хухтамо по поводу культуры и ее отношений с медиа и не философствует, тем не менее, он обнаруживает значимый аспект и исторической эволюции медиа, и тех противоречий в отношениях между медиа и культурой, которые в наше время достигают пика.
Они связаны с выявлением весьма непростых взаимоотношений между медиа и культурой, которые в некоторых суждениях предстают буквально синонимами, хотя на самом деле таковыми не являются. Разобраться в этом важно не только ради того, чтобы глубже понять природу, структуры и функции медиа, но и точнее представлять, что же такое культура как таковая, ее предназначение и ее функции. В отношениях коммуникации и культуры не просто разобраться, если в этот сюжет не ввести понятие цивилизации. Медиа связана с технологиями, а технологии выражают установку не только культуры, но и цивилизации. Там, где эти установки являются наиболее радикальными, ущемляются права культуры, т.е. гуманитарного ядра истории. Это означает, что коммуникация должна ориентироваться на личность или, если выражаться языком философии, на субъекта, точнее, на личность как субъекта.
Однако если коммуникацию рассматривать сквозь призму установок цивилизации, то в этой коммуникации личность предстает уже не субъектом, а объектом. Ведь к личности цивилизация относится с функциональной точки зрения. Цивилизация делает человека функциональным, что порождает отчуждение. Общим контекстом социального функционирования медиа является история коммуникации, в которой постоянно ощущаются ее разрывы с культурой. Подчеркнем: конфликт между медиа и культурой есть частное проявление конфликта между культурой и цивилизацией. Медиа противостоит культуре тогда, когда реализует установки цивилизации, превращая человека в функциональное существо, объект, что свидетельствует о развертывающихся процессах отчуждения.
Конечно, когда О. Шпенглер обозначает последние столетия в истории культуры одной фазой и эту фазу он называет цивилизацией, он не так уж и не прав. Тем не менее, даже если не придерживаться точки зрения О. Шпенглера, очевидно, что в последние столетия цивилизация с ее политическими, экономическими и технологическими факторами, с ее ориентацией на материальные ценности, что привело к трансформации массовых обществ в общества потребления, теснит культуру, связываемую нами с духовными смыслами. Конечно же, функционирование медиа, развертывающееся на основе технологий, свидетельствует о медиа как, прежде всего, агенте цивилизации, а не культуры. Но отторгать медиа от культуры было бы ошибкой. Тем не менее, цивилизация исходит из человека, прежде всего, как объекта, относится к нему утилитарно и функционально. Между тем, человек есть субъект истории. История гуманитарных наук свидетельствует о сопротивлении нарастающему давлению цивилизации и, следовательно, отчуждения человека.
Такое сопротивление было реальным уже в ХУ111 веке, когда возникла эстетика как научная дисциплина, реабилитирующая принцип гедонизма. Построение Кантом эстетики свидетельствовало о возможности отвоевания у утилитарных сфер сферы свободы или игры. Для Канта и Шиллера игра и свобода, как известно, были синонимами. Успехи психологии, связанные с открытием бессознательного, также свидетельствовали о потенциале человеческого фактора. Возникшая в Х1Х веке социология пыталась разобраться в структуре индустриального общества. Это сопротивление утилитаризму как признаку цивилизации продолжается и на рубеже ХХ-ХХ1 веков. Но на этот раз такой сферой сопротивления цивилизации становятся не частные сферы вроде эсте- тики или психологии, а культура в целом. Вот почему в последние десятилетия в России такое значение придается культуре.
Цивилизация не способна преодолеть нарастающего отчуждения в обществе. Более того, именно она и оказывается определяющим источником такого отчуждения. На это претендует лишь культура. Вот ее возможности и следует познать. Осознавая эти возможности, мы открываем личностной потенциал коммуникации. Когда Й. Хейзинга пытается определить культуру, он утверждает: «только личность может быть тем сосудом, где хранится культура» [6, c.177]. И еще: «Культура рождается именно в личности, и соответственно име-но в личности сохраняет свое здоровье» [6, c.323]. Связывая коммуникацию с культурой, мы пытаемся, прежде всего, увидеть личность как субъекта коммуникативных процессов. Вместе с осознанием возможностей медиа следует осознать, в каком случае медиа является союзником культуры, а в каком она предстает ее антагонистом. Как мы пытались показать, медиа способна представать и в том, и в другом качестве, а решающим моментом в том, какую же, в конечном счете, роль она способна играть, являются общественные процессы. Культура стремится вернуть человека из объекта к субъекту. Поэтому ее цель связана с рассмотрением сферы игры, делающей человека свободным.
В том случае, когда медиа этому соответствует, ее постижение развертывается в контексте культуры. Но у медиа есть и другая сторона, которая культуре противостоит. То, что обычно называют развлечением как наравне с новостным и рекламным блоками (по крайней мере, это так сформулировано Н. Луманом) одним из значимых содержательных блоков функционирования медиа, как раз и представляет игровую стихию, расширяющуюся по мере возникновения каждого нового канала медиа и в особенности функционирующего на основе электронных технологий. В наше время развлечение расширилось до таких пределов, что, кажется, что в этой стихии утопает все, в том числе, и серьезное классическое искусство. Казалось бы, это в истории общества можно рассматривать величайшим прогрессом. Но вдумаемся в выводы Й. Хейзинги, констатирующего, что чем больше в ХХ веке появляется видов игры, чем шире становится игровая сфера, тем очевидней становится иссякание сущности игры, что свидетельствует уже об общей ситуации в культуре, а культуру Й. Хейзинга вообще связывает с игрой.
Таким образом, количественные показатели культуры, какими бы внушительными они не казались, далеко еще не свидетельствуют о ее качественных уровнях. Когда Й. Хейзинга говорит об исчезновении сущности игры, то причину этого следует усматривать в отношениях между культурой и цивилизацией. Сущность игры из культуры исчезает в том случае, когда культура активно ассимилирует то, что относится к цивилизации. Иначе говоря, выражаясь язы- ком Ж. Дерриды, когда подлинное трансформируется в неподлинное. Видимо, эта ассимиляция цивилизации культурой, что приводит к угасанию игры, развертывается с помощью технологических революций, которые воспринимаются с такой эйфорией, но в реальности далеко не всегда являются позитивными. В результате этого проникновения в собственно культуру цивилизации уже не только под воздействием цивилизации, но и самой культуры в обществе развертывается отчуждение.
Это именно то, что в свое время Г. Зиммель пытался выявить в технике, науке, религии, праве, искусстве, а именно то, что делает человека не субъектом, а объектом. В результате такого давления цивилизации на культуру и проникновения продуктов и механизмов цивилизации в культуру, эта культура, по выражению Й. Хейзинги, «обременена таким грузом всяческого вздора и нелепых идей, какого никогда прежде не несла миру» [6, c.174]. Но раз человек трансформируется из субъекта в объект, не важно, происходит ли это под воздействием технологии, цивилизации или даже самой культуры, то мы как раз и можем констатировать отчуждение. В любом случае, в медиа, как в искусстве и культуре, позитивно лишь то, что способствует сохранению в человеке субъекта. Ведь в мире существует столько способов, чтобы этому не соответствовать.
В этой роли могут выступать не только государство, но, как это ни покажется парадоксальным, даже сама культура. И вот суждение Г. Зиммеля, свидетельствующее о том, что, несмотря на возникновение многих технологий, культура в ХХ веке оказалась в кризисе. Суть этого кризиса заключается в отклонении технологического прогресса от человека как субъекта. «Вся гонка, ненасытность и жажда наслаждений нашего времени – лишь следствия и проявления реакции, вызванные тем, что личных ценностей ищут в той сфере, в которой их вообще не бывает: то, что успехи в технике прямо оцениваются как успехи в области культуры, что в области духа методы часто рассматриваются как нечто священное и считаются более важными, чем содержание и их результаты, что жажда денег значительно превосходит жажду вещей, способом приобретения которых они являются, - все это свидетельствует о постепенном вытеснении целей средствами и путями…» [2, c.491]. Вот это обстоятельство как раз и свидетельствует о том, что средства коммуникации в большей степени зависят от цивилизации, нежели от культуры. Но именно это обстоятельство и становится барьером для личности как субъекте коммуникативных процессов.
Список литературы Коммуникативные сдвиги в культурном процессе: от личности как субъекта к личности как объекту
- Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 512 c.
- Зиммель Г. Кризис культуры. В кн.: Зиммель. Избранное., т. 1. Философия культуры. М., 1996. 671 c.
- Каннети Э. Масса и власть. М., 1997. 527 c.
- Михалкович В. Кино и телевидение или о несходстве сходного. Киноведческие записки. 1996., № 30. C.41-57
- Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006. 416 c.
- Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 456 с.
- Хренов Н.А. Принцип части вместо целого в визуальных формах культуры ХХ века // «От фрагмента к целому: парадигмы культурных изменений». Материалы Междунар. науч. конф. (Самара, 2016 г.) / под ред. В.И. Ионесова. Самара: ООО «Поволжская научная корпорация», 2017. C.92-145.
- Хренов Н.А. О коммуникативных сдвигах и личностном потенциале культуры // Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры». Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Самара, 2016 г. Самара: СГИК, 2016. С.69-76.
- Хренов Н. К проблеме социологии и психологии кино 20-х годов. Вопросы киноискусства. Вып.17. М.: Наука, 1976.
- Хренов Н. Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006. 650 c.
- Хухтамо Э. Элементы экранологии: к проблеме археологии медиа // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб., 2012. C.116-177