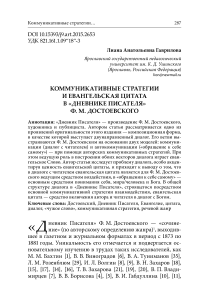Коммуникативные стратегии и евангельская цитата в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского
Автор: Гаврилова Лиана Анатольевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
«Дневник Писателя» - произведение Ф. М. Достоевского, художника и публициста. Автором статьи рассматривается одно из проявлений оригинальности этого издания - композиционная форма, в качестве которой выступает двунаправленный диалог. Его ветви выстраиваются Ф. М. Достоевским на основании двух моделей: коммуникации (диалог с читателем) и автокоммуникации («обращение к себе самому») - при помощи авторских коммуникативных стратегий. При этом ведущую роль в построении обоих векторов диалога играет евангельское Слово. Автор статьи исследует проблему диалога, особо акцентируя ценность евангельской цитаты, и приходит к выводу о том, что в диалоге с читателем евангельская цитата является для Ф. М. Достоевского ведущим средством воздействия, в «обращении к себе самому» - основным средством понимания себя, мира/человека и Бога. В общей структуре диалога в «Дневнике Писателя», строящегося посредством основной коммуникативной стратегии взаимодействия, евангельская цитата - средство включения автора и читателя в диалог с Богом.
Достоевский, дневник писателя, евангелие, цитата, диалог, "чужое слово", коммуникативная стратегия, речевой жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14748933
IDR: 14748933 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2653
Текст научной статьи Коммуникативные стратегии и евангельская цитата в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского
Дневник Писателя» Ф. М. Достоевского — «сочинение» (по авторскому определению жанра)1, выходившее в газетном и журнальном форматах в период с 1873 по 1881 годы. Уникальность его отмечается и подвергается ос- новательному изучению в трудах таких исследователей, как М. М. Бахтин [1], В. В. Виноградов [6], В. А. Туниманов [35], Л. М. Розенблюм [29], И. Л. Волгин [8], [9], В. Н. Захаров [18], [15], [17], [14], [16], Т. В. Захарова [21], [19], [20], В. П. Владимирцев [7], В. В. Борисова [4], [5], В. И. Габдуллина [10], [11],
Н. А. Тарасова [32], А. В. Денисова [13], Г. С. Прохоров [25], [26], [27], Е. А. Федорова (Гаричева) [36], Н. Д. Тамарченко [33], С. Паолини [24], Е. К. Рева [28] и др.
На наш взгляд, специфика «Дневника Писателя» (далее ДП . — Л. Г. ), в котором объединены тексты художественно-публицистические и собственно художественные, выражается в двунаправленности диалога, его построении на основе двух коммуникативных моделей: «Я»—«Он» (диалог с читателем) и «Я»—«Я» («обращение к себе самому», или микродиалог (термин М. М. Бахтина) [2, 39]), или автокоммуникация (термин Ю. М. Лотмана [23]). Диалог рассматривается как композиционная форма литературного произведения, т. е. способ его субъектной организации в виде диалогической цепи высказываний. Принцип построения диалога определяет авторская коммуникативная стратегия. Она понимается как интенция субъекта высказывания, обусловливающая диалогическое взаимодействие различных речевых жанров, обеспечивающая своеобразие диалога как композиционной формы текста и определяющая его природу. Такой подход к пониманию коммуникативной стратегии особенно актуален в силу того, что жанровая природа ДП оригинальна. По определению В. Н. Захарова, это издание относится к категории произведений, в которых автором «ставились и решались нетрадиционные художественные задачи: открывалась новая, не освоенная эпическими жанрами сфера действительности» [18, 49]. На наш взгляд, в диалоге автора ДП с читателем ведущей коммуникативной стратегией является воздействие, в «обращении к себе самому» — понимание (т. е. осмысление себя, мира и Бога). В рамках каждой выделяются более локальные стратегии. При этом в организации обеих ветвей диалога участвует «чужое слово». В этом качестве выступают тексты литературные и публицистические, в том числе — произведения самого писателя, среди которых — тексты ДП .
Особая роль диалога в поэтике ДП отмечена в работах А. В. Денисовой [13], В. Н. Захарова [15], [16], [17], В. В. Борисовой [4], В. В. Виноградова [5], В. И. Габдуллиной [10], Е. А. Федоровой (Гаричевой) [12], Г. С. Прохорова [27].
В настоящей статье рассматривается роль евангельской цитаты в организации Ф. М. Достоевским диалога в выпусках «Дневника Писателя» 1876 года. Это представляет интерес прежде всего потому, что тексты Достоевского полны цитат: автор постоянно полемизирует с голосами широкого культурного контекста, иногда идентицифированными, но чаще скрытыми [33], «вплетенными» в само существо его художественного мышления и слова. Среди них евангельское Слово занимает особое место. Б. Н. Тихомиров указывает на разные варианты его присутствия в тексте: «точные и неточные цитаты, парафразы, реминисценции, аллюзии, случаи иронического переосмысления, «крылатые выражения» и фразеологизмы библейского происхождения, случаи употребления Достоевским христианских философем и идеологем, прямо или опосредованно восходящих к новозаветному тексту, и т. п.» [34, 63].
Для Достоевского евангельское Слово — голос высшей правды и авторский аргумент как к высшему авторитету [36, 100].
В статье цитата рассматривается в соответствии с концепцией М. М. Бахтина: как высказывание—«чужое слово». В спектре евангельских «чужих слов», присутствующих в ДП , особенно значимы высказывания—цитаты в форме первичного речевого жанра [3]. В качестве базовой используется номенклатура первичных речевых жанров, предлагаемая исследователем творчества А. П. Чехова А. Д. Степановым [30], строящим ее путем переосмысления теории речевых жанров М. М. Бахтина на основании функциональной теории Р. О. Якобсона [37].
Достоевский-публицист в диалоге убеждает читателя. Это, в частности, происходит в споре, имеющем информативно-аффективный характер [30, 89–91]. Например, призывая общество быть милосердным по отношению к детям, Достоевский включает в февральский выпуск издания серию статей-фельетонов [18, 172], посвященных делу Кронеберга. Он спорит с «чужим словом» адвоката Спасовича. Это спор публичный и заочный, цель которого — убедить читателя и переубедить оппонента [30, 89–91]. В статье «Геркулесовы столпы» Достоевский упрекает оппонента в том, что он налагает на маленького ребенка бремя ответственности, которое, возможно, сам «снести не в силах». При этом предлагает ему вспомнить слова: «Налагают бремена тяжкие и не-удобоносимые»2. Перед нами — неточное цитирование слов Христа о книжниках и фарисеях, которые «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые (курсив мой. — Л. Г.), и возлагают на плеча людям; а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23:4). Это высказывание можно назвать проповедническим: автор говорит о факте, оценивает его с точки зрения христианской морали. При этом высказывание гармонично с точки зрения эстетики [30, 35]. В словах Христа — косвенное указание на необходимость терпимости к зависимым, слабым, осуждаемым. С другой стороны, в них очевиден прямой укор в адрес книжников и фарисеев, обвинение их в лицемерии и самовозвышении, осуждение разрыва между словом и делом. В номенклатуре первичных речевых жанров провокативного дискурса, предлагаемой В. Н. Степановым, речевой жанр укора означает «открыто выраженную негативную оценку поведения или действий адресата» [31, 23]. Включая в текст ДП цитату из Евангелия, Достоевский переводит понимание текущей действительности на уровень вневременной. Оно позволяет — и автору, и читателю, и оппоненту — осознать отдельный жизненный факт как новое проявление евангельской истины. Этим объясняется возможность обобщения. Автор говорит об ущербности правосудия, ставящего во главу угла букву закона, а не любовь, не видящего за ним реального человека, использующего закон с целью самоутверждения. Писатель укоряет как представителей правосудия в лице Спасовича, так и любящее грех осуждения общество, провоцируя тем самым читательский отзыв и продолжение диалога.
Воздействие на читателя евангельской цитатой имеет и еще одну форму. «Бремена тяжкие и неудобоносимые» — образ, имеющий очевидную связь с темой каторги, каторжных оков, автобиографической для Достоевского. Она поднимается в серии фельетонов о деле Кронеберга и в рассказе «Мужик Марей» (глава первая февральского номера ДП), в контексте которого евангельская цитата обретает дополнительный смысл — ошибочного наказания. На это указывает упоминание в рассказе «Записок из Мертвого Дома», написанных от лица преступника, «будто бы убившего свою жену» (22, 47). Здесь же Достоевский «кстати прибавляет», что, по мнению многих, он сам «сослан был за убийство жены» (22, 47). Писатель указывает на то, что суд в обществе, и официальный, и неофициальный, житейский, вершится легко и поспешно. Осуждают людей огульно, не вникая в особенности дела. Осудить ближнего готов всякий. Моральная тяжесть приговора по этим причинам оказывается особенно мучительной. Кроме того, «бремена тяжкие и неудо-боносимые» — это и тяжесть вынужденного физического страдания. Здесь очевидна связь между рассказом «Мужик Марей» и фельетонами о деле Кронеберга. В первом фельетоне шестеро каторжан избивают до потери чувств пьяного татарина Газина. Во втором говорится о том, что Кронеберг в течение четверти часа «шпицрутенами» избивал свою семилетнюю дочь. Именно эти «шпицрутены», по словам писателя, «невозможные для семилетнего возраста» (22, 50), оказываются камнем преткновения в споре Достоевского со Спасовичем. Мнение автора ДП очевидно — в обоих случаях наказание несоразмерно с наказуемыми: шестеро разом на одного и долгое истязание «шпицрутенами» маленького ребенка взрослым человеком, его отцом. Наказуемые в такой ситуации выглядят не искупающими вину преступниками, а жертвами морального и физического насилия. Они оба слабы: могучий татарин Газин, прямо сравнивается с Геркулесом, а косвенно — с верблюдом, большим, но беззлобным (22, 46), девочка неоднократно называется «крошкой» (22, 66). Их молчание («чужое слово» девочки в тексте минимально) — особая форма авторского воздействия на читателя. Однако оскорбление невинного ребенка — особенно циничное нарушение закона Христа. Это подчеркивается подробностью: истязатель девочки Кронеберг после ее порки «почти упал в обморок» (22, 50). «Бремена тяжкие и неудобо-носимые», возложенные на плечи девочки, по Достоевскому, — это преступление против человека, а значит, и против Христа. Это крест страдания. В целом образное начало, заложенное в евангельской цитате, позволяет читателю и оппоненту глубже понять смысл происходящего в текущей жизни. Его многозначность открывает пространство для дальнейших размышлений и позволяет Достоевскому соединить в диалоге рассказ «Мужик Марей» и фельетон «По поводу дела Кронеберга». Таким образом писатель создает художественное пространство ДП.
Цитата играет особую роль в развитии диалога со Спасо-вичем. Она венчает утверждения автора о том, что безответственность семилетнего ребенка понятна в силу его возраста, и требовать от него взрослой осмысленности поступков нельзя. Аппелируя к авторитету (истине Христа), Достоевский утверждает свою правоту. (Далее речь идет уже о том, как нужно относиться к детям). Однако провокативная экспрессивность укора в самом евангельском высказывании диалогизирует авторское слово. Происходит это поступательно. Сначала Достоевский вводит аллюзию: «Как же вы налагаете на такую крошку такое бремя ответственности, которое, может, и сами-то снести не в силах?» (22, 68). Этим высказыванием Достоевский открывает диалог с Христом, в который включен как сам писатель, так и его оппонент. С одной стороны, Спасович соотносится автором с фарисеями, которых Господь укоряет, с другой, самим включением оппонента в этот диалог автор мотивирует его прислушаться к Слову, принять Его в сердце. Только после того как оппонент подготовлен к Его восприятию, Достоевский включает Его как двуголосое слово (неточную цитату). Это показывает специфику понимания Достоевским действенности слова Евангелия: оно глубже всего проникает в души в диалоге («где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20)). Ответ оппонента автор предугадывает: «Вы скажете, что мы должны же исправлять детей» (22, 68). То, что слово Евангелия приводится Достоевским «от себя», т. е. неточно и в сокращении, — усиливает его диалогичность. В целом информативно-аффективный спор включением в него евангельской цитаты, с одной стороны, становится убеждающим, с другой — подспудно ориентированным на читательский отзыв, т. е. провокативным. Евангельское слово помогает перевести спор автора с оппонентом от одного аспекта проблемы к другому.
В «обращении к себе самому» Достоевский осмысляет текущую действительность. Одна из локальных коммуникативных стратегий, выделяемых нами в рамках коммуникативной стратегии понимания, — «чужого слова». Какова же роль евангельской цитаты в этом случае? «Бремена тяжкие и неудобоносимые» — страдания, но отчего и ради чего они? Для Достоевского этот вопрос принципиально значим, поскольку смысл его уходит глубже социального уровня понимания. Вновь обратимся к рассказу «Мужик Марей». Газин в нем сравнивается с Геркулесом: его «трудно убить», потому и «били без опаски» (22, 46). За пьяное буйство он «усмирен» до полусмерти «собственным судом товарищей» (22, 46), попущенным ему во второй день Светлого праздника. Газина оставляют на ночь под тулупом с твердой надеждой на то, что «к утру очнется» (22, 46), т. е. оживет. Для Достоевского это означает, что оживет не только физически, но духовно. Однако тут же неатрибутированное «чужое слово» выражает сомнение: «…“но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек”…» (22, 46). Попущенные свыше в Светлый праздник «бремена тяжкие и неудобоносимые» имеют для Газина особый смысл: оказавшись на границе жизни и смерти, он, как евангельский разбойник, может покаяться и обрести Христа в сердце. Ситуация, связанная с дочерью Кронеберга, совсем иная. Уже в заголовке фельетона — «Геркулесовы столпы» — автор обозначает угол зрения на проблему. Одно из значений выражения «дойти до Геркулесовых столпов» — «дойти до предела». Для Достоевского этот предел состоит в осмыслении случившегося с девочкой как события ее жизни. Автор укоряет Спасовича, договорившегося до «справедливого гнева отца» (22, 68). Однако справедливо ли страдание безвинного существа, не только физическое, но прежде всего нравственное, унижающее личность, попущенное отцом небесным? Писатель принять его не может.
К цитате «налагают бремена тяжкие и неудобоносимые» Достоевский возвращается вновь — в майском номере, в первой главе которого опубликована серия фельетонов, посвященных уголовному делу Каировой. В них, так же как и в фельетонах о деле Кронеберга, фигурирует судебная тема.
Достоевский использует первичный речевой жанр информативно-аффективного спора, заочного и публичного. Оппонентом на этот раз выступает также защитник, г-н Утин. Между текстами очевидна зеркальная симметрия, утверждающая их диалог. Безусловно, связующую роль играет и повторяющаяся евангельская цитата. Однако в фельетоне «Г-н защитник и Каирова» у нее несколько иная функция. Уже в начале разговора о деле Каировой Достоевский прямым авторским словом высказывает свою позицию: он рад, что Каирову отпустили, но не рад тому, что ее оправдали (23, 7–8). Далее он разъясняет свою мысль читателю. При этом в «обращении к себе самому» стремится понять глубинный смысл преступления Каировой:
Я содрогнулся, читая то место, когда она подслушивала у постели, я слишком могу понять и представить себе, что она вынесла в этот последний час, с своей бритвой в руках, я очень, очень был рад, когда отпустили г-жу Каирову, и шепчу про себя великое слово: «налагают бремена тяжкие и неудобоноси-мые»… (23, 16).
В понимании писателя Каирова своим падением обрекла себя на великое страдание, сама себя приговорила и уже в процессе преступления пережила всю его тяжесть. Грех стал ее тяжким бременем. Евангельская цитата утверждает писателя в мысли о том, что внешнее осуждение и наказание несравнимы по тяжести с внутренними, но подчас способны раздавить осуждаемого. Однако здесь в «обращение к себе самому» входит следующее «чужое слово» из Евангелия — « иди и не греши » (курсив мой. — Л. Г. ) (23, 16). Это высказывание в Евангелии от Иоанна звучит так: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11). Достоевский вновь цитирует по памяти: очевидно, что слово Евангелия «возникает» в процессе размышлений. Вторая евангельская цитата в движении авторской мысли логически продолжает первую:
...грех все-таки назвал грехом; простил, но не оправдал его (23, 16).
Христос предоставил виновную суду ее совести, дав ей шанс на покаяние. Достоевский приходит к утверждению ценности мирского суда, «бремени тяжкого», но при ценности помилования в пользу утверждения первоочередной ценности суда совести.
Итак, евангельская цитата как «чужое слово» позволяет Достоевскому в ДП рассматривать насущную действительность в перспективе вечности. Другая перспектива — автобиографическая.
В диалоге автора с читателем евангельская цитата усиливает эмоциональное влияние. Евангельское Слово воздействует образно, позволяя читателю глубже осмыслить предмет спора.
В обращении автора к себе самому евангельская цитата — это и средство понимания насущной действительности (или оппонента, «чужого слова»), и предмет размышлений. В осмыслении Достоевским себя, мира и Бога это «чужое слово» играет ведущую роль в движении к высшему смыслу.
Обращаясь к читателю, вводя в повествование евангельское Слово, соотнося и сознавая в Слове себя, оппонента, «чужое слово», мир, Бога, автор выстраивает композицию «Дневника Писателя» как диалог различных речевых жанров, синкретизм и синтез которых обеспечивают художественную целостность текста.
COMMUNICATION STRATEGIES
Collected Works: in 7 vols .]. Moscow, Russkie slovari, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 1996, vol. 5, pp. 159–206.
Список литературы Коммуникативные стратегии и евангельская цитата в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского
- Бахтин М. М. Дополнения и изменения к «Достоевскому»//Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. -М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. -Т. 6. -С. 301-367.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского//Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. -М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. -Т. 6. -С. 6-301.
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров//Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. -М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 1996. -Т. 5. -С. 159-206.
- Борисова В. В. «Дневник писателя» Достоевского как феномен интердискурса//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. (Dоstoevsky monographs; вып. 4). -С. 229-234.
- Борисова В. В. Малая проза Ф. М. Достоевского: принцип эмблемы/В. В Борисова. -Уфа: Издательско-полиграфический комплекс БГПУ, 2011. -144 с.
- Виноградов В. В. Проблема риторических форм в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского//Виноградов В. В. Избр. труды: О языке художественной прозы. -М.: Наука, 1980. -С. 146-167.
- Владимирцев В. П. Поэтика «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского: этнографическое впечатление и авторская мысль. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1998. -84 с.
- Волгин И. Л. Воссозданный Достоевский. Текст как текст//Тарасова Н. А. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского (1876-1877): критика текста: монография. -М.: Квадрига; МБА, 2011. -С. 5-17.
- Волгин И. Л. Достоевский-журналист: «Дневник писателя» и русская общественность. -М.: МГУ, 1982. -75 с.
- Габдуллина В. И. Литературная критика в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского как саморефлексия автора//Культура и текст. -2012. -№ 1 (13). -С. 53-62.
- Габдуллина В. И. Литературно-критический дискурс в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского: монография. -Барнаул: АлтГПА, 2013. -171 с.
- Гаричева Е. А. Культурологический аспект изучения русской словесности: Учебное пособие. Филиал РГГУ в г. Великий Новгород. -Великий Новгород, 2012. -125 с.
- Денисова А. В. Поэтика диалога в «Дневнике писателя» Достоевского//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. (Dоstoevsky monographs; вып. 4). -С. 213-228.
- Захаров В. Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. -М.: Индрик, 2013. -456 с.
- Захаров В. Н. «Парадокс на парадоксе»: Достоевский о будущем России//XX век глазами Достоевского: Перспективы человечества. Материалы Международной конференции, состоявшейся в университете Тибо (Япония), август 2000. -М., 2002. -С. 313-322.
- Захаров В. Н. Полемика как диалог: Достоевский в споре с Л. Толстым//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -С. 242-255.
- Захаров В. Н. Поэтика парадокса в «Дневнике Писателя» Достоевского//Аспекты поэтики Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов/под ред. Каталин Кроо, Тюнде Сабо, Гезы Ш. Хорвата. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. (Dоstoevsky monographs; вып. 2). -С. 269-280.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. -208 с.
- Захарова Т. В. «Дневник писателя» и его место в творчестве Ф. М. Достоевского 1870-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Л., 1975. -26 с.
- Захарова Т. В. «Дневник писателя» как оригинальное жанровое явление и идейно-художественная целостность//Творчество Ф. М. Достоевского: Искусство синтеза. -Екатеринбург: УрГУ, 1991. -С. 112-127.
- Захарова Т. В. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского как художественно-документальное произведение//О художественно-документальной литературе. -Иваново: Иван. Гос. Пед. Ин-т, 1972. -С. 89-110.
- Захарова Т. В. К вопросу о жанровой природе «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского//Жанровое новаторство русской литературы конца XVIII-XIX вв. -Л.: Наука, 1974. -190 c.
- Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры//Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. -Таллинн: Александра, 1992. -Т. 1. -С. 76-89.
- Паолини Сара. Манипуляция временем как художественный прием в «Дневнике писателя»//Достоевский: философское мышление, взгляд писателя/под ред. Стефано Алоэ. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. (Dоstoevsky monographs; вып. 3). -С. 83-98.
- Прохоров Г. С. «Дневник писателя» Достоевского: публицистика или новый жанр?//Вопросы литературы. -2013. -№ 5. -С. 82-96.
- Прохоров Г. С. М. М. Бахтин о природе «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского//Вестник Российского государственного гуманитарного университета. -2013. -№ 20. -С. 33-44.
- Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода классического посттрадиционализма): автореф. дис. … канд. филол. наук. -М., 2013. -34 с.
- Рева Е. К. Жанровое своеобразие «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского//Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. -2010. -№ 15 (19). -С. 44-47.
- Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. -М.: Наука, 1981. -370 с.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова: дис.. д-ра филол. наук. -М., 2005. -279 с.
- Степанов В. Н. Провокативные стратегии в текстах массовой коммуникации//Иностранные языки в высшей школе. Научный журнал. -Рязань, 2011. -Вып. 1 (16). -С. 20-24.
- Тарасова Н. А. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского (1876-1877): критика текста: монография. -М.: Квадрига; МБА, 2011. -392 с.
- Тамарченко Н. Д. Скрытая цитата как отсылка к жанровой традиции//Аспекты поэтики Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов/под ред. Каталин Кроо, Тюнде Саво и Гезы Ш. Хорвата. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. (Dоstoevsky monographs; вып. 2). -С. 22-31.
- Тихомиров Б. Н. Отражения Евангельского Слова в текстах Достоевского. Материалы к комментарию//Евангелие Достоевского: в 2 т. -Т. 2: Исследования. Материалы к комментарию. -М.: Русскiй Mipь, 2010. -С. 63-65.
- Туниманов В. А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя»//Ф. М. Достоевский -художник и мыслитель: . -М.: Худож. лит., 1972. -С. 165-209.
- Федорова Е. А. Евангельская цитата в судебной речи «Дневника писателя» и в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского//Материалы Международной научно-практической конференции «Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность». Филиал РГГУ в г. Великий Новгород. -Великий Новгород: тип. «Виконт», 2014. -С. 96-100.
- Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против». -М.: Прогресс, 1975. -С. 193-230.