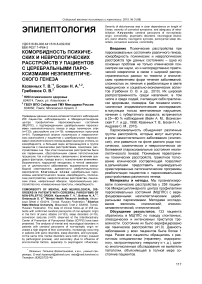Коморбидность психических и неврологических расстройств у пациентов с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза
Автор: Казенных Татьяна Валентиновна, Бохан Н.А., Гребенюк О.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Эпилептология
Статья в выпуске: 3 (88), 2015 года.
Бесплатный доступ
Приведены данные клинико-катамнестического наблюдения 258 пациентов, наблюдающихся в Междисциплинарном центре профилактики пароксизмальных состояний (МЦППС), с подтвержденными церебральными пароксизмами неэпилептического генеза в виде панических атак (n=133), расстройств сна (n=19), конверсионных приступов (n=81). Проведенный анализ психических и неврологических расстройств у пациентов с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза выявил высокую степень их коморбидности, в большей мере встречающуюся в группе пациентов с паническими расстройствами, синкопами, расстройствами сна. При этом психические расстройства были как первичными, обусловленными самим патологическим процессом; так и вторичными, связанными с влиянием средовых факторов, прежде всего с психогенными влияниями. Выраженность нарушений находилась в четкой зависимости от длительности заболевания, выраженности коморбидной симптоматики, адекватности реабилитационных мероприятий.
Церебральные пароксизмы неэпилептического генеза, коморбидность, психические расстройства, неврологические расстройства, панические атаки, нейрогенный обморок, пароксизмальные расстройства сна, конверсионные приступы
Короткий адрес: https://sciup.org/142100790
IDR: 142100790 | УДК: 616.89-008.441:616.8-009.832
Текст научной статьи Коморбидность психических и неврологических расстройств у пациентов с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза
Введение . Психические расстройства при пароксизмальных состояниях различного генеза, коморбидность психических и неврологических расстройств при данных состояниях – одна из основных проблем не только клинической психиатрии как науки, но и непосредственно практической неврологии в связи с широкой распространенностью разных по тяжести и клиническим проявлениям форм течения заболеваний, сложностью их лечения и реабилитации в свете медицинских и социально-экономических аспектов (Гребенюк О. В. и др., 2010). Их широкая распространенность среди населения, в том числе и среди людей, считающих себя практически здоровыми, очевидна. Как показали многочисленные эпидемиологические исследования, в популяции только вегетативные нарушения, начиная с пубертатного возраста, встречаются в 25—80 % наблюдений (Вейн А. М., Вознесенская Т. Г. и др., 1998; Казенных Т. В., Бохан Н. А., Андреев С. М., 2015).
Пароксизмальность объединяет различные группы расстройств, которые могут выступать в роли самостоятельного заболевания (эпилепсия), или развиться на фоне разного рода психических, соматических и неврологических заболеваний (пароксизмальные состояния неэпилептического генеза). Понимание первопричины психических расстройств, грамотное толкование клинической составляющей позволяют в дальнейшем предоставить индивидуально ориентированные патогенетические программы реабилитации пациентов с пароксизмальными расстройствами различного генеза.
Материалы и методы . Мы проанализировали психические расстройства у 258 пациентов Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний (МЦППС) с верифицированными неэпилептическими церебральными пароксизмами. Методами исследования являлись клинический, клинико-катамнестический, статистический.
Обсуждение результатов . 133 пациента обратились в МЦППС по поводу спонтанных, эпизодических и интенсивных приступов тревожности. Состояние их было верифицировано как паническое расстройство (41.0). Давность заболевания у всех пациентов была более 1 года. Ранее все пациенты обращались к различным специалистам (терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, неврологу и т. д.), однако многочисленные обследования не выявляли патологии, объясняющей в полной мере состояние пациентов.
75 обратившихся в МЦППС имели направления от специалистов различного профиля для проведения дифференциального диагноза с эпилепсией.
Ведущим симптомом в клинической картине являлись приступы паники, протекавшие в виде сильного ощущения страха и внутреннего дискомфорта, которые возникали неожиданно, обычно без симптомов-предвестников и сопровождались пугающими физическими симптомами в виде внезапно начавшегося сердцебиения, удушья, боли в груди, головокружения, сильной слабости, чувства нереальности происходящего и собственной измененности. При этом почти всегда выявлялся страх внезапной смерти, страх утраты контроля над собой или страх сойти с ума. Панический приступ длился приблизительно в течение 10—20 минут (максимальная продолжительность до 2 часов) и проходил сам собой, не оставляя никаких следов и не представляя реальной угрозы для жизни пациента.
Клинические проявления панического расстройства, отвечая диагностическим критериям, отличались значительным разнообразием. Выраженность собственно страха или аффективные проявления панической атаки (Семке В. Я., Погосова И. А., 2010) варьировала от тревоги, ощущения неясной угрозы до панического неконтролируемого страха, надвигающейся смерти. Все пациенты ярко описывали соматовеге-тативные проявления панической атаки (ПА). Чаще всего они предъявляли жалобы на учащенное сердцебиение, доходящее до ощущения, описываемого как: «разрывает грудную клетку», «бьется в горле». Кроме того, пациенты сообщали о неприятных ощущениях в области сердца, варьирующих от прекардиально-го дискомфорта до интенсивных болевых ощущений. У значительного числа пациентов возникало чувство нехватки воздуха, вплоть до удушья, головокружение, «предобморочное состояние», больные жаловались на общую слабость либо ощущали слабость в ногах или руках, описывали дрожь во всем теле, иногда судорожные подергивания или ощущения «выкручивания» мышц. Часто отмечались потливость, покраснение или бледность кожных покровов, похолодание конечностей, ощущение покалывания или «ползания мурашек» в разных участках тела, головные боли. Нередкими были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта – тошнота, боли или урчание в животе, частая диарея. Страх нарастал по мере развертывания соматовегетативных проявлений, сопровождался двигательным беспокойством или, напротив, скованностью во всем теле. На высоте страха нередко возникали деперсонализаци-онно-дереализационные явления.
Первый эпизод панической атаки пациенты обычно связывали с ближайшими стрессовыми ситуациями, эмоциональными переживаниями, умственным или физическим переутомлением. Панические приступы повторялись с течением времени, возникали все чаще, нарастала поли-морфность клинических проявлений и длительность во времени; при этом реальных причин для их развития выявить не удалось.
Поскольку панический приступ для пациента – это крайне неприятное и пугающее его ощущение, то к паническим приступам добавлялся еще и постоянный страх перед их возникновением, что является одним из каскадных механизмов развития приступов и их структурного усложнения. Панические атаки, возникающие внезапно, с пугающей симптоматикой, становятся причиной постоянного страха и ожидания их возникновения, что очень социально дезадаптирует человека в повседневной жизни. Страх перед возникновением приступа является одним из основных пусковых механизмов панических атак. Это приводит к социальной изоляции, потере трудоспособности и значительному снижению качества жизни. Наличие внезапных неконтролируемых приступов страха, мыслей о тяжелой болезни, с которой невозможно справиться, может закономерно привести к развитию депрессии, в силу этого у большинства пациентов, наряду с паническим расстройством, наблюдается также и депрессия.
Коморбидные психические расстройства были выявлены у 102 обратившихся (76,7 % от всех больных с ПА). Достоверно чаще более чем у половины пациентов с коморбидным психическим расстройством была депрессия (58 человек). Депрессивные переживания чаще всего были связаны с переживаниями по поводу состояния здоровья, пациенты преувеличивали тяжесть своего состояния, практически всегда депрессию сопровождал тревожный компонент. У 26 пациентов мы диагностировали органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с сосудистым заболеванием, поскольку у всех них в анамнезе отмечалась сосудистая дисфункция различной степени выраженности (гипертоническая болезнь, остеохондроз и т. п.). 18 больных злоупотребляли алкоголем – при этом следует отметить, что все они объясняли свое поведение желанием посредством алкоголя снять нежелательные ощущения страха или тревоги.
25 обратившихся в МЦППС предъявляли жалобы на приступы, сопровождающиеся потерей сознания. Все пациенты перед падением испытывали резкую слабость, чувство дурноты, тошноты, нехватки воздуха; холодный пот; онемение конечностей; ощущения пустоты в голове, отмечали бледность кожи, снижение артериального давления.
Большинство пациентов (19 – 76,0 %) в качестве причины возникшего состояния указали резкую смену температуры (пребывание в душном помещении, смена погоды, баня, теснота). 8 человек (32,0 %), помимо этого, указали, что находились в состоянии физического и психоэмоционального перенапряжения. Все вышеперечисленное позволило предположить нейрогенный обморок с вагодепрессорным механизмом и диагностировать у пациентов данной группы обморок (синкопе) (R55).
Следует отметить, что у 21 пациента синкопы носили повторный характер, лишь 4 пациента обратились в МЦППС после единичного приступа. 17 больных были направлены врачами других специальностей (терапевт, невролог, эндокринолог) для исключения эпилепсии.
Стержневым синдромом в клинической картине заболевания был астеновегетативный, характеризовавшийся преобладанием повышенной утомляемости, ослаблением или утратой способности к продолжительному физическому и умственному напряжению. У больных наблюдались раздражительная слабость, выражающаяся повышенной возбудимостью и быстро наступающей вслед за ней истощаемо-стью, аффективная лабильность с преобладанием пониженного настроения с чертами капризности и неудовольствия, а также слезливостью. Для многих пациентов была характерна гиперестезия – они не переносили яркого света, громких звуков и резких запахов. Астенические расстройства развивались исподволь и характеризовались нарастающей интенсивностью. Катамнестически мы отмечали, что первыми признаками астеновегетативного синдрома были повышенная утомляемость и раздражительность, сочетающиеся с нетерпеливостью и постоянным стремлением к деятельности, даже в обстановке, благоприятной для отдыха («усталость, не ищущая покоя»).
Безусловно, мы выявляли и иные коморбид-ные психические расстройства в виде депрессивных переживаний, чаще с тревожнофобическим компонентом, однако лишь у 7 человек (33,3 %) выраженность расстройств достигла клинического уровня и верифицировалась нами как F43.22. (Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации).
После проведения обследования и подтверждения неэпилептической природы приступов пациенты направлялись для наблюдения и последующей реабилитации к кардиологу по месту жительства.
19 пациентов обратились в МЦППС по поводу расстройств сна в виде синдрома беспокойных ног (СБН) и синдрома периодических движений конечностями (СПДК). 10 пациентов обратились по направлению участкового невроло- га по месту жительства для исключения ночной миоклонической эпилепсии, еще 9 – самостоятельно. Продолжительность заболевания составляла от 1 месяца до нескольких лет. О том, что происходит ночью, все пациенты рассказывали со слов родственников.
17 пациентов предъявляли жалобы на дискомфорт в ногах, возникающий в покое и длящийся от нескольких минут до нескольких часов, уменьшающийся при движениях и возобновляющийся во время отдыха. Симптоматика у этих больных значительно усиливалась в вечернее время и в первую половину ночи (между 18 часами вечера и 4 часами утра), а перед рассветом симптомы ослабевали и могли исчезнуть вообще в первую половину дня. 15,8 % обратившихся указали на отягощенность пароксизмального анамнеза, при этом большинство сообщали, что слышали о подобной проблеме в своей семье («прадед также маялся», «мама рассказывала, что отец ночами не спал, все бежал куда-то»). Психический статус пациентов характеризовался астеническим синдромом с диссомнией или парасомнием в рамках расстройства сна (G47).
Проведенное обследование (общий анализ крови, гормональный статус, ночной ЭЭГ-видеомониторинг, электронейромиографиче-ское исследование) выявило у 9 пациентов обострение ревматизма, точнее признаки ревматоидного артрита, 1 пациентка оказалась беременной, у 2 пациентов выявили железодефицитную анемию, причина заболевания у 5 больных осталась не ясна, однако именно у этих больных нами была выявлена пароксизмальная отягощенность в анамнезе либо они упоминали о сходной проблеме у родственников. Все это позволило предположить генетическую предрасположенность к расстройству. После проведения обследования 12 пациентов были направлены к специалистам соответствующего профиля (ревматологу, гинекологу, гематологу), оставшимся был предложен курс реабилитации на базе неврологических клиник СибГМУ, включающий фармакологические (на-ком в индивидуальной дозе, первоначальная дозировка составляла 1/4 таблетки за 30 минут до сна, затем дозировка увеличивалась до 1/2 таблетки каждые 3 дня до достижения положительного эффекта. Обычно эффективная дозировка составляла 1 таблетку на ночь, лишь у 1 больного она была увечена до 2 таблеток) и нефармакологические методы лечения – массаж, ванны, специальные физические упражнения, коррекция рациона питания, рациональная психотерапия.
2 пациента предъявляли жалобы на плохой сон из-за сноговорения. У обоих данное расстройство возникло на фоне сильных психоэмоциональных переживаний: один пациент разводился с женой, другая пациентка переживала ситуацию сокращения на работе. Ведущим синдромом в психическом статусе явился депрессивный с астеническими и диссомниче-скими включениями, а симптоматика полностью редуцировалась после проведения курса лечения антидепрессантами и рациональной психотерапевтической коррекции.
Наиболее интересны в клинических проявлениях были конверсионные приступы, наблюдавшиеся нами у 81 пациента. Проведенные комплексные исследования истерии свидетельствуют о «видоизменении» расстройства (Аксенов М. М. и др., 2013). Уменьшение клинических проявлений «истерии внешнего пространства» компенсируется ростом малых, усложненных, интимных форм личностного реагирования по типу «истерии внутреннего пространства» – разнообразных конверсионных, соматоформ-ных, патохарактерологических расстройств (Перчаткина О. Э., 2000; Семке В. Я. и др., 2006). Многолетнее клинико-динамическое, нейрофизиологическое изучение истерических состояний (неврозов, психопатий, психозов), проведенное В. Я. Семке (1967—2013), позволило установить их нозологическое единство, представленное в рамках «истерической болезни». Оно обосновало общность этиологических, патогенетических и предрасполагающих факторов, которые реализуются в ситуациях нарушенных интерперсональных взаимоотношений различной степени выраженности и значимости, приводящей к определенной форме истерической патологии – невротической, психопатической, психотической. Наше исследование также подтвердило данное утверждение.
У 77,8 % обратившихся пациентов в этой группе были выявлены те или иные особенности патохарактерологического личностного преморбида, все пациенты в качестве запускающего фактора указали на имеющуюся психотравмирующую ситуацию или ситуацию острого стресса. Целесообразно отметить, что в нашем исследовании не отмечено ни одного пациента с истерическим параличом или психозом. Двигательные расстройства были представлены приступами, сопровождающимися судорожными подергиваниями, гиперкинезами в виде тиков и мигания, расстройствами речевой функции – заикание, мутизм, афония. Уровень интеллекта и образования мало влиял на возникновение данных симптомов. Симптомы возникали чаще остро, вслед за психической травматизацией, часто на фоне соматогении, локализуясь в «месте наименьшего сопротивления» и по механизму «условной желательности и приятности» симптома. Судорожные приступы протекали без ауры и не сопровождались выключением сознания. Больной падал, но при этом не ушибался. Возникающие тонические судороги носили вычурный характер, отличались большим разнообразием как в проявлениях, так и в длительности, чем в значительной степени отличались от относительно стереотипных судорог эпилептического генеза. Двигательные расстройства хорошо поддавались психотерапевтическому воздействию, но могли рецидивировать при массивных психогениях. Интересно, что в этой группе как таковых ко-морбидных психических расстройств нами выделено не было, хотя и имели место эпизоды злоупотребления спиртными напитками, но не доходящие до диагностического уровня, а также снижение настроения, чаще кратковременное, ситуационно обусловленное, также не достигавшее клинического уровня. После определения неэпилептического характера данных расстройств пациенты были направлены на реабилитацию в клинику НИИ психического здоровья.
Все коморбидные расстройства, выявленные нами у пациентов МЦППС с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коморбидные психические расстройства у пациентов МЦППС с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза
|
Депрессивная реакция в связи с расстройством адаптации (F43.2) |
Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство (F06.6) |
Синдром зависимости от алкоголя, периодическое употребление (F10.26) |
|
|
Паническое расстройство |
58 (56,9 %*) |
26 (25,5 %) |
18 (17,6 %) |
|
Синкопы |
7 (33,3 %)* |
21 (84,0 %)* |
- |
|
Расстройства сна |
2 (10,5 %) |
12 (63,1 %)* |
- |
|
Конверсионные приступы |
- |
- |
- |
Примечание . * – р<0,005.
Анализ табличного материала свидетельствует, что для пациентов с паническими расстройствами, синкопами и расстройствами сна достоверно чаще коморбидными психическим расстройствами являлись депрессивные реакции и органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство, что требовало разработки индивидуальной стратегии терапии и психотерапевтических мероприятий.
Выводы. Проведенный анализ психических и неврологических расстройств у пациентов с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза выявил высокую степень их ко-морбидности, в большей мере встречающуюся в группе пациентов с паническими расстройствами, синкопами и расстройствами сна. При этом психические расстройства были как первичными, обусловленными самим патологическим процессом; так и вторичными, связанными с влиянием средовых факторов, прежде всего с психогенными влияниями. Выраженность нарушений находилась в четкой зависимости от длительности заболевания, выраженности ко-морбидной симптоматики, адекватности реаби- 1. литационных мероприятий.
Список литературы Коморбидность психических и неврологических расстройств у пациентов с церебральными пароксизмами неэпилептического генеза
- Гребенюк О. В., Казенных Т. В., Алифирова В. М., Семке В. Я. Специализированная помощь больным эпилепсией в Томской области: опыт работы Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2010. -№ 4. -С. 51-55.
- Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Воробьева О. В., Голубев В. Л. Вегетативные расстройства: Клиника. Диагностика. Лечение/под ред. А. М. Вейна. -М.: МИА, 1998. -749 с.
- Казенных Т. В., Бохан Н. А., Андреев С. М. Распространенность и типология пароксизмальных состояний в Томской области//Успехи современного естествознания. -2015. -№ 1, вып. 5. -С. 772-780.
- Семке В. Я., Погосова И. А. Психотерапия коморбидных тревожно-фобических и аффективных расстройств//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2010. -№ 5. -С. 50-57.
- Аксенов М. М., Гычев А. В., Белокрылова М. Ф., Семке В. Я., Ветлугина Т. П., Никитина В. Б., Перчаткина О. Э., Рудницкий В. А., Левчук Л. А., Костин А. К. Стрессоустойчивость и дезадаптация при непсихотических психических расстройствах (итоги комплексной темы НИР ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, 2009-2012 гг.)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 4. -С. 11-17.
- Перчаткина О. Э. Истерические состояния: типология, динамика, терапия и превенция: автореф.. к.м.н. -Томск, 2000.
- Семке В. Я., Белокрылова М. Ф. «Истерическая болезнь»: современные аспекты нозологической специфичности и психосоматических соотношений//Психи ческие расстройства в общей медицине. -2006. -№ 1. -С. 16-22.