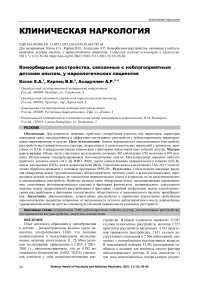Коморбидные расстройства, связанные с неблагоприятным детским опытом, у наркологических пациентов
Автор: Катан Е.А., Карпец В.В., Асадуллин А.Р.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая наркология
Статья в выпуске: 3 (112), 2021 года.
Бесплатный доступ
Обоснование. Для пациентов, имеющих проблемы употребления алкоголя или наркотиков, характерна доказанная связь диссоциативных и аффективно-когнитивных расстройств с неблагоприятными травмирующими переживаниями в детстве. Цель исследования. Анализ выраженности диссоциативных расстройств, расстройств посттравматического кластера, депрессивных и алекситимических нарушений у пациентов, зависимых от ПАВ, и определение/оценка взаимосвязи с факторами неблагоприятных событий детства. Материалы и методы. Общее число участников исследования составило 402 наблюдения (293 мужчины и 109 женщин). Использованы стандартизированные психометрические шкалы: Международный опросник неблагоприятного детского опыта (ACE-IQ WHO, 2009), шкала оценки влияния травматического события (IES-R), шкала диссоциации (DES), шкала депрессии Бека (BDI), Торонтская шкала алекситимии (TAS-20). Статистическая обработка проведена с помощью программы SPSS-20v. Результаты. Статистически значимые различия обнаружены между группой интактных неблагоприятному детскому опыту и всеми респондентами, перенесшими детские психотравмы, по показателям травматического опыта и депрессии, но не алекситимических и диссоциативных расстройств. Наиболее сильные связи обнаружены между диссоциативными переживаниями, симптомами посттравматического кластера и факторами физического, эмоционального, сексуального насилия; между депрессивными расстройствами и факторами семейной дисфункции; между алекситимическими расстройствами и факторами коллективного, общественного и эмоционального насилия, пренебрежения. Заключение. Диссоциативные, депрессивные расстройства и проявления алекситимии свойственны наркологическим пациентам независимо от интенсивности детского неблагоприятного опыта, перенесённые травматические события детства способствуют большей выраженности указанных расстройств.
Употребление ПАВ, неблагоприятные события детства, диссоциативные расстройства, посттравматические расстройства, депрессия, алекситимия.
Короткий адрес: https://sciup.org/142229978
IDR: 142229978 | УДК: 616.89-008.441.13-055.1-055.2:616-039.38:364-785.64 | DOI: 10.26617/1810-3111-2021-3(112)-56-66
Текст научной статьи Коморбидные расстройства, связанные с неблагоприятным детским опытом, у наркологических пациентов
Опыт жестокого обращения и пренебрежения в детстве ‒ распространенное явление среди пациентов, употребляющих ПАВ, что доказано национальными и международными исследованиями, включая лонгитюдные [1, 2]. Многоэтапные исследования, проведенные в США в 20012003 гг., продемонстрировали, что из 9 282 респондентов большинство (5 692; 70,2%) участников отмечали у себя психопатологические рас- стройства. В общей сложности выявлено 11 047 случаев психических расстройств, включая 2 357 приступов расстройств настроения, 4 545 приступов тревожного расстройства, 1 621 случаев деструктивного поведения и 2 366 наблюдений, связанных с употреблением психоактивных веществ. В описываемой выборке 53,4% респондентов сообщили о наличии как минимум одного фактора неблагоприятного детства. К ним относятся: 1) три типа межличностных потерь (смерть родите- лей, развод родителей, другое разлучение с родителями или опекунами); 2) четыре типа родительской дезадаптации (психическое заболевание, злоупотребление ПАВ, преступность, эмоциональное насилие); 3) три типа жестокого обращения (физическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение); 4) опасное для жизни детское физическое заболевание респондента, тяжелое экономическое положение семьи в детстве [3]. В совместном исследовании соавторов из США показано, что более половины респондентов наркологического профиля сообщают о сочетанных неблагоприятных событиях детского возраста: перенесенном эмоциональном, физическом, сексуальном насилии или физиче-ском/эмоциональном пренебрежении [4].
Помимо расстройств настроения, поведенческих расстройств, психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков, характерна доказанная связь неблагоприятных травмирующих переживаний в детстве и диссоциативных расстройств [5]. Диссоциативные переживания являются универсальным защитным механизмом психической деятельности, снижающим интенсивность (болезненность) невыносимых, связанных с травмой, чувств и воспоминаний, причем они варьируют в континууме между нормальными (например, симптомы поглоще-ния/абсорбции, рассеянности) и патологическими (к примеру, деперсонализация/дереализация, диссоциативная амнезия) [6].
Вне связи с тяжелыми детскими переживаниями диссоциативные расстройства так же сопутствуют расстройствам употребления ПАВ. Наркологические заболевания, ассоциированные с расстройствами настроения (выраженные депрессивные расстройства) и поведения (склонность к суицидам и самоповреждениям) сочетаются с диссоциативными расстройствами [7]. Диссоциация является предиктором тяжелого течения расстройств употребления ПАВ и низких результатов лечения. Предложена концепция химический диссоциации, которая предполагает, что лица со сниженной способностью к диссоциации могут использовать алкоголь как средство, способствующее снятию тягостного эмоционального состояния через блокаду (в результате химико-фармакологического взаимодействия алкоголя с префронтальной корой больших полушарий головного мозга) когнитивной обработки этих переживаний [7]. В исследовании А.А. Овчинникова показаны диссоциативные механизмы формирования клинически значимых симптомоком-плексов алкоголизма с долгосрочными явлениями неоднократных алкогольных диссоциаций (амнестические и антисоциальные формы опьянения, изменения в аффективной сфере и в организации мнестических процессов), что способствует специфическим изменениям личности по типу «двойной» (нормативной и алкогольной идентичности). Кроме того, автор доказывает облигатный характер взаимосвязи алкогольной диссоциации с первоначальной массивной психотравматизацией при ПТСР и нарушениями в аффективной сфере [8, 9]. Д.И. Шустов, Е.А. Шитов [10] для объяснения значительного уровня коморбидности расстройств зависимости и пограничного расстройства личности, ссылаясь на исследование Trull et al. (2000), указывают на наличие переменной, этиологически связанной с обоими расстройствами. Фактором, участвующим в происхождении как расстройств зависимости, так и пограничного расстройства, может являться детская травма, особенно физическое и сексуальное насилие в детстве. Диссоциативные расстройства являются опосредующим звеном между перенесенной детской психологической травмой и развитием употребления ПАВ с вредными последствиями и последующим формированием зависимости [10, 11].
Свойства защитных диссоциативных механизмов, по мере нарастания их выраженности, трансформируются в патологические, способствуя искажению понимания и отражения происходящего, препятствуют идентификации своих чувств и мыслей, приводят к трансформации алекситимической предрасположенности в алек-ситимические расстройства [12]. Алекситимия, в свою очередь, является дисфункциональным ко-пинг-механизмом избегания, прерывающим связь между неосознанными телесными («темными») чувствами и последующими осознанными эмоциями, и рассматривается как предиктор диссоциативных тенденций. Как было сказано выше, диссоциативные расстройства нарушают регулирующее взаимодействие между эмоциональными реакциями, процессами осмысления, обдумывания, оценки сложившихся обстоятельств и конечным результатом психической деятельности ‒ произвольным контролем поведения, способствующим эффективной повседневной адаптации. Выраженные диссоциативные расстройства характерны для респондентов с высокими показателями самоповреждения, со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, курением, плохой успеваемостью в школе и социальной изоляцией [4]. По мнению P. Левенштейна [12], к тому времени, «когда пациенты с диссоциативными переживаниями будут правильно диагностированы, они станут деморализованы и, как неподдающие-ся лечению пациенты, понесут значительные вторичные потери от непродуктивного лечения, госпитализаций, попыток самоубийства, уродующих самоповреждений, инвалидности и крушения карьеры».
Следовательно, о зависимостях от ПАВ, диссоциативных, посттравматических, депрессивных расстройствах можно говорить как о синергических процессах, неблагоприятно влияющих на обоюдное течение и прогноз [13, 14, 16].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ выраженности диссоциативных расстройств, расстройств посттравматического кластера, депрессивных и алекситимических нарушений у пациентов, зависимых от ПАВ, и определение их взаимосвязи с факторами неблагоприятных событий детства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было проведено сравнительное кросс-секционное исследование пациентов с синдромом зависимости от ПАВ (рубрики по МКБ-10: F10.2-19.2) Все пациенты подписали информированное добровольное согласие. Исследование одобрено локальной этической комиссией ГАУЗ ООКНД (Протокол № 2 от 16.10.2017), локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ (протокол № 12 от 01.02.2020). Исследование проводилось на базе Оренбургского областного наркологического диспансера в период с 2017 г. по первый квартал 2020 г.
Для формирования выборки были разработаны критерии включения, невключения, исключения.
Критерии включения пациентов: 1) наличие верифицированного диагноза в соответствии с рубриками МКБ-10 для психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ, синдром зависимости (F10.2x ‒ F19.2х); 2) подписанное добровольное согласие; 3) возраст не младше 18 и не старше 45 лет; 4) не менее 7 дней с момента госпитализации.
Критерии невключения: 1) наличие синдрома отмены ПАВ; 2) наличие коморбидной психической патологии: шизофрении (F20), шизотипического расстройства (F21), острых и транзиторных психотических расстройств (F23), шизоаффективного расстройства (F25); аффективных расстройств настроения (F30-39); органических психических расстройств (F00-05); умственной отсталости (F70-79); 3) наличие причин, нарушающих вербальный контакт пациента с исследователем; 4) соматическое заболевание в стадии обострения; 5) беременность.
Критерии исключения: отказ от участия на любом этапе исследования после его начала; выявление в процессе клинического интервьюирования критериев невключения.
Использованы методы исследования: клиническое интервьюирование, психометрический, статистический. С помощью клинического интервью собраны и уточнены анамнестические сведения, квалифицированы текущие признаки психических расстройств.
В качестве оценочного инструмента интенсивности психотравмирующих событий детского возраста применен Международный опросник неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experience – International Questionnaire WHO ACE-IQ) [13]. Дизайн опросника предполагает перекрестное распределение вопросов на 13 категорий, имеющих непосредственное отношение к неблагоприятному детскому опыту (НДО): физическое насилие (ФН); эмоциональное насилие (ЭН); сексуальное насилие (СН); употребление ПАВ родителями и опекунами (УПАВ); криминальное поведение/тюремное заключение родителей и опекунов (ТЗР); хронические психические заболевания, депрессии и суициды родите-лей/опекунов (ХПЗР); партнерское внутрисемей-ное/домашнее насилие (ПВН); развод, разлука и смерть родителей (РРР); эмоциональное пренебрежение (ЭП); физическое пренебрежение, включая пренебрежение основными потребностями (ПП); буллинг, издевательства со стороны сверстников (Б); коллективное насилие (КН); общественное насилие (ОН). В настоящем исследовании используется частотный подход учета указанных категорий НДО (много раз – 1 балл, было несколько раз – 2 балла, однажды – 3 балла, никогда – 4 балла). Вопросы, отражающие проблемы семейного окружения, предполагают ответ «да» – 1 балл, ответ «нет» – 2 балла. К вопросам категории «Эмоциональное пренебрежение» применена 5-балльная шкала с обратным значением.
У 120 пациентов с разной интенсивностью неблагоприятных детских переживаний для оценки диссоциативных расстройств применялась шкала диссоциации DES (Dissociative Experience Scale) [Bernstain E.M., Putnam F.W., 1986]. Выраженность расстройств посттравматического кластера оценена с помощью шкалы влияния травматического события (ШОВТС, Impact of event Scale – IES-R) [Horowitz V.J., Winter N. et al., 1979]. Степень алекситимических нарушений измерена с помощью Торонтской шкалы алекситимии (Toronto Alexithymia Scale-20, TAS-20) [Bagby M., Parker J.D.A., Taylor G.J., 1994]. Для исследования выраженности депрессии использована шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI) [Beck A.T.,1969].
Участники исследования заполняли психодиагностические опросники самостоятельно, находясь в комфортной обстановке, в стационарных условиях отделения. После заполнения психологических тестов организаторами исследования проводилась личная беседа с респондентами, в ходе которой обсуждались уточняющие вопросы и сложности, которые могли возникнуть в процессе работы с диагностическими самоопрос-никами.
Статистическая обработка проведена с помощью программы SPSS-20v. Различия между качественными признаками определялись с использованием критерия ч 2 и сравнения удельного веса в группах. Результаты считались статистически значимыми при р≤0,001. Значения количественных данных были представлены в форме средних величин (М) и среднего квадратичного отклонения ( ±m). Достоверность различий средних значений определяли с помощью критерия Стьюдента t (p<0,05). Определен критерий корреляции Пирсона (R) между средними баллами результатов оценки алекситимии, выраженности симптомов посттравматических кластеров, диссоциативных расстройств, депрессии и насыщенности факторов неблагоприятного детского опыта.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее число участников исследования составило 402 наблюдения (из них 293 мужчины и 109 женщин). Средний возраст участников исследования составил 38,5±4,7 (M±StdD) года, возраст начала развития заболевания – 22,3±2,0 года, возраст первого обращения за наркологической помощью – 30,4±1,9 года, длительность течения заболевания – 7,5±2,5 года. Основным ПАВ, предпочтение к которому высказали большинство пациентов, принявших участие в исследовании, является алкоголь (НДО 0 – 100%, НДО 1 – 94,1%, НДО 4 – 87,2%, НДО 4+ – 91,7%).
При анализе ответов по самоопроснику НДО (ACE-IQ, ВОЗ, 2009) (χ2=16,16, р>0,05) было установлено, что всего лишь 14,3% (n=57) респондентов (отсутствующий неблагоприятный детский опыт НДО 0) не указывали фактов детских психических травм (p=0,001).
Только один фактор НДО (34,1%; n=137) (умеренный неблагоприятный детский опыт ‒ НДО 1) указывали немногим более трети респондентов, который преимущественно был опосредован факторами группы опыта общественного насилия, буллингом, издевательствами, или же респондентами были предоставлены сведения о проживании в неполных семьях, разводе между родителями, утрате родителя в возрасте до 18 лет, относящиеся к группе «Проблемы семейного окружения» (p=0,001).
До 4 факторов НДО отмечала (31,2%; n=125) (тяжелый неблагоприятный детский опыт ‒ НДО4) практически треть респондентов. К ним относились группы: «Взаимоотношения с родите-лями/опекунами»: эмоциональное пренебрежение, пренебрежение потребностями; «Проблемы семейного окружения»: хронические психические заболевания, депрессии, суициды родителей/ опекунов; утрата родителя в возрасте до 18 лет или их развод, домашнее насилие, а также указанные выше факторы общественного насилия. Выявлены факторы группы «Злоупотребление детского периода жизни»: эмоциональное насилие (p=0,050).
О наличии более 4 факторов НДО получены сведения от 20,4% (n=83) пациентов (крайне тяжелый неблагоприятный детский опыт ‒ НДО4+). К числу вышеперечисленным факторам дополнительно присоединились физическое насилие, сексуальное насилие.
Т а блиц а 1. Рейтинг интенсивности неблагоприятных событий детства среди наркологических больных
|
Мужчины |
Женщины |
||
|
Факторы НДО |
Оценка в баллах АСЕ-IQ (Max – СБ) |
Факторы НДО |
Оценка в баллах АСЕ-IQ (Max – СБ) |
|
Буллинг |
1,08 |
Буллинг |
1,23 |
|
Эмоциональное пренебрежение |
0,98 |
Домашнее насилие |
1,2 |
|
Домашнее насилие |
0,95 |
Эмоциональное пренебрежение |
1,11 |
|
Насилие в сообществе |
0,76 |
Сексуальное насилие |
1,06 |
|
Пренебрежение потребностями |
0,58 |
Эмоциональное насилие |
0,58 |
|
Эмоциональное насилие |
0,58 |
Употребление ПАВ родителями/опекунами |
0,56 |
|
Развод, разлука с родителями |
0,36 |
Пренебрежение потребностями |
0,56 |
|
Психические заболевания родителей/опекунов |
0,19 |
Насилие в сообществе |
0,34 |
|
Употребление ПАВ родителями/опекунами |
0,17 |
Физическое насилие |
0,26 |
|
Коллективное насилие |
0,15 |
Психические заболевания родителей/опекунов |
0,17 |
|
Тюремное заключение родителей/опекунов |
0,13 |
Коллективное насилие |
0,16 |
|
Сексуальное насилие |
0,06 |
Тюремное заключение родителей/опекунов |
0,13 |
|
Физическое насилие |
0,06 |
Развод, разлука с родителями |
0,02 |
В соответствии с полученными данными наиболее распространенными формами неблагоприятного детского опыта были издевательства со стороны сверстников, партнерское насилие среди родителей/опекунов и эмоциональное пренебрежение.
Было установлено, что в группе пациентов c отсутствующим НДО расстройства посттравматического характера были незначительно выражены, отмечалась легкая депрессия и выявлен средний уровень диссоциативных и алекситими-ческих расстройств (табл. 2).
Т а б л и ц а 2. Оценка выраженности алекситимических, диссоциативных, посттравматических и депрессивных расстройств у наркологических пациентов
|
Шкала |
НДО 0 (n=30) Mean±SD |
НДО 1 (n=30) Mean±SD |
НДО 4 (n=30) Mean±SD |
НДО 4+(n30) Mean±SD |
Общая выборка (n=402) Mean±SD |
|
TAS |
38,4±14,7 |
42,5±14,5 |
49,8±16,9 |
56,4±16,9 |
48,4±13,5 |
|
DES |
35,2±15,2 |
52,4±18,6 |
52,2±22,5 |
55,5±16,1 |
48,8±18,1 |
|
IES |
6,8±1,3 |
29,6±16,5 |
36,6±14,7 |
54,5±16,5 |
32,9±18,9 |
|
BDY |
8,7±1,7 |
28,7±8,1 |
31,4±6,7 |
22,4±7,7 |
22,8±6,05 |
Примечание. В 1-м столбце приводятся сокращенные названия шкал: шкала алекситимии (Toronto Alexi-thymia Scale или TAS-20), шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС, Impact of event Scale – IES-R), шкала диссоциации DES (Dissociative Experience Scale), шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory).
У всех респондентов, перенесших НДО, отмечаются выраженные показатели расстройств по всем используемым психодиагностическим шкалам, однако без статистически значимых отличий. В группах пациентов с тяжелым и крайне тяжелым НДО, переживших сочетанное воздействие факторов ЭН, ПП, ХПЗР, РРР, ФН и СН, обнаружены выраженные диссоциативные нарушения, умеренные расстройства травматического кластера, алекситимические нарушения. Депрессии имели более тяжелое течение в группе пациентов с НДО 4, чем в группе пациентов с НДО 4+. Диссоциативные расстройства у пациентов, употребляющих ПАВ, не имеют строгой специфичности для пережитых НДО. Возможно, это объясняется влиянием стрессов, произошедших в более поздний период жизни, или связано с ощущениями диссоциативных состояний химического происхождения, вызванных воздействием психоактивного вещества.
Т а б л и ц а 3. Коэффициенты корреляции Пирсона (R) между кластерами НДО и средними баллами выявленных у пациентов алекситимических, диссоциативных, постравматических и депрессивных расстройств по результатам самоопросника ACE-IQ
|
Международный опросник неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experience – International Questionnaire WHO ACE-IQ) |
Коэффициенты корелляции Пирсона (R) |
|||
|
ACE-IQ (факторы) |
TAS |
DES |
IES |
BDY |
|
Физическое насилие |
0,712 |
0,939 |
0,970 |
0,476 |
|
Эмоциональное насилие |
0,759 |
0,941 |
0,983 |
0,101 |
|
Сексуальное насилие |
0,706 |
0,974 |
0,970 |
0,993 |
|
Употребление ПАВ родителями/опекунами |
0,304 |
0,562 |
0,042 |
0,995 |
|
Тюремное заключение родителей/опекунов |
0,018 |
0,747 |
0, 353 |
0,445 |
|
Хронические психические заболевания родителей/опекунов |
0,179 |
0,421 |
0,278 |
0,999 |
|
Материнское/родительское (партнерское) насилие |
0,662 |
0,995 |
0,531 |
0,953 |
|
Разлука, развод между родителями |
0,341 |
0,149 |
0,161 |
0,169 |
|
Эмоциональное пренебрежение |
0,767 |
0,937 |
0,476 |
0,328 |
|
Пренебрежение потребностями |
0,775 |
0,937 |
0,991 |
0,933 |
|
Буллинг, издевательства |
0,835 |
0,982 |
0,958 |
0, 370 |
|
Насилие в сообществе |
0.277 |
0,987 |
0,924 |
0, 393 |
|
Коллективное насилие |
0,856 |
0,953 |
0,983 |
0,388 |
П р и м е ч а н и е. В таблице использованы сокращенные названия шкал: шкала алекситимии (Toronto Alexithymia Scale ‒ TAS-20), шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС, Impact of event Scale – IES-R), шкала диссоциации DES (Dissociative Experience Scale), шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory); приведены корреляционные связи, соответствующие прямой линейной зависимости.
Проведен анализ взаимосвязи между средними баллами шкалы диссоциативного опыта и баллами кластеров опросника неблагоприятного детского опыта (табл. 3). Наиболее сильные связи выявлены между диссоциативными переживаниями и следующими факторами НДО: ФН (0,039), ЭН (0,941), СН (0,974), «партнерское (внутрисемейное) насилие (0,995), ЭП (0,937), ПП (0,937), буллинг/издевательства со стороны сверстников (Б) (0,958), ОН (0,937), КН (0,953). Связи умеренной силы обнаружены между фактором тюремного заключения родителей/опекунов (ТЗРР) (0,747). Вместе с тем отсутствовали статистически значимые связи с факторами семейной дисфункции (употребление ПАВ родителя-ми/опекунами, хронические психические заболевания, депрессии, суициды родственников) (0,421), что возможно объяснить наследственно детерминированной сниженной возможностью использовать защитные свойства диссоциации. Кроме того, отсутствовала статистически значимая взаимосвязь между диссоциативными переживаниями и фактором разлуки с родителями или их разводом (0,149).
Для возникновения симптомов постравмати-ческого кластеров наиболее статистически значимыми оказались факторы НДО: ФН (0,970), ЭН (0,983), СН (0,970), ПП (0,991), Б (0,958), ОН (0,924), КН (0,983). Остальные факторы не обнаружили статистически значимых связей с наличием симптомов ПТСР во взрослом возрасте.
При анализе взаимосвязи полученных средних баллов по шкале депрессии Бека наиболее статистически значимые связи установлены между факторами НДО «Хронические психические заболевания, депрессии суициды родите-лей/опекунов» (0,999), «Употребление ПАВ роди-телями/опекунами» (0,995). Связь, близкая к 1,00 (0,993), обнаружена между депрессиями и фактором СН, и выявлены сильные связи с фактором пренебрежения потребностями (ПП) (0,933) тюремного заключения родителей/опекунов (0,945), фактором партнерского внутрисемейного насилия (ПВН) (0,953). Фактор ЭП не обнаружил статистически значимой связи с развитием депрессии (0,328), так же как и фактор ЭН (0,101).
При анализе взаимосвязи выраженности алек-ситимических расстройств и структуры неблагоприятного детского опыта наиболее сильные связи установлены с фактором коллективного (мак-росоциального, связанного с войнами, межэтническими региональными конфликтами и т.п.) насилия. Большинство лиц, перенесших данный вид НДО, представлено вынужденными мигрантами из республик бывшего СССР (Казахстан, Киргизия, Азербайджан), покинувшими места постоянного жительства в результате межнацио- нальных конфликтов. Все они являются билинг-вальными носителями языков и испытывают сложности из-за недостаточной компетентности в коммуникативной сфере, в частности в подборе слов для выражения своих мыслей и верного описания своих чувств. На развитие алекситимиче-ских нарушений статистически значимое влияние оказывают буллинг (0,835), ПП (0,775), ЭП (0,767), СН (0,706), ЭН (0,759), ФН (0,712), ПВН (0,662). В отношении формирования алекситими-ческих расстройств не обнаружено статистически значимого воздействия факторов семейной дисфункции, связанных с нарушениями эффективной и устойчивой коммуникации (ПСЗБ, УПАВ, РРР, ТЗР).
ОБСУЖДЕНИЕ
Неблагоприятный детский опыт, включающий 13 стандартизированных факторов, в том числе насилие, пренебрежение, факторы дисфункциональной семьи и факторы общественного насилия, оказывает потенцирующее действие на проявления диссоциативных переживаний, усиливая их до уровня патологических диссоциативных расстройств, проявляющихся состояниями депер-сонализации/дереализации (дежа вю и пр.), чувством изменённости времени, ложными воспоминаниями [12]. Для пациентов с неблагоприятным детским опытом, употребляющих ПАВ, характерны высокие показатели по шкале диссоциативных переживаний по сравнению с таковыми показателями в исследованиях, проведенных без привлечения клинического популяционного метода [12, 13].
В нашем исследовании выявленный низкий уровень травматических переживаний объясняется навыками пациентов использовать ПАВ как средство «самолечения», что усиливает диссоциативные расстройства. Симптомы деперсонализации связаны с «отключением» кортиколимбической системы мозга, включающей миндалину, переднюю поясную кору (ACC) и префронтальные структуры. В этой модели деперсонализация более широко понимается как состояние субъективной отстраненности, включающее эмоциональное онемение, пустоту мыслей, аналгезию и сверхнастороженность [12].
Указанные когнитивные нарушения в ряде случаев обусловлены посттравматическими психопатологическими проявлениями. Например, в исследовании, выполненном на выборке женщин, сообщающих о партнерском насилии, подчеркнута важность искажения когнитивной переработки травмирующих событий [14]. Диссоциативные переживания препятствуют интеграции травматических переживаний в памяти, способствуют сохранению посттравматических симпто- мов и длительным стрессовым реакциям на них [15].
Диссоциативные переживания также могут быть связаны с поведением избегания, спровоцированным травмой и/или дезадаптивными когнитивными процессами, которые приводят к социальной изоляции и, в свою очередь, снижению воздействия позитивного подкрепления в естественной среде и развитию коморбидной депрессии [14, 15, 16].
В нашем исследовании уровень депрессивных расстройств оказался наиболее выражен в группе пациентов НДО 4 (тяжелый уровень детской травмы). Однако в группе пациентов с крайне тяжелым НДО (НДО 4+) тяжесть депрессивных расстройств оказалась ниже, соответствуя уровню умеренной депрессии; в то же время этим пациентам присущи более тяжелые нарушения социального функционирования, связанные с последствиями злоупотребления ПАВ. У пациентов этой группы с более высокой частотой отмечались перенесенные алкогольные психозы, склонность к самовреждающим действиям, суицидальные мысли, что может свидетельствовать о большей глубине диссоциативных расстройств вследствие травматического опыта. Результаты нашего исследования согласуются с данными литературы, показывающими связь диссоциативных переживаний с тяжестью ПТСР и депрессией [14, 15, 16].
Полученные результаты продемонстрировали, что развитие депрессии во взрослом возрасте преимущественно определяется наследственной предрасположенностью к психическим заболеваниям, условиями воспитания и развития пациентов в атмосфере пренебрежения их основными жизненными потребностями. Низкие показатели корреляции между депрессиями, эмоциональным и физическим насилием (0,101; 0,476) можно объяснить тем, что данные факторы связаны с открытым проявлением агрессии, привитием страха физического наказания. Т.е. авторитарный стиль семейного воспитания является основой для развития психопатологических состояний, связанных не с аффективной сферой, а со сферой самопознания и саморегуляции ‒ функциями поведенческого контроля. Выводы относительно взаимосвязи между физическим насилием и состоянием психического здоровья согласуются с выводами американских авторов [19], которые обнаружили, что тяжесть физического насилия определяется симптомами ПТСР, а не депрессивными симптомами. Сексуальное насилие в раннем возрасте не связано с физической угрозой пациентам, а в большей мере детерминировано обманом неосведомленного ребенка/подростка об истинных низменных целях взрослого и возникает, как правило, не в результате открытого конфликта с до- мочадцами, а подспудно, с отсроченным во времени осознанием коварства происшедшего [18].
Сексуальное насилие является сверхтяжёлым повреждающим фактором, линейно связанным с посттравматическими, диссоциативными, депрессивными расстройствами, однако не с алек-ситимией. Алекситимические расстройства отмечаются у наркологических пациентов без НДО, так же как умеренный опыт диссоциативных переживаний и депрессивные расстройства легкой выраженности, что позволяет считать эти расстройства сопутствующими развитию зависимости от ПАВ. Высокий уровень алекситимии в личностной социально-психологической структуре лиц, злоупотребляющих алкоголем, является одним из психологических факторов, препятствующих преодолению психоэмоционального дискомфорта и коррекции глубинных внутренних переживаний в сфере чувств и эмоций, что предрасполагает к замыканию порочного круга развития алкогольной зависимости [20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее исследование было направлено на изучение распространенности отдаленных последствий неблагоприятных детских переживаний в виде расстройств посттравматического кластера, диссоциативных расстройств, алекситимии, сниженного настроения. На следующем этапе была проведена оценка взаимосвязи между перечисленными расстройствами и типом психотравмирующего фактора детских переживаний в выборке пациентов с синдромом зависимости от ПАВ.
-
1. У пациентов с отсутствующим неблагоприятным детским опытом отмечены низкие показатели распространённости расстройств, связанных с травматическим опытом, низкие показатели депрессии, алекситимических и диссоциативных расстройств. Злоупотребление ПАВ используется в качестве компенсаторной невербальной стратегии с целью разрушения психологического оцепенения, управления/избегания неконтролируемых эмоций.
-
2. У пациентов с умеренными неблагоприятными детскими переживаниями, носившими характер повседневных, связанных с укладом жизни семьи и микросообщества, обнаруживаются низкие показатели расстройств посттравматического кластера, низкие показатели депрессии в сочетании с умеренными диссоциативными и алексити-мическими расстройствами. Употребление ПАВ оказывает воздействие на негативные и нерегулируемые эмоции, снижая или искажая когнитив-ный/эмоциональный анализ таковых. Злоупотребление ПАВ можно рассматривать как индивидуальную модель реагирования лиц с трудно-
- стями идентификации, выражения и регулирования собственных эмоций.
-
3. Для пациентов с тяжелым уровнем НДО характерны наиболее высокие показатели депрессивных расстройств в исследованной выборке. Интенсивность травматических переживаний возросла примерно на 25% по сравнению с пациентами, имевшими умеренный уровень НДО. Выраженность диссоциативных расстройств по сравнению с пациентами с умеренным уровнем НДО существенно не изменилась. Алекситимиче-ские расстройства имеют тенденцию к поступательному росту по мере увеличения интенсивности детских переживаний.
-
4. В группе пациентов с крайне тяжелым НДО отмечаются интенсивные, по сравнению с выборкой в целом, травматические переживания на фоне снижения депрессивных расстройств и последовательного роста диссоциативных и алекси-тимических расстройств.
Выявленное снижение показателей депрессивных расстройств у респондентов, в анамнезе которых присутствуют факторы крайне тяжёлого неблагоприятного детского опыта (физическое, эмоциональное и сексуальное насилие), может являться маркером (предиктором) высокого риска злоупотребления ПАВ. Сохраняющиеся переживания интрузии, избегания, повышенного возбуждения воспринимаются пациентами не как снижение настроения, а как необъяснимое болезненное состояние с трудно-стью/неспосособностью дать осознанную объективную оценку воспоминаниям о случившемся и связанных с этим чувствах. Диссоциативные механизмы подкрепляют это состояние, дополнительно поддерживая разрыв между мыслями, переживаниями и чувствами. ПАВ играют роль химического агента диссоциативных расстройств и потенциируют естественные диссоциативные процессы. По мере развития зависимости от ПАВ диссоциативные расстройства влияют на клинические проявления состояний опьянения и состояний отмены. Эти состояния являются проявлениями дистресса в результате опасных и чрезвычайных ситуаций и приводят к утрате контроля за употреблением ПАВ. Связанные с этим последствия для физического здоровья, душевного и социального благополучия замыкают порочный круг.
Проведенный анализ взаимосвязи коморбид-ных зависимостям от ПАВ непсихотических психических расстройств позволил установить, что диссоциативные и посттравматические расстройства имеют прямую линейную зависимость от наиболее тяжелых факторов неблагоприятного детского опыта, отражающих различные формы жестокого обращения в семейной системе с угро- зой здоровью или даже жизненной безопасности ‒ физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие.
Расстройства настроения, а именно депрессивные переживания с утратой способности получать удовольствие, определяются опытом совместного проживания с родителями/опекунами, страдавшими психическими расстройствами, совершившими суицид, употреблявшими ПАВ.
На формирование алекситимических расстройств значимое влияние оказывают нарушения межличностного взаимодействия ‒ буллинг, эмоциональное насилие, эмоциональное пренебрежение, партнерское внутрисемейное насилие.
Таким образом, оценка выраженности алекси-тимических, диссоциативных, посттравматических и депрессивных расстройств у пациентов, зависимых от алкоголя, с разной экспозицией жестокого обращения и пренебрежения в детском возрасте проведена для доказательства обоснованности превентивного определения симптомов-мишеней коморбидных состояний и разработки модели интегративной профилактической коррекционно-реабилитационной помощи взрослым с неблагоприятным переживаниями в детстве и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной обстановке, также лицам, имеющим проблемы образа жизни, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Список литературы Коморбидные расстройства, связанные с неблагоприятным детским опытом, у наркологических пациентов
- Adverse Childhood Experiences (ACE) Study Child Maltreatment Violence Prevention Injury Center CDC [Electronic resource] http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/. Датаобращения23.09.2017.
- Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker JD, Whitfield C, Perry BD, Dube SR, Giles WH. The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Apr;256(3):174-86. doi: 10.1007/s00406-005-0624-4. Epub 2005 Nov 29. PMID: 16311898; PMCID: PMC3232061.
- Green JG, McLaughlin KA, Berglund PA, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky AM, Kessler RC. Childhood adversities and adult psychiatric disorders in the national comorbidity survey replication I: associations with first onset of DSM-IV disorders. Arch Gen Psychiatry. 2010 Feb;67(2):113-23. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.186. PMID: 20124111; PMCID: PMC2822662.
- Breslau N, Davis GC, Schultz LR. Posttraumatic stress disorder and the incidence of nicotine, alcohol, and other drug disorders in persons who have experienced trauma. Arch Gen Psychiatry. 2003 Mar;60(3):289-94. doi: 10.1001/archpsyc.60.3.289. PMID: 12622662.
- Brown DW, Anda RF, Edwards VJ, Felitti VJ, Dube SR, Giles WH. Adverse childhood experiences and childhood autobiographical memory disturbance. Child Abuse Negl. 2007 Sep;31(9):961-9. doi: 10.1016/j.chiabu.2007.02.011. Epub 2007 Sep 14.
- Dorahy MJ, Middleton W, Seager L, Williams M, Chambers R. Child abuse and neglect in complex dissociative disorder, abuse-related chronic PTSD, and mixed psychiatric samples. J Trauma Dissociation. 2016;17(2):223-36. doi: 10.1080/15299732.2015.1077916. Epub 2015 Aug 14. PMID: 26275087.
- Brown PJ, Recupero PR, Stout R. PTSD substance abuse comorbidity and treatment utilization. Addict Behav. 1995 Mar-Apr;20(2):251-4. doi: 10.1016/0306-4603(94)00060-3. PMID: 7484319.
- Овчинников А.А. Диссоциативная модель формирования психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя (психиатрическая коморбидность, клинико-феноменологический, клинико-психологический, психокоррекционный и реабилитационный аспекты): автореф. дис. ... д.м.н. Томск, 2008. 47 с.
- Бохан Н.А., Овчинников А.А. Диссоциативная модель формирования алкоголизма. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. 252 с.
- Шустов Д.И., Шитов Е.А. Механизмы диссоциации и расщепления в генезе зависимостей. https://addictology.ru/2019/02/18/механизмы-диссоциации-и-расщепления. Дата обращения 01.03.2019.
- Шитов Е.А., Шустов Д.И. Взаимосвязь детской психической травмы и диссоциативных процессов психики у больных алкоголизмом. Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. 2006. Т. 14, № 2. 10 с.
- Loewenstein RJ. Dissociation debates: everything you know is wrong. Dialogues Clin Neurosci. 2018 Sep;20(3):229-242. doi: 10.31887/DCNS.2018.20.3/rloewenstein. PMID: 30581293; PMCID: PMC6296396.
- Loewenstein RJ, Frewen PA, Lewis-Fernández R. Dissociative Disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan & Sadock’s. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Vol. 1. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkens. 2017:1866-1952.
- Stein DJ, Koenen KC, Friedman MJ, Hill E, McLaughlin KA, Petukhova M, Ruscio AM, Shahly V, Spiegel D, Borges G, Bunting B, Caldas-de-Almeida JM, de Girolamo G, Demyttenaere K, Florescu S, Haro JM, Karam EG, Kovess-Masfety V, Lee S, Matschinger H, Mladenova M, Posada-Villa J, Tachimori H, Viana MC, Kessler RC. Dissociation in posttraumatic stress disorder: evidence from the world mental health surveys. Biol Psychiatry. 2013 Feb 15;73(4):302-12. doi: 10.1016/j.biopsych.2012.08.022. Epub 2012 Oct 9. PMID: 23059051; PMCID: PMC3589990.
- Тихова Г.П. Планируем клиническое исследование. Вопрос № 1: как определить необходимый объем выборки? Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2014. Т. 8, № 3. С. 57-63.
- Бохан Н.А., Семке В.Я. Коморбидность в наркологии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 510 с.
- Ярцева Е.В., Гречаная Т.Б., Корчагина Г.А., Исаев Р.Н. Распространенность неблагоприятного детского опыта у реабилитантов с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Вопросы наркологии. 2018. № 7 (167). С. 31-45.
- Dunmore E, Clark DM, Ehlers A. Cognitive factors involved in the onset and maintenance of posttraumatic stress disorder (PTSD) after physical or sexual assault. Behav Res Ther. 1999 Sep;37(9):809-29. doi: 10.1016/s0005-7967(98)00181-8. PMID: 10458046.
- Stein MB, Kennedy C. Major depressive and post-traumatic stress disorder comorbidity in female victims of intimate partner violence. J Affect Disord. 2001 Oct;66(2-3):133-8. doi: 10.1016/s0165-0327(00)00301-3. PMID: 11578665.
- Тархан А.У., Ерошин С.П. Роль алекситимии в развитии эмоциональных и неврозоподобных расстройств при алкогольной зависимости. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2013. № 4. С. 51-57.