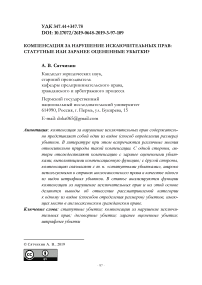Компенсация за нарушение исключительных прав: статутные или заранее оцененные убытки?
Автор: Сятчихин А.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Компенсация за нарушение исключительных прав содержательно представляет собой один из видов (способ определения размера) убытков. В литературе при этом встречаются различные мнения относительно природы такой компенсации. С одной стороны, авторы отождествляют компенсацию с заранее оцененными убытками, выполняющими компенсационную функцию; с другой стороны, компенсацию связывают с т. н. «статутными убытками», широко используемыми в странах англосаксонского права в качестве одного из видов штрафных убытков. В статье анализируются функции компенсации за нарушение исключительных прав и на этой основе делаются выводы об отнесении рассматриваемой категории к одному из видов (способов определения размеров) убытков, имеющих место в англосаксонском гражданском праве.
Статутные убытки, компенсация за нарушение исключительных прав, договорные убытки, заранее оцененные убытки, штрафные убытки
Короткий адрес: https://sciup.org/147230049
IDR: 147230049 | УДК: 347.44+347.78 | DOI: 10.17072/2619-0648-2019-3-97-109
Текст научной статьи Компенсация за нарушение исключительных прав: статутные или заранее оцененные убытки?
В публикациях последних лет именно компенсаторная (компенсационная) функция гражданского права все чаще становится предметом внимания цивилистов. Наиболее рельефно эта основополагающая функция гражданского права проявляется при реализации мер гражданско-правовой ответственности, цель совершенствования системы которых определена направленностью на восстановление имущественного положения кредитора1.
В то же время сам термин «компенсация» довольно многозначен. Философский энциклопедический словарь определяет компенсацию как «восстановление нарушенного равновесия … путем создания противоположно направленной реакции или импульса»2. Однако в большинстве словарей имеющее латинские корни слово отождествляется с понятием «возмещение». Любопытно отметить, что «возмещение» вплоть до XX века связывалось с такими словами, как
«месть», «мстить»3. Как справедливо отмечает Ю. П. Праслов, на тот период времени подобного рода толкование возмещения адекватно отражало его харак-тер4. Однако позже такая связь ставится под сомнение – возмещение начинают связывать со словами «место», «вместо», «заменить», «уравновешивать» и «вознаграждать убыль», не имеющими ничего общего с карой или штрафом5.
В настоящей статье, согласно основным началам гражданского законодательства и целям закрепления компенсационных выплат, мы будем понимать компенсацию во втором, современном, значении слова, сближающем природу категории «компенсация» с возмещением убытков.
В гражданском праве термин «компенсация» является одним из самым многозначных и часто употребляемых, как правило, применительно к различного рода мерам ответственности. Так, помимо морального вреда компенсируются нарушение авторских и смежных прав, вред здоровью и жизни человека, ущерб, причиненный правомерными действиями публичной власти, замещается выдел доли и устраняются последствия нарушения акционерного соглашения6. При этом в гражданском законодательстве отсутствует и единый подход к соотношению компенсации и возмещению убытков: в пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ компенсация рассматривается как альтернатива возмещению убытков7, а положение абзаца 2 пункта 7 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» содержит правило о возмещении убытков наравне с уплатой компенсации8.
Подобная ситуация свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии четкого законодательного понимания содержания рассматриваемого термина, его собирательном характере и/или нарушении «чистоты» юридической терминологии9.
Рассматривая компенсацию наряду с иными мерами ответственности в гражданском праве и возвращаясь к вопросу многозначности ее понятия, нельзя не отметить, что ряд мер, обозначаемых термином «компенсация», по сути являются специфическими способами возмещения убытков. Так, например, В. А. Хохлов убедительно показывает справедливость этой точки зрения: во-первых, главной задачей сравниваемых мер ответственности является возмещение ущерба; во-вторых, компенсация в ряде случаев применяется вместо возмещения убытков; в-третьих, отличие в порядке определения величины убытков в рассматриваемых случаях не означает принципиального отличия компенсации от возмещения убытков, поскольку последние могут «опираться на различные методики»10.
В современной юридической литературе компенсация за нарушение исключительных прав довольно часто отождествляется с т.н. «заранее оцененными убытками». Например, О. Н. Садиков пишет: «Категория заранее оцененных убытков получила свое отражение в нормах части четвертой ГК РФ, где предусматривается выплата при нарушении авторских и смежных прав по выбору потерпевшего лица вместо возмещения убытков определенной компенсации»11. Аналогичную точку зрения высказывает и Ю. В. Романец: «Идея заранее оцененных убытков реализована в институте компенсации, применяемом при защите исключительных прав»12. Компенсация при этом, по мнению автора, призвана решить задачу «полного возмещения труднодоказуемых убытков»13. Принимая во внимание изложенное ниже, представляется, что указанная позиция авторов с учетом различной природы рассматриваемых мер ответственности нуждается либо в дополнительной аргументации, либо в существенной корректировке.
Обратимся к истории появления и развития в российском законодательстве данной меры гражданско-правовой ответственности. Анализируя современные тенденции отечественной модели гражданско-правового регулирования, О. В. Зайцев справедливо отмечает, что, «несмотря на существовавшие традиции в дореволюционном российском праве регулирования частноправовых отношений, большинство законодательных правил с конца 90-х годов XX века были привнесены западными моделями»14. Так, рассматриваемый вид компенсации впервые был закреплен в законе РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»15. Источником заимствования данного института явилось законодательство США, единственной страны, право которой в то время допускало применение т. н. «статутных убытков» (statutory damages) к авторским и смежным правам.
Под «статутными» принято понимать убытки, размер которых прямо установлен в законе. Их природа в отечественной литературе определяется по-разному. Одни авторы считают ее сугубо штрафной санкцией16, другие – строго компенсаторной мерой ответственности17. Однако в полной мере ни с той, ни с другой точкой зрения мы согласиться не можем. С одной стороны, §1117 Кодекса США18 устанавливает, что в каждом случае присуждаемую сумму «стоит принимать в качестве возмещения, но не штрафа». С другой стороны, суд, определяя размер статутных убытков и руководствуясь принципом справедливости, может по своему усмотрению (с учетом обстоятельств дела) повысить сумму возмещения, до трех раз превышающую ре- альный ущерб (actual damages)19. В то же время в традиции континентального права сложно признать тот факт, что санкция, размер которой кратно превышает реальный ущерб, не имеет штрафную функцию в качестве основной.
В связи с этим в юридической доктрине отмечается, что рассматриваемый вид компенсации, «прототипом» которой, как мы полагаем, выступили статутные убытки, имеет «двойственную правовую природу, являющуюся результатом попытки совмещения особого способа определения предполагаемых убытков при отсутствии точных данных для них, а также системы штрафов, взыскиваемых на основании факта правонарушения и в ряде случаев способных значительно превосходить размер причиненных правообладателю убытков»20. Однако стоит признать, что на различных этапах развития российского гражданского права соотношение компенсаторной и штрафной функций компенсации за нарушение авторских прав менялось.
В частности, В. В. Старженецкий выделяет четыре таких этапа. На первом (1992–2004 гг.) компенсация выполняла роль упрощенной «формы возмещения убытков». Второй этап (2004–2008 гг.) характеризовался усилением штрафной составляющей компенсации, свидетельством чего стало введение нового порядка ее расчета (двукратного размера стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав или прав на их использование), а также введения нормы о взыскании компенсации за каждый случай неправомерного использования. Третий этап (2008–2014 гг.) окончательно оформил штрафной характер компенсации путем закрепления права автора на выбор способа ее исчисления21, взыскания вместо и вне зависимости от убытков и вины нарушителя, а также закреплением третьего способа определения размера компенсации непосредственно судом. Интересно отметить, что на этом этапе, как замечает автор, «в судебной практике и доктрине по-прежнему по инерции преобладала точка зрения о том, что компенсация в силу своего названия и правовой природы является своеобразным способом восстановления нарушенных прав, продолжались попытки совместить этот институт с правовосстановительными началами гражданского права»22. Четвертый этап (2014 г. – наше время) характеризуется расширением сферы применения компенсации и законодательного закрепления результатов обобщения судебной практики23.
Кроме этого, вывод о наличии штрафной функции у компенсации, чуждой для рассматриваемых нами в других работах заранее оцененных убыт- ков, проявляется, как мы полагаем, в следующем. Так, современное российское законодательство, регулирующее авторское право, предусматривает три способа определения размера компенсации. В этой связи с общефилософских позиций определим названный вид компенсации как целое, а способы определения ее размеров – как составные части этого целого. Исходя из представлений о том, что любая часть составляет «миниатюру» целого24, определим функциональную нагрузку каждого способа определения размера компенсации с целью определения центральной функции самой компенсации. Иными словами, обосновывая штрафную функцию компенсации за нарушение исключительных прав, проследим проявление штрафной функции в каждом способе определения размера такой компенсации.
Применение правила об определении размера компенсации судом через установленные в законе ее минимальные и максимальные значения можно проиллюстрировать следующим примером. Предпринимателю, продавшему нелицензионный компакт-диск со сборником из двадцати песен (исполнений) за 250 руб., будет присуждена компенсация, как минимум, в размере 200 000 руб. (произведение минимального размера компенсации на каждый случай незаконного использования)25. Очевидно, что 800-кратная компенса-ция26 a priori не может иметь компенсаторный характер, даже с учетом снижения ее размеров ниже пределов, установленных законом.
Два других способа определения размера компенсации, в сущности составляющих один, могут быть проиллюстрированы многочисленными примерами из судебной практики. В частности, суды напрямую указывают, что рассчитанная и таким образом компенсация по своей природе «является штрафной мерой ответственности», применяемой при «значительной затруднительности для правообладателя определить размер причиненного ущерба»27. В данном случае мы видим: с одной стороны, общий признак заранее оцененных убытков и компенсации за нарушение исключительных прав – случаи невозможности или затруднения при определении точного размера убытков; с другой стороны, существенное различие – штрафная природа такой компенсации, не соотносящаяся с компенсаторной природой заранее оцененных убытков. Очевидно, что взысканная последним способом компенсация, как правило, составляет более тяжкую санкцию за нарушение прав правообладателя, поскольку, напомним, максимальный размер компенсации, определяемой судом, составляет 5 млн руб. Стоит напомнить, что в этом случае у суда отсутствует право на снижение размера компенсации, что в очередной раз свидетельствует о штрафном характере и этого способа исчисления.
Таким образом, идея целого (штрафная функция компенсации) нашла отражение в каждой составляющей ее части (способе определения размера компенсации за нарушение исключительных прав). В связи с этим стоит поддержать мнение авторов, относящих названный вид компенсации к штрафным мерам ответственности28. Так, например, Е. И. Каминская справедливо отмечает: «Практика применения судами компенсации за нарушение исключительных прав показывает, что вопреки своему названию и используемым в доктрине квалификациям к компенсаторным санкциям ее можно отнести с большим трудом»29.
Как показывает приведенный анализ, в отечественном законодательстве и практике его применения утвердилась тенденция усиления штрафной составляющей компенсации за нарушение исключительных прав, в связи с чем ее сравнение по ключевому критерию (основной функции) с заранее оцененными убытками, имеющими сугубо компенсаторную природу, видится некорректным. Рассматривая компенсацию как один из способов определения убытков в случаях, когда их установление имеет существенные трудности или вовсе невозможно (посредством т.н. метода «адекватных оценок»), В. В. Груздев отмечает, что в законе устанавливаются границы судейского усмотрения, которые не имеют «ничего общего с “нормативными” и “заранее оцененными” убытками, размер которых a priory определяется в точной цифре»30.
Как известно, тот или иной правовой механизм способен одновременно реализовывать различные функции31. Так, А. С. Комаров в своем исследовании подчеркивает, что имущественные санкции способны вызывать различные правовые эффекты, однако решающими остаются общая направленность (вектор) и законодательно сформулированные задачи32. Изложенный материал свидетельствует о преобладании штрафной функции у компенсации за нарушение исключительных прав. Сформулированные же законодателем задачи находят отражение в текстах закона. Так, до принятия части четвертой Гражданского кодекса РФ нормы о компенсации были закреплены в статье 49 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»33. Однако лишь третья (последняя) редакция закона фактически исключила из оснований для выплаты названного вида компенсации наличие убытков у правообладателя, что не может не свидетельствовать о придании самим законодателем штрафного характера компенсации, формулировании последним соответствующей задачи – наказания нарушителя исключительных прав правообладателя34.
В то же время, несмотря на существенные различия в основной функции, у заранее оцененных убытков и компенсации за нарушение исключительных прав имеется и общее. Во-первых, обе конструкции заимствованы из англосаксонского гражданского права. Стоит при этом отметить, что в данном случае, как и в ряде других, «заимствование отдельных решений и конструкций зарубежных правопорядков связано с отсутствием тех теоретических наработок, которые обеспечивают применение данных законодательных механизмов на практике и при разрешении возникающих споров»35. Во-вторых, в обоих случаях преобладает диспозитивное регулирование отношений (самостоятельное формулирование условий о заранее оцененных убытках и возможность выбора способа исчисления компенсации). В-третьих, как мы уже отметили, сравниваемые меры фактически выступают способами исчисления убытков в случаях, когда их определение представля- ет значительную трудность36. Однако приведенные аргументы не являются достаточными для сколько-нибудь существенного сближения сравниваемых мер гражданско-правовой ответственности.
В современной литературе высказываются предложения по совершенствованию регулирования отношений по выплате компенсаций. В частности, предлагается и далее усиливать штрафную функцию компенсации посредством повышения ее минимальных стоимостных значений, установленных в законе37. Не соглашаясь с указанным, отметим, что реализация этих предложений, еще сильнее дистанцирующих компенсацию от заранее оцененных убытков, не соотносится с современными тенденциями правового регулирования способов защиты нарушенных гражданских прав, в том числе прав исключительных. Так, в настоящее время задача суда фактически сводится к установлению мотивов снижения размеров заявленной суммы компенсации. Кроме этого, с 2014 г. законодатель закрепил право суда в отдельных случаях снижать общий размер компенсации ниже пределов, установленных законом, что может свидетельствовать об ослаблении штрафной функции компенсации. В этой связи В. В. Старженецкий выражает надежду на то, что «дальнейшая эволюция института статутных убытков (а равно компенсации за нарушение исключительных прав. – А. С. ) в России будет происходить не в карательной, а в правовосстановительной плоскости»38.
Выводы
-
1. Как и заранее оцененные убытки, компенсация за нарушение исключительных прав представляет один из видов (способов исчисления) убытков, заимствованных из англосаксонского права (статутные убытки), применяемых, как правило, в случаях, когда затруднительно или вовсе невозможно определить точный размер убытков.
-
2. Отечественное право и практика его применения базируются на «штрафном» понимании компенсации, идея чего проявляется в каждом способе определения ее размеров.
-
3. Несмотря на очевидную тенденцию усиления штрафной функции компенсации, последняя имеет и компенсаторную составляющую, что объясняется сложным процессом адаптации института статутных убытков к традициям отечественного права, где сочетание штрафной и компенсаторной функций ответственности воспринимается как исключение из общего правила.
-
4. Существенные отличия в основной функции сравниваемых мер гражданско-правовой ответственности не позволяют согласиться с тем, что идея заранее оцененных убытков в российском гражданском праве нашла отражение в институте компенсации за нарушение исключительных прав. Компенсация за нарушение исключительных прав содержательно не представляет заранее оцененные убытки, а составляет иной вид убытков, известный право-порядкам стран общего права – статутные убытки. Иными словами, в авторском праве компенсация не является случаем нормативного закрепления заранее оцененных убытков. Так, при общих условиях применения (невозможность или затруднения в определении размеров убытков) данный вид компенсации лишен учетно-стоимостной функции (компенсация определяется судом после нарушения соответствующих прав), а также имеет противоположную компенсаторной – штрафную – функцию, поскольку размер такой компенсации многократно превышает размер действительных убытков потерпевшей стороны.
-
5. Заимствованная из англосаксонского права идея статутных убытков, воплощенная в компенсации за нарушение исключительных прав, получила широкое распространение в отечественном праве и поддержку среди представителей цивилистической доктрины и практиков. Удачный опыт заимствования зарубежного опыта свидетельствует о наличии принципиальной возможности адаптации институтов англосаксонского права к условиям российских правовых реалий.
-
6. В процессе развития нормативных положений о компенсации за нарушение исключительных прав наметилась тенденция к усилению ее штрафной функции и, соответственно, различий с заранее оцененными убытками.
-
7. Несмотря на использование одного термина, различные виды компенсаций в гражданском праве (например, компенсация за нарушение условий акционерного соглашения и компенсация за нарушение исключительных прав) могут реализовать диаметрально противоположные функции, в связи с чем будут иметь различную природу.
Список литературы Компенсация за нарушение исключительных прав: статутные или заранее оцененные убытки?
- Ворожевич А. С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. № 6.
- Гаврилов Э. П. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак // Хозяйство и право. 2012. № 7.
- Гаврилов Э. П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. Т. 1: Наука логики.
- Груздев В. В. Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. Книга вторая: Отдельные аспекты защиты. М.: Юстицинформ, 2014.