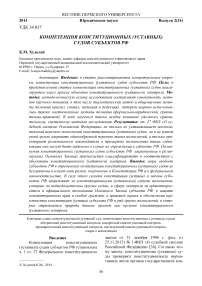Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Автор: Худолей К.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Конституционное, муниципальное и финансовое право
Статья в выпуске: 2 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматриваются концептуальные вопросы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Цель: в представленной статье компетенция конституционных (уставных) судов анализируется через призму объектов конституционного (уставного) контроля. Методы: методологическую основу исследования составляют совокупность методов научного познания, в том числе диалектический метод и общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция и дедукция). Автором широко использовались также частнонаучные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» не только не устанавливает исключительный перечень полномочий конституционных (уставных) судов, но и не имеет своей целью закрепить единообразный перечень таких полномочий, а только ориентирует регионального законодателя о примерных полномочиях таких судов, какими они могут быть наделены в случае их учреждения в субъекте РФ. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ, закрепленные в региональных Основных Законах предлагается классифицировать в соответствии с объектами конституционного (уставного) контроля. Выводы: мера свободы субъектов РФ в определении компетенции конституционных (уставных) судов не безгранична и имеет свои рамки, очерченные в Конституции РФ и в федеральном законодательстве. В силу этого сегодня конституции (уставы) и законы субъектов РФ закрепляют за конституционными (уставными) судами полномочия, которые не подведомственны другим судам, в сфере контроля за правотворчеством и официального толкования Основного Закона субъекта РФ, в защите конституционных прав и свобод граждан, в правовой охране и обеспечении верховенства конституции (устава) субъекта РФ и ряд других полномочий, в которых отражается природа данных органов как органов конституционного (уставного) контроля.
Конституционный (уставный) суд, компетенция конституционных (уставных) судов, абстрактный конституционный контроль, конкретный конституционный контроль, предварительный конституционный контроль, последующий конституционный контроль, споры о компетенции
Короткий адрес: https://sciup.org/147202411
IDR: 147202411 | УДК: 34.037
Текст научной статьи Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ установлена ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. (ред. от 25.11.2013) № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [36]. Согласно этому закону, конституционные (уставные) суды проверяют конституционность нормативных актов органов государственной вла- сти субъектов РФ и местного самоуправления, а также осуществляют официальное толкование Основного Закона субъекта РФ. По мнению В.А. Кряжкова, указанный федеральный конституционный закон не определяет компетенцию конституционных (уставных) судов в полном объеме, а формулирует их целевое назначение, которая получает свое развитие в региональном законодательстве [11, с. 40]. М.А. Митюков и А.М. Барнашов пишут, что названным законом устанавливается не императивная, а рекомендуемая компетенция, которая может быть исчерпывающим образом воспроизведена в законодательстве субъекта РФ либо частично [1, с. 303]. С.Э. Несмеянова не вполне согласна с таким утверждением: в федеральном законодательстве закрепляется минимальные, но обязательные полномочия органов региональной конституционной (уставной) юстиции [10, с. 162]. Возникшие в юридической науке и практике вопросы о компетенции конституционных (уставных) судов были разрешены судебной практикой.
Правовые позиции конституционного суда РФ о компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ
В определении Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. №103-О закреплено, что содержащийся в ч. 1 ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» перечень вопросов, для рассмотрения которых могут создаваться конституционные (уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим. Поэтому допускается закрепление иных полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ, не вторгающихся в компетенцию Конституционного Суда РФ и других федеральных судов и соответствующих компетенции субъекта РФ [35]. Отметим, что до принятия данного определения в практике судов общей юрисдикции господствовала позиция, согласно которой конституционным (уставным) судам принадлежит только та компетенция, которая установлена в федеральном законодательстве [2, с. 14]. Например, в Красноярском крае в течение 2 лет (1999–2001) шло противостояние между Законодательным Собранием и прокурором края по вопросу о полномочиях уставного суда. Дело дошло до Президиума Верховного Суда РФ, который поддержал позицию прокурора в части, что субъект РФ не вправе предоставлять уставному суду полномочия, не предусмотренные ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
Представляется важным вспомнить и постановление от 11 апреля 2000 г., в котором Конституционный Суд РФ и сделал вывод, что допустимо наделение конституционных (уставных) судов путем принятия соответствующего федерального конституционного закона полномочием по проверке соответствия законов субъектов РФ федеральным законам [32]. Стоит согласиться, что некоторые такие дела имеют конституционно-правовую природу, однако подобное решение вопроса требует учета полномочий в сфере нормоконтроля между федеральными судами и конституционными (уставными) судами, между которыми отсутствуют отношения по инстанционности. Может быть, поэтому данный федеральный конституционный закон до сих пор не принят.
Классификация полномочий конституцонных (уставных) судов субъектов РФ
В.А. Кряжков предложил провести классификацию полномочий конституционных (уставных) судов по принципу типичной, достаточно распространенной или нетипичной и эксклюзивной [10, с. 193]. В.В. Гошуляк, Л.Е. Ховрина и Т.И. Геворкян предложили иную концепцию: общие полномочия, которые характерны для всех конституционных (уставных) судов, особенные – группе субъектов РФ и отдельные – единичному субъекту РФ. К числу общих полномочий относятся нормы, установленные ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», к особенным – те, которые берут свое начало в ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» и были адаптированы к условиям региональной конституционной (уставной) юстиции [4, с. 33]. И.В. Зыкова предлагает полномочия конституционных (уставных) судов делить на основные (определенные в ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации») и дополнительные (определяемые самим субъектом). Последние, в свою оче- редь, можно подразделить на общие (характерные для всех субъектов Федерации) и специальные (присущи только конкретному субъекту ввиду его отличительных особенностей) [5, с. 46]. Однако к настоящему моменту специальные или эксклюзивные полномочия среди всех 17 субъектов РФ [12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31], в которых созданы конституционные (уставные) суды, встречаются только в Саха (Якутии), поэтому вряд ли их уместно выделять в самостоятельный класс. Видится, что классификацию полномочий следует проводить по видам конституционного контроля.
К числу первых и общих полномочий для всех конституционных (уставных) судов отнесен абстрактный нормоконтроль. В подавляющем большинстве субъектов РФ конституционные (уставные) суды наряду с официальным толкованием Основного закона субъекта РФ по обращению уполномоченных субъектов проверяют законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления на предмет соответствия Основному Закону субъекта РФ.
С.Э. Несмеянова отмечает, что в ряде субъектов РФ устанавливается неограниченный перечень нормативных актов, подлежащих контролю, а в других – примерный, так же и перечень органов, акты которых подлежат проверке, закрепляется как исчерпывающий или примерный [11, с. 68]. Действительно, в Саха (Якутии), Татарстане и Дагестане контролю подлежат нормативные акты не только высшего должностного лица и высшего исполнительного органа субъекта РФ, но также иных органов исполнительной власти, а в Карелии – иных должностных лиц. В Башкортостане помимо «иных республиканских органов государственной власти» Конституционный Суд проверяет конституционность также и местных органов государственной власти. В Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Калининградской области особо подчеркивается, что суды вправе осуществлять проверку нормативных актов законодательного органа субъекта РФ. В Чеченской Республике предметом проверки со стороны конституционного суда могут быть норматив- ные акты только представительных органов местного самоуправления, в то время как в Тыве и Карелии – помимо органов местного самоуправления, также должностных лиц местного самоуправления. Широко предмет абстрактного контроля решается в Свердловской области – проверяются положения правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), принимаемых органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления. В республиках Адыгея, Марий Эл, Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва, Карелия установлено, что предметом контроля являются уставы муниципальных образований. Думается, что такое уточнение оправданно, поскольку уставы муниципальных образований могут приниматься на местном референдуме и в этом случае они выпадают из числа объектов регионального конституционного (уставного) контроля, если полномочия конституционных (уставных) судов рассматривать исключительно в свете федерального законодательства.
Достаточно оригинально вопрос о предмете абстрактного конституционного контроля разрешен в ст. 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания о Конституционном Суде этой Республики, согласно которой Конституционный Суд проверяет конституционность нормативно-правовых актов общественных объединений, государственных и муниципальных учреждений. Как представляется, государственные и муниципальные учреждения, если они не являются органами государственной власти или местного самоуправления, не вправе издавать нормативные правовые акты, как и общественные объединения. Исходя из этого данные полномочия Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания выглядят неправовыми и выходящими за рамки подведомственности органов конституционной (уставной) юстиции.
Одним из актуальных аспектов является вопрос о том, вправе ли конституционные (уставные) суды рассматривать на предмет соответствия конституции (уставу) субъекта РФ положения договоров (соглашений) между органами местного самоуправления. По мнению А.О. Казанцева, выход из этой ситуации видится в законодательстве Свердловской области, согласно которой уставный суд вправе осуществлять проверку всех правовых актов, кроме ненормативных (индивидуальных) [7, с. 66]. Думается, что региональному законодателю следует особо предусмотреть договоры между органами местного самоуправления как объект конституционного контроля.
Достаточно часто в законодательстве субъектов РФ закрепляется конкретный конституционный контроль по обращениям граждан или судов в отношении нормативных актов примененных или подлежащих применению в конкретном деле. К их числу относятся:
– законы субъекта РФ (Санкт-Петербург, Саха (Якутия), Тыва) и иные нормативные акты субъекта РФ (Адыгея, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия);
– нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления (Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Коми, Свердловская область).
Причем объем правовых актов, которые попадают в сферу конституционного контроля, в отдельных субъектах РФ не является постоянным. В этой связи представляется интересным привести пример из практики уставного суда Санкт-Петербурга, который в 2004 г. признал не соответствующим Уставу норму закона Санкт-Петербурга о том, что граждане могут обжаловать в уставном суде положения только законов, нарушающие их конституционные права и свободы [34]. Однако Законодательное Собрание посредством внесения изменений в Устав Санкт-Петербурга подтвердила возможность для граждан обжаловать положения только законов в этом суде, фактически преодолев юридическую силу решения уставного суда Санкт-Петербурга [3, с. 60]. Отметим, что Конституционный Суд РФ признал допустимым изменение компетенции конституционного (уставного) суда субъекта РФ по рассмотрению дел в порядке конкретного нормоконтроля, когда по жалобе гражданина может быть проверен на соответствие конституции (уставу) субъекта РФ только закон, но не иной правовой акт субъекта РФ [17].
В некоторых субъектах РФ конституционные (уставные) суды конкретный конституционный контроль на нарушение конституционных прав и свобод граждан согласно законодательству не осуществляют (в Карелии и Калининградской области, в которых граждане наделены правом обращаться в суды рамках абстрактного конституционного контроля), а в Республике Тыва подобные дела рассматриваются только по обращениям судов, но не граждан. Как установил Конституционный Суд РФ, является допустимым переход от модели, включающей полномочие конституционного (уставного) суда осуществлять по жалобам граждан проверку соответствия нормативных правовых актов субъекта РФ его конституции (уставу) в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля к модели конкретного нормоконтроля [15; 16]. В зарубежной литературе в связи с данной проблемой отмечается, что сочетание абстрактного и конкретного контроля позволяет органу конституционного правосудия «сохранять правильные пропорции между защитой прав граждан и непротиворечивости правовой системы» [39, с. 234]
Не меньшее количество вопросов вызывают формулировки ст. 3 Закона Республики Саха (Якутия) о Конституционном Суде, предоставляющие этому органу власти право проверки конституционности актов правоприменительной практики органов исполнительной власти, поскольку под ними можно понимать и индивидуальные (ненормативные) акты, которые могут быть объектом нормоконтроля в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Думается, что подобное полномочие является не правовым, поскольку не вытекает из природы этого органа как органа конституционного контроля, вторгается в компетенцию федеральных судов.
Достаточно часто в законодательстве субъектов РФ к числу полномочий конституционных (уставных) судов отнесено разрешение споров о компетенции (между органами государственной власти субъектов РФ, между ними и органами местного самоуправления, а также между последними). Именно так предусмотрено в законодательстве Бурятии, Кабардино-Балкарии, Север- ной Осетии – Алании, Саха (Якутии), Татарстана. Однако в Чечне суд не рассматривает споры о компетенции между органами государственной власти субъекта РФ, а в Адыгее и Калининградской области – между органами местного самоуправления. Представляет интерес норма ст. 3 Закона Республики Саха (Якутия) о Конституционном Суде, согласно которой Конституционный Суд участвует в решении конституционно-правовых споров между Республикой Саха (Якутия) и Российской Федерацией. По мнению А. А. Иванина и С. Г. Павликова, формулировка «участвует в решении», а не «разрешает споры» означает вторичную роль Конституционного Суда Республики по отношению к Конституционному Суду РФ без вторжения в компетенцию последнего, который разрешает споры о компетенции между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ [6, с. 25].
В некоторых законах о конституционных (уставных) судах предусматривается предоставление этим органам полномочий по осуществлению превентивного конституционного контроля в отношении:
– актов и вопросов, выносимых на референдум субъекта РФ Калининградская область) или республиканского и местного референдума (Чечня, Адыгея), порядка назначения и проведения референдума в Саха (Якутии);
– актов, изменяющих и дополняющих Основной Закон субъекта РФ (Саха (Якутия), Калининградская область), пересматривающих его Раздел 1 (Адыгея);
– договоров и соглашений субъекта РФ.
Необходимость использования процедуры предварительного конституционного контроля обусловлена природой проверяемых актов. Проверка вступивших в силу референдарных законов недопустима по причине принятия этих актов самим источником суверенитета [1, с. 311]. Последующий контроль актов, вносящих изменения и дополнения в конституцию (устав) субъекта РФ, априори невозможен в силу того, что после вступления в силу они становятся частью самого Основного Закона, а органы конституционного контроля не вправе проверять конституционность положений последнего в целом или отдельных его частей. Подобная правовая позиция воспринята и органами конституционной (уставной) юстиции [34], а также в юридической литературе, в т. ч. и зарубежной [38, с. 253], установлена законодателем на региональном (Бавария) и на национальном уровнях (Украина, Кыргызстан, Молдова, Беларусь). Стоит отметить, что на федеральном уровне Конституционный Суд не принимает участия в превентивном контроле законов о поправках к Конституции, в чем, на наш взгляд, видится серьезная пробельность, которая может угрожать конституционной законности, особенно в свете активизации федерального законодателя по изменению Основного Закона страны в последнее время.
Действующее законодательство уже не содержит крайне спорных формулировок о праве конституционных (уставных) судов проверять конституционность международных договоров субъектов РФ. В настоящее время конституционные (уставные) суды проверяют не вступившие в силу:
– международные и межрегиональные соглашения (Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания);
– договоры с субъектами РФ, а также с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств (Тыва) и иные договоры субъекта РФ (Ингушетия).
По субъектному составу конституционные (уставные) суды осуществляют проверку не вступивших в силу договоров и соглашений, заключаемых между органами государственной власти субъектов РФ в Саха (Якутии), а также между органами государственной власти и органами местного самоуправления (Чечня, Тыва, Адыгея).
Последнюю группу полномочий конституционных (уставных) судов образуют те, в рамках которой органы конституционной (уставной) юстиции осуществляют консультативные контрольно-удостоверительные полномочия. Объектом контроля в этом случае выступают действия и решения органов власти (например, высшего должностного лица субъекта РФ согласно зако- нодательству Татарстана). Используя указанные полномочия, конституционные (уставные) суды участвуют в процедурах, связанных с роспуском парламента (Саха (Якутия), Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания), отрешения от должности высшего должностного лица субъекта РФ (Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия), Татарстан), вынесения заключения о наличии или отсутствии препятствий для проведения выборов в органы государственной власти в Саха (Якутии). Представляет интерес норма ст. 3Закона Республики Саха (Якутия) о Конституционном Суде, согласно которой данный орган власти дает заключения о конституционности законов и иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). Думается, что использование процедуры абстрактного контроля по этим категориям дел представляется более логичной, поскольку дача заключения не влечет за собой утрату юридической силы акта, признанного неконституционным. Заметим, что ранее действующая редакция этой статьи предусматривала право Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) давать заключения о соответствии федеральных законов Конституции Республики Саха (Якутия). Правомерность данных полномочий вызывало серьезные опасения в связи с вторжением в сферу федеральных органов государственной власти, несмотря на то, что Конституций Суд принимал не постановление, а заключение.
Помимо данных полномочий, конституционные (уставные) суды также наделяются и иными, не связанными с осуществлением конституционного контроля, – право законодательной инициативы (в настоящий момент предусмотрено во всех субъектах, кроме Санкт-Петербурга), предоставление посланий региональному парламенту о состоянии конституционной законности (Чечня, Карелия, Дагестан, Адыгея, Бурятия), участие в процедуре присяги высшего должностного лица субъекта РФ (во всех регионах, кроме Калининградской области, республик Тыва и Марий Эл), принятие регламента (только в Санкт-Петербурге регламент уставного суда принимает Законодательное Собрание, в чем видится ущемление самостоятельности суда).
Результаты
Как следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» не только не устанавливает исключительный перечень полномочий конституционных (уставных) судов, но и не имеет своей целью закрепить единообразный перечень таких полномочий, а только ориентирует регионального законодателя о примерных полномочиях таких судов, какими они могут быть наделены в случае их учреждения в субъекте РФ. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ, закрепленные в региональных Основных Законах, предлагается классифицировать в соответствии с объектами конституционного (уставного) контроля (абстрактный и конкретный конституционный контроль, превентивный конституционный контроль, разрешение споров о компетенции и осуществление удостоверительных контрольных полномочий, а также иные). Общей тенденцией развития конституционных (уставных) судов в последние годы стало расширение компетенции этих судов. Однако в ряде случаев произошло определенное сужение полномочий. Во многом это объясняется причинами приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным правом (например, исключение из числа объектов контроля международных договоров субъектов РФ, проверки конституционности деятельности политических партий, дачи заключений о соответствии актов Федерации Основному закону субъекта РФ).
Выводы
Имеющиеся различия в объеме и способах закрепления компетенции вполне объяснимы в непохожих проблемах, которые имеются в конституционной практике регионов. Однако мера свободы субъектов РФ не безгранична и имеет свои рамки, очерченные в Конституции Российской Федерации и федеральном законодательстве. Поэтому конституционные (уставные) суды субъектов РФ в настоящий момент осуществляют полномочия, которые не вторгаются в компетенцию иных судов в сфере нормоконтроля и осуществления официального толкования конституций (уставов)
субъектов РФ, защите конституционных прав и свобод граждан, защите Основного Закона субъекта РФ и обеспечения его верховенства, разрешения споров о компетенции и ряд других полномочий, в которых отражается природа данных органов как органов конституционного (уставного) контроля.
Список литературы Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ
- Барнашов А.М., Митюков М.А. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-правовое исследование законодательства и судебной практики). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 405 с.
- Брежнев О.В. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы//Конституц. и муницип. право. 2002. №3. С. 14-15.
- Брежнев О.В. Институт конституционной жалобы в субъектах Российской Федерации: нормативные модели и практика их реализации//Конституц. и муницип. право. 2013. №9. С. 58-63.
- Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. М.: Альфа-М, 2006. 240 с.
- Зыкова И.В. Определение полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации//Рос. юстиция. 2012. №10. С. 44-48.
- Иванин А.А., Павликов С.Г. Обеспечение законности в деятельности исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации с участием конституционных (уставных) судов//Конституц. и муницип. право. 2007. №22. С. 21-26.
- Казанцев А.О. Некоторые вопросы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации//Конституц. и муницип. право. 2012. №4. С. 63-66.
- Конституционный судебный процесс/отв. ред. М.С. Саликов. М.: Норма. 2003. 416 с.
- Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые основы и практика). М.: Формула права, 1999. 768 с.
- Несмеянова С.Э. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации: Проблемы теории и практики. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2004. 278 с.
- Несмеянова С.Э. Конституционное судопроизводство: возможна ли инстанционность//Рос. юрид. журнал. 2013. №4. С. 66-71.
- Об Уставном Суде Калининградской области: закон Калинингр. области от 2 окт. 2000 г. №247 (ред. от 22.12.2009)//Дмитрий Донской. 2000. 14, 21, 28 окт.
- Об Уставном Суде Санкт-Петербурга: закон С.-Петербурга от 5 июня 2000 г. №241-21 (ред. от 23.04.2014)//Новое в законодательстве Санкт-Петербурга. 2000. 28 июня.
- Об Уставном Суде Свердловской области: обл. закон от 6 мая 1997 г. №29-ОЗ (ред. от 06.02.2014)//Собр. законодательства Свердл. области. 1997. №5, ст. 930.
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданки Кулешовой Людмилы Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями Законов Санкт-Петербурга от 27 мая 2005 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "Об Уставном суде Санкт-Петербурга", от 2 июня 2005 года "О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга", от 12 июля 2005 года "О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга" и от 29 сентября 2005 года "Об официальном толковании положений пунктов 1, 3, 4 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга "Об Уставном суде Санкт-Петербурга": Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 года №522-О» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2006. №2.
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Половцева Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 50 и 79 Устава Санкт-Петербурга, статей 15, 18, 20, 29, 30 и 37 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», а также отдельными положениями Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»: определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 2 февр. 2006 года №20-О//[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сорокина Юрия Павловича на нарушение его конституционных прав положением пункта 5 статьи 50 Устава Санкт-Петербурга: определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 21 апр. 2011 г. №511-О-О//[Электронный ресурс] Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- О Конституционном Суде Республики Адыгея: Закон Республики Адыгея от 17 июня 1996 г. №11 (ред. от 04.04.2013)//Ведомости ГС -Хасэ Республики Адыгея. 1996. 22 мая.
- О Конституционном Суде Республики Башкортостан: Закон Республики Башкортостан от 27 окт. 1992 г. №ВС-13/7 (ред. от 14.07.2010)//Известия Башкортостана. 1997. 29 янв.
- О Конституционном Суде Республики Бурятия: Закон Республики Бурятия от 25 окт. 1994 г. №42-I (ред. от 13.12.2013)//Бурятия. 1994. 13 нояб.
- О Конституционном Суде Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 2 февр. 2010 г. №8 (ред. от 30.02.2013)//Дагестан. правда. 2010. 5 февр.
- О Конституционном Суде Республики Ингушетия: Конституц. закон Республики Ингушетия от 28 дек. 2001 г. №10-РКЗ (ред. от 09.04.2013)//Ингушетия. 2002. 16 янв.
- О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики: Закон Кабардино-Балкар. Респ. от 12 дек. 1997 г. №38-РЗ (ред. от 19.02.2013)//Кабардино-Балкар. правда. 1997. 23-25 дек.
- О Конституционном Суде Республики Карелия: Закон Респ. Карелия от 7 июля 2004 г. №790-ЗРК (ред. от 07.06.2013)//Карелия. 2004. 10 июля.
- О Конституционном Суде Республики Коми: Закон Респ. Коми от 31 окт. 1994 г. №7-РЗ (ред. от 17.12.2013)//Ведомости Верхов. Совета Респ. Коми. 1994. №11, ст. 160.
- О Конституционном Суде Республики Марий Эл: Закон Респ. Марий Эл от 11 марта 1997 г. №14-З (ред. от 23.10.2013)//Марийская правда. 1997. 19 марта.
- О Конституционном Суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве: Конституц. закон Респ. Саха (Якутия) от 15 июня 2002 г. 16-з №363-II (ред. от 05.12.2013)//Якут. ведомости. 2002. 3 июля.
- О Конституционном Суде Республики Северная Осетия-Алания: Закон Респ. Северная Осетия-Алания от 15 июня 2001 г. №17-РЗ (ред. от 14.07.2011)//Северная Осетия. 2001. 15 июля.
- О Конституционном Суде Республики Татарстан: Закон Респ. Татарстан от 22 дек. 1992 г. №1708-XII (ред. от 03.12.2009)//Респ. Татарстан. 1998. 28 нояб.
- О Конституционном Суде Республики Тыва: Конституц. закон Респ. Тыва от 4 янв. 2003 г. №1300 ВХ-1 (ред. от 14.01.2014)//Тувин. правда. 2002. 14 янв.
- О Конституционном Суде Чеченской Республики: Конституц. Закон Чечен. Респ. от 24 мая 2006 г. №2-РКЗ (ред. от 31.12.2010)//Вести Республики. 2006. 30 мая.
- По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации: постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 11 апр. 2000 г. №6-П//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. №16, ст. 1774.
- По делу о толковании норм Конституции Республики Саха (Якутия) о конституционных законах: постановление Конституц. Суда Респ. Саха (Якутия) от 16 янв. 1995 г. №2-П//Саха Сирэ. 1995. 20 янв.
- По делу о проверке соответствия Уставу Санкт-Петербурга положений статьи 79 Закона Санкт-Петербурга от 24 мая 2000 года № 241-21 «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» по жалобе гражданина Юрия Павловича Сорокина и по жалобе гражданина Игоря Николаевича Половцева: постановление Уставного Суда Санкт-Петербурга от 20 окт. 2004 г. №101-113-П//С.-Петерб. ведомости. 2004. №209.
- По запросам Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»: определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 6 марта 2003 г. №103-О//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. №17, ст. 1658.
- Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №1, ст. 1
- Устав (Основной Закон) Калининградской области: закон Калинингр. обл. от 18 янв. 1996 г. №30 (ред. от 25.04.2013)//Янтарный край. 1996. №20.
- Favoreu L., Philip L. Les grandes decisions du Conseil constitutionnel. Paris, 1986. 778 p.
- Garlicky L. Sadownictwo konstitucyjne w Europe Zachodnief. Warsawa, 1987. P. 334.