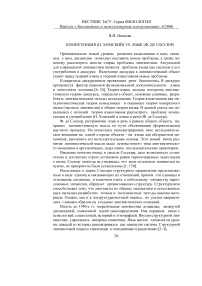Компетенция (Н. Хомский) vs. Язык (Ф. де Соссюр)
Автор: Иванова Валентина Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 6, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120416
IDR: 146120416
Текст статьи Компетенция (Н. Хомский) vs. Язык (Ф. де Соссюр)
КОМПЕТЕНЦИЯ (Н. ХОМСКИЙ) VS. ЯЗЫК (Ф. ДЕ СОССЮР)
Принципиально новый уровень развития языкознания и всех, смежных с ним, дисциплин позволяет поставить новые проблемы, а также по-новому рассмотреть многие старые проблемы лингвистики. Актуальной для современной лингвистики является проблема языка как системы и его употребления в дискурсе. Включение дискурса в лингвистический объект ставит перед теорией языка и теорией языкознания новые проблемы.
Конкретные дискурсивные проявления речи бесконечны. В дискурсе проявляется фактор взаимной функциональной дополнительности языка и интеллекта человека [6: 24]. Теория языка должна построить лингвистическую теорию дискурса, определить объект, основные единицы, разработать лингвистические методы исследования. Теория языкознания как металингвистическая теория осмысливает и оценивает теории конкретного языка (частных лингвистик) и общие теории языка. В данной статье мы попытаемся с позиций теории языкознания рассмотреть проблему компетенции и употребления (Н. Хомский) и языка и речи (Ф. де Соссюр).
Ф. де Соссюр, разграничив язык и речь в рамках общего объекта, направил лингвистическую мысль по пути объективации (формализации) научного процесса. Он попытался сконцентрировать свое исследовательское внимание на одной стороне объекта – на языке как абстрактном механизме, вычленить его интеллектуальные основы. Этот новый виток развития лингвистической мысли задал основы нового типа лингвистического мышления и аргументации, задал смену исследовательских ориентиров.
Введение понятия языка, в смысле Соссюра, дало возможность сознательно и достаточно строго установить рамки первоочередных задач науки о языке. Соссюр никогда не утверждал, что всем остальным заниматься не нужно, но приоритеты были установлены [1: 150].
Восходящее к идеям Соссюра структурное направление представляет язык в виде единиц и связывающих их отношений, причем эти единицы и отношения, сводимые, в конечном счете, к небольшому множеству неразложимых элементов, образуют организованную структуру. Структурализм способствовал тому, что лингвисты по образцу математики и естественных наук пытались разработать точные и эксплицитные методы анализа материала. Однако, как и в доструктуралистский период, их усилия направлялись главным образом на создание лингвистических описаний.
Вплоть до 1950-х гг. теоретическая лингвистика оставалась замкнутой дисциплиной, охваченной идеей самоопределения. Она порывала связи с психологией, социологией, историей и этнографией. Внутри структурной лингвистики ущемлялись интересы семиотики. Язык жестко членился на уровни, каждый из которых рассматривался как замкнутая система. Структурной лингвистикой владело стремление к отъединению и разделению [2: 4].
-
Н. Хомский четко сформулировал задачи теории языка, предложив перейти от практики строгих и точных описаний материала в виде списков единиц и связывающих их отношений к решению объяснительных задач – обнаружению законов, лежащих в основе устройства любого естественного языка. Хомский исходит из предположения, что бесконечное разнообразие языков подчиняется неким общим закономерностям, лежащим в их основе, – лингвистическим универсалиям.
С именем Н. Хомского связана не только определенная лингвистическая теория – порождающая грамматика, но и переворот во взглядах на изучение языка – переход от преимущественно описательной методологии к методологии объяснительной, т.е. ориентированной на теорию (см. анализ концепции и библиографию [1; 3; 4; 7]).
Хомский показал, что использование формально строгих понятий и математических моделей при исследовании грамматики не только повышает качество, полноту и эмпирическую проверяемость описаний, но формальное моделирование выявляет те фундаментальные принципы строения языка, которые часто остаются незамеченными в интуитивном описании. В «Аспектах теории синтаксиса» [8] Хомский ввел важные понятия компетенции и употребления, оба понятия связаны с носителем языка.
«Лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с идеальным говоря-щим-слушающим, существующим в совершенно однородной речевой общности, который знает свой язык в совершенстве и не зависит от таких грамматически несущественных условий, как ограничения памяти, рассеянность, перемена внимания и интереса, ошибки (случайные или закономерные) в применении своего знания языка при его реальном употреблении. Мне представляется, что именно такова была позиция основателей современной общей лингвистики, и для ее пересмотра не было предложено никаких убедительных оснований» [8: 9]. «Задачей лингвиста, также как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении» [Op. cit.: 10].
Одним из основных умений, свойственных носителю любого языка, является умение отличать правильные предложения, сочетания слов от неправильных. Способность носителя языка отличать правильные предложения от неправильных, а также понимать значения предложений, Хомский называет компетенцией носителя языка. Модель этой компетенции, по Хомскому, и есть грамматика языка. Способность людей порождать и понимать предложения, которые они никогда раньше не слышали и не читали, Хомский рассматривает как одно из проявлений творческого аспекта языковой способности. Грамматика является моделью языковой компетенции – способности порождать правильные предложения на родном языке и отличать правильные предложения от неправильных.
У человека есть и другая способность – способность применять свое знание в реальной ситуации общения, т.е. выбирать языковые средства, которые соответствуют этой ситуации, соотносить процесс речи с процес- сом мышления и т.д. Эту способность, точнее, ряд способностей Хомский называет употреблением. Изучение употребления – особая задача, от которой Хомский последовательно отвлекается. Построение моделей употребления представляет собой отдельную исследовательскую задачу.
Лишь в случае идеального говорящего-слушающего употребление является непосредственным отражением компетенции. «Грамматика языка стремится к тому, чтобы быть описанием компетенции, присущей идеальному говорящему-слушающему» [8: 10].
Хомский подчеркивает, что вводимое им противопоставление компетенции и употребления связано с соссюровским противопоставлением языка и речи. Но он считает, что необходимо отвергнуть соссюровскую концепцию языка как только систематического инвентаря единиц и вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов [Op. cit.: 14]. По этому поводу уместно привести размышления В.М. Алпатова о соотношении теории и метода. Теория сос-сюрианства была достаточно ограниченной. Но ограничение теории давало возможность развивать структурные методы изучения языка. Для развития науки нужны и теория, и исследовательские методы. Метод без теории или с бедной теорией приводит либо к чистой игре, либо к «преклонению перед фактом». Но теория без метода оказывается красивым сооружением, которым любуются, но которое не знают, как использовать. Типичный пример – богатая идеями теория Гумбольдта [1: 152].
Генеративная грамматика характеризует компетенцию носителя языка на метаязыке формальной грамматики. Правилами формальной грамматики порождаются все те, и только те грамматические структуры, которые лежат в основе грамматически правильных предложений естественного языка. В результате моделируется способность говорящего судить о правильности, многозначности и синонимии предложений. Поскольку эти способности можно применить к неизвестным ранее выражениям, то они могут быть представлены в виде некоего вычислительного механизма, а не просто конечного списка. Однако истинная цель порождающей грамматики – не создать машину для грамматического описания, а эксплицировать само понятие грамматики естественного языка (см. [7: 507]).
Как отмечает В. М.Алпатов [1: 350], термин «порождение» иногда вводит в заблуждение, поскольку может пониматься в смысле того, что Хомский претендует на рассмотрение реальных процессов порождения предложений у говорящих. Эта грамматика не рассматривает вопросы анализа и синтеза высказываний. Но, как считает В.М.Алпатов, сам термин и связанная с ним метафора не случайны. И говорящий, и «понимающий» игнорировались в большинстве структурных концепций, а здесь сложные и изощренные формальные построения, продолжавшие традиции поздних дескриптивистов, получают опору в деятельности носителя языка и в его интуиции [Op. cit.: 351].
Основная цель исследования языка, как она понимается в порождающей грамматике, заключается в том, чтобы построить теоретическую модель знания языка. Знание языка – это умение строить правильные репрезентации из звуков и значений и устанавливать правильные отношения между ними. Порождающая грамматика исходит из гипотезы о том, что звук и значение связаны друг с другом не непосредственно, а через посредство синтаксической репрезентации. Синтаксис имеет дело со структурными представлениями (репрезентациями) предложений. Синтаксический компонент грамматики состоит из механизмов и принципов, которые определяют способы построения синтаксических репрезентаций. Фонологический и семантический компоненты рассматриваются как интерпретирующие в том смысле, что они приписывают семантические и фонологические репрезентации тем синтаксическим репрезентациям, которые поступают на вход. Синтаксический компонент является порождающим в том смысле, что он задает синтаксические репрезентации, которые затем интерпретируются семантическим и фонологическим компонентами [7: 512].
На ранних этапах порождающей грамматики для характеристики грамматически правильных предложений использовался механизм порождения, когда с помощью некоторых правил, применяемых к начальному нетерминальному символу S, выводились все те и только те цепочки, которые являются правильными предложениями естественного языка. В последних вариантах порождающей грамматики порождение выглядит как процесс «сборки» правильных предложений из единиц словаря. Такие описания не следует рассматривать как модели реального порождения предложений говорящим, т.е. производства речи. Это всего лишь заимствованные из математики способы задания множества элементов, и их сходство с реальными механизмами «порождения» высказываний – чисто метафорическое («генеративная метафора») [Op. cit.: 507].
Попытка Хомского и его последователей создать теорию грамматики привела к обнаружению множества новых фактов первостепенного значения, и как следствие, – к революционным изменениям в синтаксической науке. Конструкции «стандартной», «расширенной стандартной теории», «теории принципов и параметров», «минимализма» – это попытки теоретического осмысления этих фактов [Op. cit.: 655]. Динамика концепции Н. Хомского рассмотрена в [4].
Основной проблемой современного генеративизма является то, что анализ структуры предложения стал основываться не столько на наблюдаемых распределениях классов составляющих, сколько на сумме абстрактных гипотез об устройстве синтаксической структуры. Рамки минималистской теории оказываются настолько широкими, что в них может поместиться любой материал, виду чего принципиальное для Хомского противопоставление теории и метода практически сходит на нет [7: 656].
По Хомскому, ребенок не в состоянии усвоить язык, устройство которого противоречит врожденному компоненту. Поэтому универсалии, с которыми имеет дело порождающая грамматика, в принципе не могут иметь исключений. Если в каком-то языке обнаруживается факт, противоречащий какому-либо принципу универсальной грамматики, то генеративисты либо пересматривают принцип, либо интерпретируют обнаруженный факт таким образом, чтобы устранить противоречие.
Следует подчеркнуть, что генеративисты имеют дело с абстрактным, идеализированным «говорящим» и что те механизмы, которые относятся к сфере «употребления», а не «компетенции», согласно Хомскому, не имеют отношения к мышлению и, следовательно, к знанию языка. Это позволяет нам сделать вывод, что порождающая грамматика – это теория реализации языка-системы, но не теория использования рече-языковых образований в дискурсе (см. [5]).
В работе «Язык и мышление» Хомский критикует Соссюра и его последователей за мнение о том, что «процессы образования предложений вовсе не принадлежат системе языка» [9: 31]. Именно этим процессам, по словам Хомского, отведено центральное место в его теории.
Хомскому чужда проблематика функционирования высказываний в диалоге. В его модели идеальный говорящий-слушающий никак не взаимодействует с другими «аналогичными особям» [1: 357]. В этом смысле концепцию Хомского можно считать «редукционистской», по аналогии с тем, как это сделано в отношении концепции Соссюра. Но это «редукционизм» на другом уровне анализа. У Хомского нет интереса к изучению структур, более протяженных, чем предложение.
Хотя разграничение компетенции и употребления не тождественно разграничению языка и речи, а компетенция охватывает более широкий круг явлений, чем язык у Соссюра, но все же рамки компетенции ограничивают область лингвистики [1: 359].
Безусловно, программа новой лингвистики была во многом Хомским лишь декларирована, а ограничений по-прежнему осталось довольно много. Как отмечено в [3: 15], генеративная грамматика занимается изучением языкового аппарата, который позволяет ребенку к пяти годам усвоить родной язык. Вопросы функционирования этого аппарата отдаются другим областям лингвистики. Автор приводит такую аналогию: одни науки занимаются способностью птиц летать, другие – конкретными особенностями их полета; генеративная лингвистика соответствует первым наукам. При этом науки другого типа опираются на науки, аналогичные генеративной лингвистике. То есть, Хомский лишь напомнил о существовании вопроса «как функционирует язык?» и выдвинул некоторые гипотезы, но направление, им основанное, обратилось к изучению того же вопроса «Как устроен язык?», на котором сосредоточились структуралисты, хотя на другом уровне [1: 360].
Однако благодаря «хомскианской революции» произошли изменения во всей науке о языке, ограничения, «наложенные на несколько десятилетий Соссюром», были сняты [1: 361].
Несмотря на всю абстрактность конструкций последних вариантов порождающей грамматики, эта теория занимает одно из ведущих мест в рамках новой лингвистической парадигмы, потому что всё новые и новые выдвигаемые конструкции – не более чем способ приблизиться к решению философских вопросов – «что собой представляет человеческое мышление?» [7: 662]. Как справедливо заметил Я.Г. Тестелец, даже если взгляды Хомского на природу языка и задачи лингвистической теории будут отвергнуты лингвистикой XXI века, предпринятая им первая и грандиозная по масштабам и интеллектуальной глубине попытка создания такой теории ни в каком случае не будет просто отброшена [Op. cit.: 663], так же как не отброшены идеи великого щвейцарца.