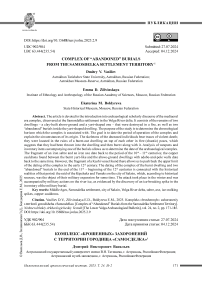Комплекс «брошенных» захоронений с территории городища «Самосделка»
Автор: Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д., Болдырева Е.М.
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Публикации
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена введению в научный оборот сложного комплекса эпохи Средневековья, обнаруженного на городище «Самосделка» в дельте Волги. Он представляет собой остатки двух жилищ – глинобитного наземного и юртообразного, погибших в огне, и два непреднамеренных («брошенных») захоронения внутри юртообразного жилища. Цель работы – уточнение хронологического горизонта, с которым связан комплекс. Задачи – определение периода функционирования комплекса и объяснение обстоятельств его возникновения. Костяки покойных несут на себе следы насильственной смерти, они располагались в завалах сгоревшего жилища один поверх другого в свободных (случайных) позах, что предполагает забрасывание их в жилище с последующим сожжением вместе с постройкой. Анализ предметов вооружения и инвентаря, сопровождавших одно из захоронений, позволяет конкретизировать дату археологизации комплекса. Обломок сабли и топора из железа датируется периодом X–XI вв., этим же временем датируются медные котлы, обнаруженные между сгоревшими жилищами – юртообразным и наземным с глинобитно-жердевыми стенами. Однако найденный здесь же фрагмент кашинного сосуда позволяет отодвинуть верхнюю границу датировки комплекса в начало XII века. Интерпретация комплекса в составе сгоревшего жилища и двух «брошенных» захоронений, относящихся к концу XI – началу XII в., приводится в соответствии с канвой исторических событий этого периода и связывается с набегом кыпчаков и йемеков на город Саксин, который, как свидетельствуют письменные источники, являлся некоторое время объектом их военной экспансии. Нападение произошло зимой и сопровождалось боевыми действиями на льду реки, на что указывает находка ледоходного шипа в составе инвентаря воинского захоронения.
Средневековье, городище «Самосделка», город Саксин, дельта Волги, сабля, топор, ледоходные шипы, медные котлы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148410
IDR: 149148410 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.2.9
Текст научной статьи Комплекс «брошенных» захоронений с территории городища «Самосделка»
ПУБЛИКАЦИИ
DOI:
Цитирование. Васильев Д. В., Зиливинская Э. Д., Болдырева Е. М., 2025. Комплекс «брошенных» захоронений с территории городища «Самосделка» // Нижневолжский археологический вестник. Т. 24, № 2. С. 171–185. DOI:
Городище «Самосделка» располагается в Камызякском районе Астраханской области, в западной части дельты Волги. Основная часть памятника (которую занимает собственно городище) находится на современном правом берегу реки Старой Волги (Бирюль), точнее – на древнем острове, окруженном со всех сторон пересохшими ныне протоками. Помимо этого, к городищу примыкают Правобережное и Левобережное селища – сопутствующие ему неукрепленные поселения. Памятник изучается раскопками с 2000 года. За это время в правобережной части городища было заложено три раскопа, которые показали наличие здесь многослойных отложений мощностью до трех метров, из-за чего островная часть представляет собой невысокую возвышенность, выделяющуюся на фоне окружающей равнины. Хронология комплекса в настоящий момент воссоздается следующим образом. Начало активного обживания островной части памятника относится к IX–X векам. За- тухание жизни на городище связано с затоплением его водами поднявшегося Каспия и разлившейся Волги в середине XIV столетия. Однако наиболее верхние слои в островной части обусловлены строительством здесь в XVIII в. рыбзавода «Образцовая ватага», давшего начало селу Самосделка, а также с повторным затоплением острова вследствие подъема уровня Каспийского моря в XIX столетии. Правобережное селище, примыкающее к городищу с юга и юго-востока, датируется XII в., Левобережное селище существовало параллельно с наиболее ранним островным поселением и было затоплено подъемом Каспия в X веке [Васильев, 2018; Варущенко и др., 1987, с. 116, рис. 22, с. 117, табл. 16].
В настоящее время слои второй половины XI – XIV в. на городище интерпретируются как остатки города Саксина, который служил ключевым перевалочным пунктом на Волго-Каспийском торговом пути. Более ранние слои IX–X вв., связанные с хазарским периодом истории, еще ждут своей интерпретации.
Основным письменным источником по истории города и области Саксин на настоящий момент остаются сочинения Абу Хамида ал-Гарнати [Путешествие ... , 1971], в которых в концентрированной форме содержатся яркие и точные свидетельства, касающиеся географического положения города, его населения, этнографические подробности жизни города и быта горожан. Дополнительные сведения о городе Саксине мы можем почерпнуть из сочинения Наджиба Хамадани «Ад-жаиб ал-махлукат ва гараиб ал-моуджудат», которая не переведена на русский язык, но нами используется в интерпретации С.Г. Агад-жанова [Агаджанов, 1969].
Одну из основных сложностей в изучении памятника составляет выделение четких горизонтов в стратиграфии раскопов на городище, которые могли бы послужить реперными уровнями для относительной хронологии. Так, в верхних слоях городища был выделен уровень, связанный с монгольским нашествием. Он представляет собой мощный слой пожара, сопровождавшийся многочисленными находками обугленных костей животных и человека, а также санитарными захоронениями и непогребенными скелетами погибших жителей города. Этот слой на всех раскопах располагается на уровне 3–4 пластов. Ниже, на уровне 10–11 пластов, на раскопах 1 и 2 прослежен второй слой сплошного пожара, сопровождавшегося разрушением многочисленных турлучных и юртообразных построек на городище. До сих пор четких хронологических маркеров для датировки этого четкого уровня обнаружить и интерпретировать не удавалось.
В 2017 г. в ходе исследований на городище «Самосделка» отрядом Нижневолжской археологической экспедиции под руководством Е.М. Болдыревой проводилось изучение слоев домонгольского времени на раскопе 2, который располагается в правобережной части памятника. Раскоп был заложен в 2006 г. на южном склоне островной возвышенности для поиска остатков городской фортификации и несколько раз продлевался в южном направлении. В настоящий момент его длина составляет 60 м при ширине 12 м. В ходе работ око- ло западного борта раскопа были исследованы юртообразное сооружение № 64 и остатки сгоревшего наземного прямоугольного жилища с турлучными стенами № 57А, которые располагались к югу от предполагаемой кирпичной крепостной стены, а также два непреднамеренных («брошенных») захоронения, возникших в результате событий, связанных с военным нападением на город Саксин 2 [Болдырева, 2018]. Мы попытаемся определить время этого нападения и кем оно было совершено. Следы пожара и скелеты погибших жителей города отмечаются на данном уровне как на раскопе 2, так и на раскопе 1, поэтому датировка этого события позволит получить реперный горизонт для уточнения внутренней хронологии городища.
Наиболее ранним объектом в комплексе являлось сооружение № 64 . Оно располагается в юго-западной части раскопа 2 на уровне условного 11-го пласта (рис. 1, 2). Объект представляет собой округлый котлован диаметром около 350 см. Северо-восточная граница была разрушена юртообразным сооружением, а южная половина – ямой, которая возникла позднее. Глубина котлована – от 69 до 107 см. Стенки котлована отвесные, дно плоское. Заполнение котлована, которое отразилось в профиле западного борта раскопа, состоит из слоев, соответствующих гибели сооружения в огне пожара. Перекрыт профиль слоем золы серого цвета с углями, ниже залегает слой твердой серой супеси с золой, обломками кирпича и керамикой в заполнении, а под ним – две аналогичные линзы золистой пахсы комковатой структуры желтого цвета с углями и обожженной глиной в заполнении. Они накрывают прослойку слоистой серой золы с углями, лежащую на дне котлована [Болдырева, 2018].
В центре котлована было выявлено погребение 12, а непосредственно под ним – погребение 14 (рис. 2, 3А, Б, В). Описание погребений приводится ниже. Индивидуальных находок в основном объеме сооружения зафиксировано не было, оно датируется по предметам, обнаруженным в погребении 14. Еще один интересный комплекс находок был выявлен около юго-восточной стенки сооружения. Здесь, в округлой яме диаметром до одного метра, имевшей отвесные стенки и плоское дно, были обнаружены три вставленных друг в друга медных цилиндрических котла (рис. 1, 5) с плоскими донцами, медными петлевидными приклепанными ушками и железными ручками. Поверх котлов зафиксированы остатки деревянной крышки.
Принадлежность ямы с котлами в качестве конструктивной особенности котлована сооружения № 64 достоверно не установлена. Она вполне могла являться нишей-кладовкой в юго-восточной стенке сооружения, но могла также быть впущена в нее уже после разрушения сооружения № 64. В отчете эти котлы описаны как «располагающиеся у западной стены сооружения № 57А» [Болдырева, 2018].
Сооружение № 57А расположено непосредственно к востоку от сооружения № 64 на уровне 10-го пласта, то есть его общий уровень располагается на 20 см выше, и, соответственно, существовало позже сооружения № 64 (рис. 1,2). Сооружение образовано массивом двух расплывшихся сгоревших стен (западной и северной), стоящих на слое серо-зеленого песка с угольками. По периметру вдоль границы стены был прослежен слой пестрой рыхлой горелой глины с углями высотой до 10 см. Этот слой представляет собой следы оползания сгоревших конструкций сооружения. В границах этой части сооружения была расчищена 31 столбовая или жердевая яма, которые имеют отношение к конструкции западной стены сооружения. Столбовые ямы являются частью конструкции северной стены помещения сооружения. Большая часть жердевых ям располагается в две линии у С – З края стены сооружения, а столбовые сосредоточены в местах наибольшей точки изгиба стены. Уровень пола сооружения отмечает лежащая на полу крышка лепного сосуда, расчищенная на уровне –266 см. Заполнение сооружения состоит из двух основных слоев. Верхняя часть была перекрыта слоем рыхлой серой супеси с золой и углями. В основании заполнения расположен слой пестрого рыхлого турлука с углями толщиной до 15,5 см. В целом заполнение отражает этапы жизни сооружения, которое было повреждено пожаром и засыпано после частичного разрушения. Анализ показывает, что сооружение № 57А являлось конструкцией с каркасными стена- ми из дерева, жердей, столбов и глины, сгоревшую в пожаре. Возможно, сооружение состояло из двух помещений. Крыша опиралась на столбы, а полы были частично выстелены деревянными досками. При выборке заполнения сооружения были обнаружены керамический шарик из печного припаса, пряслице керамическое, крышка лепная в виде плоского диска, венчик стеклянного сосуда, а также фрагмент горла кашинного сосуда с росписью люстром [Болдырева, 2018]. Судя по находкам, сооружение может датироваться в пределах конца XI – середины XII века.
Погребение 12 (рис. 3 ,А,Б ). Пятно могильной ямы не было прослежено, так как, возможно, она изначально отсутствовала. Костяк принадлежал взрослому мужчине 30–35 лет 3. Этот человек погиб насильственной смертью и был захоронен под завалами сооружения. Погребение окружено полуовальным в плане пятном слоя рыхлого пестрого горелого тур-лука с примесями углей и кирпичной крошкой. Костяк ориентирован по линии ЗСЗ – ВЮВ, головой обращен в западный сектор. Ноги согнуты в коленях и разведены в стороны. Малая берцовая кость левой ноги накрывает кости правой ступни. Правая рука лежит на тазовых костях, левая вытянута вдоль туловища и отведена в сторону. Череп запрокинут назад и повернут влево (лицом на С – З). На правой половине грудной клетки были расчищены обломки железного предмета длиной около 10 см и шириной 3–4 см, который был полностью съеден коррозией и рассыпался после расчистки. Наиболее вероятная предварительная датировка захоронения, принятая в ходе исследований по окружающему контексту, – вторая половина XI века. В процессе расчистки погребения 12 под костями ног был выявлен череп еще одного костяка, который получил обозначение «погребение 14». Для расчистки погребения 14 погребение 12 было полностью удалено.
Погребение 14 (рис. 3, А, В ) также не имело могильной ямы, так как было совершено в контексте заполнения сооружения № 64 ниже погребения 12. В завале были расчищены обломки обожженных кирпичей. Костяк принадлежал взрослому мужчине в возрасте 20–23 лет. Он был ориентирован головой на Ю – В и лежал на спине в случайной позе.
Кисть правой руки располагалась на тазовых костях, левая рука отведена от туловища и согнута в локте вверх под углом 90°. Ноги согнуты в тазобедренных суставах и направлены влево от туловища. Правая нога вытянута прямо, а левая немного согнута в колене. Стопы обращены влево и ориентированы на Ю – З. Под правой рукой погребенного лежал массивный комок окислов от железного предмета, который, как стало ясно после реставрации, представлял собой фрагментированные парно-овальные ледоходные шипы (возможно, что покойный изначально держал в руке сапог с привязанным к подошве ледоходным устройством). Под правой бедренной костью был расчищен сильно окисленный железный топор, ниже и перпендикулярно берцовым костям располагались сильнокорроди-рованные остатки железной сабли. Затылочная кость погребенного была пробита сзади, в отверстии был зафиксирован обломок железного гвоздя (или железного наконечника стрелы?) квадратного сечения и плохой сохранности. Под костями грудной клетки был расчищен небольшой фрагмент стенки кашин-ного сосуда с бирюзовой глазурью, несущий следы пребывания в огне (оплавленный в результате повторного обжига в пожаре).
Итак, перед нами два непреднамеренных погребения, над которыми не производились ритуальные действия. Погребения возникли случайным образом, одновременно, вероятно, в ходе боевых действий. Тела покойных были брошены в горящее сооружение № 64. Возможно, оно было подожжено после забрасывания туда трупов убитых. О том, что это было именно забрасывание, а не укладывание, нам говорят свободные, случайные позы покойных. О том, что имел место факт пожара, свидетельствуют, во-первых, следы горелого турлука и мощный прокал вокруг скелетов, а также следы горения на костях. Кости частично кальцинированы, что является результатом длительного пребывания тел в открытом огне и в тлеющих углях.
Основные датирующие находки, которые позволяют определить время возникновения комплекса, – это металлические предметы (сабля, топор, ледоходные шипы, котлы), а также фрагмент кашинного сосуда.
Топор железный (рис. 4, В ). Длина изделия – 17,5 см [Болдырева, 2018, рис. 528]. Предмет относится к типу VI по А.Н. Кирпичникову [Кирпичников, 1966, табл. XVI, 7 ]. Тип его определяется как «бородовидный» – с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых щекавиц и удлиненным вырезным обухом. Подобный топор мог использоваться как в работе, так и в качестве оружия. Древнейший рабочий топор описанного типа найден в Гнездовском кладе, который датируется периодом около 1000 г., позднейшие – в костромских курганах XII–XIII веков. В XI–XII вв. эти топоры (в разных видоизменениях) довольно широко распространены в Восточной Европе [Кирпичников, 1966, с. 75]. Таким образом, топор подобного типа мы можем датировать концом X – XII веками.
Сабля железная (рис. 4, А ), точнее, обломок сабли из двух фрагментов общей длиной 52 см со следами заточки [Болдырева, 2018, рис. 527]. Вероятно, концевой участок лезвия был утрачен еще в ходе боевых действий интересующего нас периода жизни городища. Лезвие слабоизогнуто, хвостовик рукояти имеет небольшой наклон в сторону лезвия. Перекрестье цилиндрическое, узкое железное, напоминающее обойму. Согласно типологии Г.А. Федорова-Давыдова, такие сабли можно отнести к типу АI или АII – широкие слабоизогнутые, их аналогии встречаются в сал-товской культуре. На Руси X–XI вв. подобные сабли превратились, по словам Г.Ф. Корзухиной, в своеобразный гибрид сабли и меча. Имеются они в синхронных материалах Волжской Булгарии, Северного Кавказа и Венгрии [Федоров-Давыдов, 1966, с. 23, рис. 3]. Диапазон хождения сабель этого типа довольно широк – X–XIII века. Практически полную аналогию данному клинку мы можем найти в погребении 2 кургана 5 курганного могильника Скатовка [Гарустович, Иванов, 2001, с. 135]. Данный экземпляр по способу оформления гарды и погребальному обряду датируется XI–XII вв. и относится к половецкому кругу погребений [Харламов, 2017, с. 408, рис. 1, 2 ].
Ледоходные шипы (рис. 4,Б). Железные ледоходные шипы длиной 26 см и шириной 6,5 см являются уникальными в своем роде [Болдырева, 2018, рис. 467]. Подобная конст- рукция шипов встречена впервые, несмотря на то что сами по себе они распространены достаточно широко. Простейшие по конструкции ледоходные шипы в виде пирамидальных выступов, наклепанных на железную полоску с двумя загнутыми концами, довольно часто встречаются в золотоордынских древностях, причем имеются две разновидности – для человека (привязывались к пятке сапога) и лошади (вставлялись в прорези или вырезы на копыте) [Недашковский, 2000, с. 77–78, рис. 16, 17].
Кроме подобного рода шипов, на территории средневековой Руси (в частности, в Новгороде) известны находки прорезных овальных пластин с шипами и петлями для завязок. Специалист по древнерусскому рыболовству А.В. Куза отнес их к рыбопромысловому снаряжению [Куза, 2016, с. 85, рис. 18]. Известны они и в древностях Пскова [Салмина, 1995, рис. 1 ,5 ].
Самосдельские ледоходные шипы восьмеркообразной формы вполне дополняют известную типологию. К сожалению, хронологический диапазон хождения этих предметов установить невозможно из-за немногочисленности находок.
Медные котлы. Комплект медных котлов еще не публиковался (рис. 5), так как в настоящее время находится в процессе реставрации в мастерских Государственного исторического музея. Три котла, которые обнаружены вставленными последовательно друг в друга, предварительно можно отнести к типу М-1 по К.А. Руденко. Это изделия двух- или трехчастной сборки швами «в зубец» объемом от 3 до 5 л. Ушки маленькие, медные, венчик образован наложенной снаружи медной полосой шириной 1,5–2,5 см, закрепленной загнутым верхним краем стенки и заклепками. Дно плоское со следами выколотки. Датируется данный тип котлов IX–X – началом XI в. («доживают» до середины XI в.) [Руденко, 2000, с. 29, рис. 2 ,5 ].
Таким образом, металлические предметы в целом датируют возникновение комплекса «сооружение № 64 – сооружение № 57А – погребение 12 – погребение 14» периодом X– XII вв. с тяготением ко второй половине XI века. Однако у нас есть в наличии наиболее поздний датирующий элемент.
Фрагмент кашинной чаши, обнаруженный в ходе расчистки погребения 14, и фрагмент люстрового сосуда из сооружения № 57А позволяют датировать завершение формирования комплекса «сооружение № 64 – сооружение № 57А – погребение 12 – погребение 14» концом XI – началом XII века. Как считает Е.М. Болдырева, кашинная посуда появляется на городище с начала XII в., а немного раньше налаживается ее активное производство на Ближнем Востоке, в частности в Иране. Тонкостенные чаши с голубой поливой и тестом высокого качества вполне могут датироваться в пределах XI–XII в., поэтому кашин-ная посуда появляется в переходный период, в рамках выделенных этапов [Болдырева, 2016, с. 159].
Слой пожара, в котором погибло сооружение № 64 и с которым связано возникновение погребений 12 и 14, не является локальным для данного участка городища. Он прослежен на более северных участках раскопа 2 повсеместно на этом же уровне – с 10-го по 12-й пласт. Такой же слой прослеживается и на раскопе 1. Он отсекает ранний горизонт заселения, сформированный юртообразными турлучными жилищами, от среднего горизонта, который застроен преимущественно прямоугольными и квадратными сырцовыми домами, вписанными в регулярную уличную планировку. Очевидно, что город Саксин на рубеже XI и XII вв. пережил какой-то серьезный удар, который представлял серьезную угрозу самому его существованию.
Если привлечь письменные источники, мы обнаружим, что наиболее вероятная и очевидная опасность в этот исторический период для города Саксина и огузов, которые населяли его округу, исходила от кыпчаков. Первое свидетельство о переходе половцев через Волгу и появлении их в Европе относится к 1055 г. [ПСРЛ, 1926–1928, с. 162]. Согласно Наджибу Хамадани, персидскому автору XII столетия, Саксин страдал от набегов кыпчаков и йемеков [Агаджанов, 1969, с. 161–162].
Главный свидетель событий, происходивших в городе Саксине, Абу Хамид Ал-Гар-нати, в своем сочинении писал: «Замерзает эта река так, что становится как земля, ходят по ней лошади и телята, и всякий домашний скот. И на этом льду они сражаются». Река, кото- рую упоминает ал-Гарнати, соответствует одной из проток Волги [Путешествие ... , 1971, с. 28]. Топографический план окрестностей Самосдельского городища позволяет увидеть, что местность к северо-западу от городища представляет собой очень широкую речную долину, которая при более высоком уровне стояния воды превратилась бы в реку шириной около километра. В настоящее время по ней протекают ерик Воложка, который периодически затапливается водой, и полноводный ерик Коклюй (Сомовка) [Васильев, 2015]. Наличие в составе инвентаря погребения 14 ледоходных шипов свидетельствует о хронологическом отрезке, когда произошло военное нападение на город, – именно зима представляется наиболее вероятным периодом для боевых действий в дельте Волги, так как тогда замерзали протоки, окружавшие город со всех сторон и служившие ему оборонительными рубежами.
Таким образом, мы можем интерпретировать «брошенные» захоронения в сгоревших сооружениях, находящихся в слое тотального пожара на Самосдельском городище на уровне 10–11 пластов, в качестве следов относительно удачного кыпчакского набега на город Саксин, который состоялся в конце XI или в начале XII в. и послужил триггером для серьезных изменений в его этнической и социальной структуре. Суть этих изменений еще предстоит углубленно проанализировать в будущем. Возможно, что наличие военной угрозы привело к консолидации населения и услож- нению его социальной организации. Во всяком случае, облик Саксина, который реконструируется по материалам вышележащих слоев, преображается – из скопления турлучных и юртообразных построек он превращается в город с регулярной застройкой сооружениями из сырцового кирпича, в отделке которых используется также обожженный кирпич, с уличной планировкой, заданной мечетями. Именно XII столетие становится веком его расцвета. С археологической точки зрения мы получаем хорошо датированный горизонт, выше которого располагаются слои эпохи расцвета Саксина, ниже – слои постхазарского и хазарского периодов.