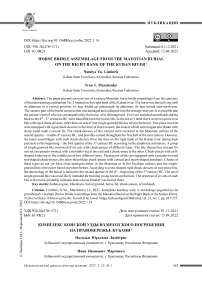Комплекс конской узды из Меотского погребения на правобережье Кубани
Автор: Лимберис Наталья Юрьевна, Марченко Иван Иванович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Публикации
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье публикуется уникальный меотский комплекс конской узды из могильника Старокорсунского городища № 2, расположенного на правом берегу р. Кубань. Лошадь была захоронена на животе с поджатыми ногами, мордой ориентирована на ВСВ. Восточная часть погребального сооружения обрушилась в водохранилище. Возможно, обвалилось и захоронение человека, которого сопровождала лошадь. Между ребер лошади были найдены два железных втульчатых наконечника стрел, которые датируются очень широко - VI-III вв. до н.э. В зубах лошади находились железные двусоставные удила со строгими насадками. Еще шесть комплектов железных одногрызловых удил лежали рядом с лошадью. Двусоставные железные удила были снабжены строгими насадками в виде коротких крестовин, концы которых раскованы в лопасти с острыми мелкими зубцами (вариант B). Насадки этого варианта фиксируются в меотской культуре со второй четверти - середины IV в. до н.э. и, возможно, бытуют всю первую половину следующего столетия. Однако самые поздние комплексы с такими насадками из памятников правобережья Кубани, твердо датированные по амфорной таре, не выходят за пределы начала - первой четверти III в. до н.э. Набор одногрызловых удил состоял из шести комплектов с псалиями разных типов. Сами удила (кроме одного комплекта) - ложновитые, с подвижным кольцом на одном конце и псалием на другом. Псалии с 8-образным расширением в средней части относятся к двум разным типам. Три пары удил снабжены стержневидными ложновитыми псалиями, три другие - лопастными псалиями с подвесками конической и луновидной формы. Псалии этих типов пока не имеют близких аналогий ни в меотской, ни в скифской культуре, а одногрызловые удила ранее нигде не встречались. По строгим крестовидным насадкам на двусоставных удилах хронология погребения ограничивается второй четвертью IV - началом III в. до н.э. Набор одногрызловых удил, скорее всего, предназначался для обучения молодых лошадей на корде. Наличие в захоронении шести комплектов таких удил, возможно, говорит о том, что здесь был похоронен объездчик лошадей.
Прикубанье, меоты, грунтовый могильник, лошадь, удила, псалии, наконечники стрел
Короткий адрес: https://sciup.org/149140594
IDR: 149140594 | УДК: 930.26(470+571) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.14
Текст научной статьи Комплекс конской узды из Меотского погребения на правобережье Кубани
ПУБЛИКАЦИИ
DOI:
Цитирование. Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2022. Комплекс конской узды из меотского погребения на правобережье Кубани // Нижневолжский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 267–275. DOI:
В Краснодарской группе меотских памятников IV–III вв. до н.э. погребения всадников с захоронениями лошадей и конской сбруей встречаются намного реже, чем в более западных районах (к примеру, Прикубанский могильник) и в Закубанье (Новолабинс-кий курган, Уляпские и Тенгинские могильники). В связи с этим большой интерес представляют находки конской узды, еще не введенные в научный оборот. Так случилось, что один комплекс, раскопанный нами 30 лет назад на могильнике Старокорсунского городища № 2, остался неопубликованным. Этот памятник, расположенный в 4 км к ВСВ от станицы Старокорсунской (Карасунский округ г. Краснодара), с 1987 г. исследуется Краснодарской экспедицией Кубанского госунивер-ситета. За десятилетия систематических раскопок здесь было открыто 1 052 погребения, хронологический диапазон которых охватывает весь период существования и развития меотской культуры на правобережье Кубани с рубежа VII–VI вв. до н.э. до III в. н.э.
В 1992 г. на восточном участке могильника на обрыве берега Краснодарского водохранилища было расчищено погребение лоша- ди № 223в (рис. 1,1). Могильная яма не прослеживалась, так как погребение было впущено в слой гумусированного суглинка. Восточная часть погребального сооружения обрушилась в водохранилище. Возможно, обвалилось и захоронение человека. Лошадь лежала на животе; от черепа сохранились лишь зубы, положение которых указывает на то, что мордой лошадь была ориентирована на ВЮВ. Задние ноги были поджаты под таз, передние подогнуты и повернуты влево. В зубах лошади находились железные двусоставные удила со строгими насадками. Отдельно, компактной кучкой (у левой передней ноги лошади), лежал набор из железных одногрызло-вых удил с псалиями. Между ребрами были расчищены два железных втульчатых наконечника стрел.
Двусоставные железные удила (рис. 1,3) были снабжены строгими насадками в виде коротких крестовин размерами 7,5 х 7,5 см, концы которых раскованы в лопасти с острыми мелкими зубцами. Такие насадки были выделены нами в вариант B [Лимберис, Марченко, 2019, с. 161]. Грызла удил гладкие, круглые в сечении. Перед внешними кольцами на грыз- лах имеются утолщения, не дававшие насадкам сдвигаться с места. С одной стороны удил сохранилось внешнее кольцо, которое не было до конца замкнуто. Внутреннее кольцо на втором грызле также не было замкнуто.
Набор одногрызловых удил состоял из шести комплектов с псалиями двух разных типов. Два одинаковых комплекта (рис. 1, 4,6,7 ) представлены удилами с перекрученным (ложновитым) грызлом, из прямоугольного в сечении стержня. Концы грызла гладкие, круглого сечения. Один конец образует замкнутое кольцо, в которое вставлялся псалий, второй расплющен и закручен вокруг плоского в сечении кольца, остающегося подвижным. Псалии в обоих комплектах – прямые, стержневидные, двудырчатые, с 8-видным расширением в центре, завершающиеся округлыми «шишечками». Стержни псалиев круглые в сечении, также перекрученные. Конец одного псалия плохо сохранился (рис. 1, 4 ). Длина удил с внутренним кольцом – 14,5 см, 16,5 см, длина грызла – 8,5 см, 8,7 см, диаметр внутреннего кольца удил – 2,7 см, диаметр внешнего подвижного кольца – 3,3 см, длина псалиев – 22,5 см.
Такой же стержневидный ложновитой (или крученый) псалий входил в состав третьего комплекта (рис. 1, 10 ). От удил сохранилось незамкнутое внутреннее кольцо с маленькой частью грызла. Длина псалия – 22,6 см.
Грызла удил из четвертого и пятого комплектов (рис. 1,8,9) также крученые, с подвижным кольцом на внешнем конце. Во внутреннее неподвижное кольцо вставлены псалии с широкими лопастями, развернутыми перпендикулярно плоскому 8-образному расширению. По одному краю лопастей имеются полукруглые вырезы, другой край – ровный, с железными подвесками в виде свернутых из тонких пластинок конусов и лунниц. На псалии из четвертого комплекта (рис. 1,8) к одной из лопастей через отверстия крепились три подвески, из которых сохранилась одна конусовидная, а от двух других в отверстиях остались петельки. К другой лопасти крепилась только одна конусовидная подвеска. К лопастям псалия из пятого комплекта с одной стороны были подвешены конус и лунница, с другой, судя по отверстиям, первоначально крепились три подвески, но сохранилась одна конусовидная (рис. 1,9). Длина грызла с внут- ренним кольцом – 14 см, без кольца – 8,7 см, диаметр внутреннего кольца – 3 см, диаметр внешнего подвижного кольца – 3,5 см, длина псалиев – 25,7 см.
Шестой подобный комплект (рис. 1, 5 ) отличается от предыдущих грызлом из гладкого, круглого в сечении стержня. Псалий двухлопастной, но лопасти более узкие, с нечеткими вырезами по одному краю. На лопастях – по одной конусовидной подвеске. Длина грызла с неподвижным кольцом – 14 см, длина псалия – 22,4 см.
Удила с ложновитыми грызлами в меот-ских памятниках встречаются очень редко. Нам известны лишь две находки из Закуба-нья. Из скопления 11 кургана 6 Уляпского некрополя происходят удила, у которых одно грызло – крученое, другое – гладкое. Этот комплекс датируется в пределах второй половины III в. до н.э. [Лесков и др., 2013, с. 62, рис. 63, 6 ] или даже рубежом III–II вв. до н.э. [Беглова, 2013, с. 70, рис. 5, 4 ]. Более поздние удила с подобными грызлами найдены в погребении № 137 Тенгинского грунтового могильника, которое включено исследователями в хронологическую группу конца III – первой половины II в. до н.э. [Беглова, Эрлих, 2018, с. 175, рис. 184, 7 ].
Немногочисленны и находки удил с кручеными грызлами в скифских памятниках. Так, А.Д. Могилов приводит несколько экземпляров середины V – начала III в. до н.э.: из кургана 6 у Старинской птицефабрики, кургана 11 группы Частых курганов, кургана 9 Ду-ровки (со строгими насадками варианта А ), а также кургана 29/21 Мастюгинской группы [Могилов, 2008, с. 120, 128, 132, 134, рис. 25, 7 , 35, 3 , 36, 2 , 81, 10,11 ].
Что касается стержневидных псалиев, то крученые экземпляры среди них единичны. Псалии с 8-видным расширением в центре и ложновитыми стержнями из погребения № 10 кургана Новолабинского городища IV отличаются от старокорсунских флажковыми окончаниями. Псалии встречены вместе с удилами, имеющими строгие насадки варианта B. В этом же комплексе найден пластинчатый орнаментированный нагрудник с бронзовой подвеской-лунницей [Раев, Беспалый, 2006, с. 14–16, табл. 12,1,2,4,6]. Это погребение мы датировали началом III в. до н.э., опираясь на заключение С.Ю. Монахова по хронологии амфоры неизвестного центра [Марченко, Лимберис, 2009, с. 71]. Гладкие стержневидные псалии с подобными флажковидными окончаниями известны в Пластуновском комплексе с пластинчатым бронзовым налобником типа 1 по нашей типологии. Комплекс в свое время был отнесен нами к последней четверти IV – началу III в. до н.э. [Марченко, Лимберис, 2009, с. 73, рис. 5,6].
Лопастным псалиям из Старокорсунс-кой также трудно найти близкую аналогию. Отдаленное сходство с ними имеет железный Г-образный псалий с лопастями «в виде стилизованных головок хищной птицы» из святилища кургана № 2 Тенгинского могильника, которое датируется второй половиной IV – началом III в. до н.э. [Эрлих, 2011, с. 55, 81, рис. 100, 4 ]. При этом средняя часть с отверстиями и лопастные окончания, как и у псали-ев из Старокорсунской, расположены в разных плоскостях. Более ранние бронзовые и серебряные S-видные двудырчатые псалии с узкими фигурными лопастями, выполненными в скифском зверином стиле, происходят из Уль-ского кургана № 2 1909 г. [Эрлих, 2015, с. 48, кат. 126, 127, табл. 9, 10].
Особенностью старокорсунских псалиев являются также подвески: конусовидные с ушками-петельками и в виде лунниц. Железные и бронзовые предметы конского снаряжения с подвесками в виде конусов и лунниц хорошо известны в разных (и не только меотских) памятниках, тогда как псалии с какими-либо подвесками до сих пор не встречались. Бронзовые конические подвески, правда, немного отличающиеся от старокорсунских, и лунницы служили дополнительным украшением нагрудников в конских захоронениях (погребение № 21 и ситуация 3) некрополя Новолабинского городища IV [Раев, Беспалый, 2006, с. 19–21, 40–41, табл. 19, 1–4 , 38, 1–5 ]. В первом случае они встречены с двумя налобниками типа 1 , во втором – с удилами, снабженными строгими насадками варианта D , широкая хронология которого в настоящее время может быть ограничена началом III – серединой II в. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2019, с. 168, 171]. Однако датировка обоих комплексов из Новолабин-ского могильника, по нашему мнению, вряд ли выходит за первую половину III в. до н.э.
Нагрудник с лунницами-подвесками был также найден в склепе 1 могильника № 2 Татарского городища на окраине г. Ставрополя. В комплект входили и три бронзовых пластинчатых налобника типа 1 . Хронология этого комплекса (IV – конец III – начало II в. до н.э.) довольно спорная, так как верхнюю дату авторы определяют по находкам родосских клейм из тризны [Кудрявцев и др., 2000, с. 42, 44, рис. 2].
Комплект из трех бронзовых пластинчатых налобников и нагрудника, украшенный подвесками с проволочными петельками на длинных перевитых стерженьках, происходит из погребения № 140 (ритуальный комплекс № 1) Тенгинского грунтового могильника. К нагруднику были подвешены девять конических подвесок и две лунницы. Аналогичный налобник с такими же коническими подвесками найден и в погребении № 158 этого же могильника. Оба комплекса исследователи включили в раннюю хронологическую группу конца III – начала II в. до н.э., ограничив их датировку по импортам первой половиной второго века [Беглова, Эрлих, 2018, с. 158–159, 175, рис. 186]. «Время сооружения» погребения № 140 отнесено ко второй четверти II в. до н.э. [Беглова, 2004, с. 89, 104, рис. 8; 2016, с. 33, 43, табл. 4, рис. 5, 9 ]. Бронзовые конические подвески и лунницы украшали близкий по стилю декора нагрудник из погребения коня № 2 Большого кургана Васю-риной горы, которое, как показал О.В. Шаров, можно датировать первой четвертью II в. до н.э. [Шаров, 2009, с. 301–302, рис. 4, 5], но не ранее 191 г. до н.э., судя по клеймам родосских амфор [Бидзиля, Полин, 2012, с. 584]. Главное отличие всех этих подвесок от старокорсунс-ких – отверстия в верхней части, через которые с помощью проволочных петелек они крепились к нагруднику.
По своим морфологическим признакам конические подвески из старокорсунского погребения близки бронзовым псевдоколокольчикам с петлей-ушком из тризны Гаймановой могилы первой половины IV в. до н.э. Такие подвески, как отмечает С.В. Полин, не характерны для Скифии, но встречаются в лесостепной зоне и связаны с подгорцевской культурой. В отличие от скифских подвесок, которые подвешивались на каких-то ремешках или крючках [Бидзиля, Полин, 2012, с. 220–222, 224, рис. 321, 330], старокорсунские, как и подвески из Гаймановой могилы, крепились через разжатое ушко-петлю. Нам кажется, что это может быть ранним хронологическим признаком, так как все перечисленные выше более поздние аналогии отличаются формой и системой крепления через проволочные петельки.
Между ребер лошади в погребении № 223в были расчищены два мелких железных втульчатых трехлопастных наконечника стрел (длина – 2,2 см и 2,6 см). У одного наконечника лопасти срезаны под тупым углом к втулке, у второго – под острым (рис. 1, 2 ). Такие наконечники широко представлены в меотских комплексах VI–III вв. до н.э., поэтому уточнить хронологию захоронения они не могут.
Единственным предметом в старокорсун-ском комплексе с более-менее узкой хронологией являются удила с короткими крестовидными насадками варианта В с раскованными в лопасти зубчатыми окончаниями. Ранее такие насадки на удила мы датировали последней четвертью IV – началом III в. до н.э. [Марченко, Лимберис, 2009, с. 71]. Но в связи с уточнением датировок амфорной тары и новыми материалами в специальной статье нами была произведена корректировка их хронологии. Эти элементы узды фиксируются со второй четверти – середины IV в. до н.э. и, возможно, бытуют всю первую половину следующего столетия, хотя расширение верхней даты связано в основном с широкими датировками комплексов из Закубанья, которые не содержат надежных хроноиндикаторов, – таких как амфорная тара. Однако на правобережье Кубани, в частности, на могильнике Старокорсун-ского городища № 2, самые поздние комплексы с насадками этого варианта, твердо датированные по амфорам, не выходят за пределы начала – первой четверти III в. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2019, с. 164, 167, 171]. К примеру, удила с такими насадками из погребения № 239в, раскопанного на этом же участке некрополя, по амфорам Коса мы отнесли к концу IV в. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2007, с. 71, рис. 18,3,4, 20,1]. Недавно С.Ю. Монахов уточнил датировку амфор из этого комплекса, ограничив ее последним десятилетием четвертого столетия [Монахов, 2014, с. 204, рис. 5,18,19]. Если допустить, что амфоры несколько запаздывают, то верхняя дата захоронения приходится на самое начало III в. до н.э., что ограничи- вает и время бытования насадок варианта В на правобережье Кубани.
Таким образом, широкую хронологию погребения № 223в, скорее всего, нужно обозначить в рамках второй четверти IV – начала III в. до н.э.
Возраст лошади из захоронения определен в пределах 8–10 лет, высота в холке – 138 см2. Лошади такой высоты относятся к среднерослым [Сазонов и др., 1995, с. 125, табл. 14]. Возраст лошади свидетельствует, что она была уже объезжена: считается, что наивысшая продуктивность лошадей приходится на промежуток между 8 и 18 годами их жизни [Бенеке и др., 2017, с. 256]. Однако для ее управления использовались строгие удила. Кроме того, в погребение зачем-то был помещен большой набор од-ногрызловых удил: единственный, известный у меотов, на сегодняшний день. Одногрызловые удила отличаются от двухсоставных еще и тем, что имеют псалий лишь на одном конце, а на другом – дополнительное подвижное кольцо. Встает вопрос: для какой цели предназначалась такая узда? Из всех возможных вариантов объяснения ее предназначения наиболее правдоподобной нам представляется версия, что эти удила использовались при обучении молодых лошадей («неуков»). С внешним кольцом былоудобнее гонять лошадь на корде по кругу (лон-жирование) 3. Если эта версия верна, то мы имеем первый случай, свидетельствующий о конкретном тренинге лошадей у меотов. Наличие в захоронении шести комплектов таких удил, возможно, говорит о том, что здесь был похоронен объездчик лошадей.
Список литературы Комплекс конской узды из Меотского погребения на правобережье Кубани
- Беглова Е. А., 2004. Первый ритуальный комплекс Тенгинского могильника // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. № 3. М.: ИА РАН. С. 88–107.
- Беглова Е. А., 2013. О верхней дате Уляпского некрополя // Древности Западного Кавказа. Вып. 1. Краснодар: OOO РА «Гранат». С. 66–78.
- Беглова Е. А., 2016. Парадный конский убор IV–II вв. до н.э. в памятниках Юга России // Археологическая наука: практика, теория, история: сб. науч. тр. памяти И. С. Каменецкого. М.: ИА РАН. С. 30–50.
- Беглова Е. А., Эрлих В. Р., 2018. Меоты Закубанья в сарматское время (по материалам Тенгинского грунтового могильника). М. ; СПб.: Нестор-История. 384 с.
- Бенеке Н., Прюво М., Вебер К., 2017. Скелеты лошадей: палеозоологические и генетические исследования // Чугунов К. В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 250–257.
- Бидзиля В. И., Полин С. В., 2012. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Издательский дом «Скиф». 752 с.
- Кудрявцев А. А., Кудрявцев Е. А., Прокопенко Ю. А., 2000. Комплекс предметов конского убора позднескифского времени из могильника Татарского городища города Ставрополя // Донская археология. № 2. С. 40–47.
- Лесков А. М., Беглова Е. А., Ксенофонтова И. В., Эрлих В. Р., 2013. Меоты Закубанья IV–III вв. до н.э. Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы. М.: Государственный музей Востока. 184 с.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2007. Раскопки могильника Старокорсунского городища № 2 в 2006 г. // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 7. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 70–150.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2019. Железные удила со строгими насадками из меотских могильников Прикубанья // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). Т. V. Материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД». С. 161–174.
- Марченко И. И., Лимберис Н. Ю., 2009. Пластинчатые конские налобники из Прикубанья // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3 (39). С. 69–74.
- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфської доби у лiсостепу Схiдной Європи. Киiв ; Кам’янець-Подiльський: Изд-во: IА НАНУ. 439 с.
- Монахов С. Ю., 2014. Косские и псевдокосские амфоры и клейма // Stratum plus. № 3. С. 195–222.
- Раев Б. А., Беспалый Г. Е., 2006. Курган скифского времени на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 110 с.
- Сазонов А. А., Спасовский Ю. Н., Сахтарьек З. Н., Тов А. А., 1995. Новые материалы могильника первых веков нашей эры близ хутора Городского // Археология Адыгеи. Майкоп. С. 113–128.
- Шаров О. В., 2009. О конских погребениях Большого кургана Васюринской горы // Боспорские исследования. Т. XXII. С. 283–323.
- Эрлих В. Р., 2011. Святилища некрополя Тенгинского городища II, IV в. до н.э. М.: Наука. 212 с.
- Эрлих В. Р., 2015. Конское снаряжение и предметы вооружения // Ульские курганы. Культово-погребальный комплекс скифского времени на Северном Кавказе. Степные народы Евразии. Т. IV. М. ; Берлин ; Бордо: Палеограф. С. 44–57.