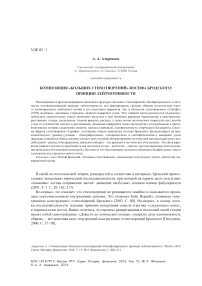Композиция "Больших стихотворений" Иосифа Бродского: принцип лейтмотивности
Автор: Азаренков Антон Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается функционирование мотивной структуры «больших стихотворений» Иосифа Бродского, в частности, основополагающий принцип лейтмотивности, или формирование системы образов относительно одного доминирующего свободного мотива и его смысловых вариантов. Так, в «большом стихотворении» «Строфы» (1978) подобным «мотивным стержнем» является инвариант ухода. Этот главный мотив реализуется по-разному; небольшие семантические сдвиги позволяют выделить в нем мотивные вариации перемещения в пространстве, расставания, потери, уменьшения, течения времени, распада, а также мотив поэтического творчества как способа ухода от условностей земного существования. Динамика инварианта также предполагает его реализацию в противоположных мотивах соединения, встречи, находки (прятанья), одновременности, творческого бессмертия. Система образов стихотворения «Строфы», подчиняясь общим принципам поэтики Бродского, функционирует на трех семантических уровнях (условно - «биографическом», «эмпирическом» и «метафизическом»); инвариант ухода (распада) становится общим законом для всех трех ступеней абстрагирования поэтической интенции (разлука с возлюбленной - распад и беспрерывное движение материи - ход времени и поэтическое отчуждение). Эта связь вариантов главного мотива осуществляется как логически (тезис - антитезис - синтез), так и ассоциативно (использование возможностей языковой полисемии). Все вместе это обусловливает цельность объемного бесфабульного текста и риторические стратегии самого поэта.
Иосиф бродский, "большие стихотворения", композиция поэтического текста, лейтмотив, инвариантный мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/147219671
IDR: 147219671 | УДК: 82
Текст научной статьи Композиция "Больших стихотворений" Иосифа Бродского: принцип лейтмотивности
В своей поэтологической теории, развернутой в эссеистике и интервью, Бродский провозглашает концепцию лирической последовательности, при которой на первое место выступает «языковая» логика сопряжения частей: движение свободных мотивов взамен фабулярности (2001. Т. 7. C. 20, 162, 217).
Во-первых, это означает, что стихотворение не развивается линейно и оказывается пронизано многочисленными внутренними связями. Это отмечает Кейс Верхейл, упоминая «внутреннюю конструкцию» стихотворений Бродского [2002. С. 80]. Во-вторых, в основу логики последовательности положен принцип исчерпания смысла (тактика «следующего шага», в терминологии поэта). Важно отметить, что процесс развертывания в последней своей стадии являет собой самоотрицание. «Довести до логического конца», «вскрыть саму невозможность образа», – вот конечная цель «внутренней конструкции» стихотворений Бродского [Полухина, 2000. С. 57–58].
Азаренков А. А . Композиция «больших стихотворений» Иосифа Бродского: принцип лейтмотивности // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 9: Филология. С. 208–214.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 9: Филология © А. А. Азаренков, 2016
Разберем один из таких конструктивных принципов организации композиции «больших стихотворений», а именно: выстраивание системы образов относительно общего (инвариантного) мотива, или принцип лейтмотивности.
К. Верхейл призывает рассматривать стихотворения Бродского не как «ряд случайных, зависящих от внешних стимулов импрессий», а как последовательно-строфическое развитие «одной линии идей» [Верхейл, 2002. С. 165]. В другом месте он говорит о том, что стихотворения Бродского могут быть «целиком основаны на каком-то одном мотиве, в котором по ходу дела обнаруживаются все новые и новые смыслы» [Там же. С. 87]. Программную установку поэта на конечную абсурдность этих смыслов Верхейл связывает с практикой «словесной выдумки» («wit») английских поэтов-метафизиков, которая сводится к остроумно-игровому обыгрыванию многозначного «образного выражения» [Там же. С. 86].
Инвариантный мотив как бы входит в структуру большинства значимых образов стихотворения, придавая им функциональное родство друг с другом и тем самым сообщая смысловую цельность «большому стихотворению»; то, что другой исследователь Бродского, Михаил Крепс, называл «смысловой лесенкой», «плавным переходом от одной мысли к другой» и «живой временной и причинно-следственной гармонией» [2007. С. 44].
Для примера разберем стихотворение «Строфы» (1978) (Бродский, 2001. Т. 3. С. 181–187).
Мотивным «стержнем» стихотворения является мотив ухода, реализующийся по тексту во множестве вариантов.
В I строфе лирический субъект воспринимает закат солнца как уход светила в другое полушарие («светило ушло в другое / полушарие»), т. е. речь идет о некоем непреложном законе природы; подразумевается временность, ускользание, перемещение как «перводвигатель» поэтического мира стихотворения. Отметим также повтор многозначного слова «оставлять» («оставившего печать», «оставляют в покое»).
Центральная тема II строфы – одиночество лирического субъекта. Мотив ухода реализуется с помощью «словесной выдумки», игры на многозначности слова («неприкосновенность тела, / зашедшая далеко»).
В III строфе инвариант принимает значение потери и вводится с помощью приема разрушения фразеологического сочетания («Иголку / больше не отыскать / в человеческом сене»). Таким образом, намечается тенденция переосмысления традиционных значений слов с целью маркирования семы ухода, потери. В этой же строфе говорится о житейском расчете («вместе со всеми / передвигать ферзя») в словах, также предполагающих наличие инварианта (передвижение с одной клетки на другую).
В IV строфе продолжается развитие инварианта в качестве мотива потери со значением временности, преходящести («Все, что мы <…> копили, <…> время <…> стачивает»). Образ «цикладской вещи без черт лица», данный в конце строфы, можно прочитать по-разному. С одной стороны, архаическое пластическое искусство Кикладских островов отличается крайней обобщенностью [Ахапкин, 2009. С. 59], и «цикладская вещь» (идол) есть в таком случае, на наш взгляд, метафорическое наименование смерти (трупа). С другой стороны, Ольга Глазунова видит здесь намек на судьбу римского поэта Ювенала, высланного за публичное чтение своих сатир (в том числе и о Кикладах) [2005. С. 27]. В этом случае рассматриваемый нами мотив ухода обогащается значением изгнания поэта, вполне восстанавливаемым из затекста.
В V строфе мотив потери находит свое продолжение; на этот раз потерян сам лирический субъект, физически отдален в пространстве, спрятан в пейзаже («пропажа / тела из виду»).
Далее, в VI строфе, такой вариант мотива ухода, как перемещение в пространстве (в пейзаже) только усиливается («в тычущем вдаль персте»; «чем ты дальше проник»). Также говорится и о «скорости света в пустоте», что дает повод расширительно трактовать то пространство, о котором говорит Бродский: не только расстояние между лирическим субъектом и М. Б., к которой обращено стихотворение (условная «горизонталь»), но и Пространство как метафизическая категория, выход за пределы которого в «чистое Время», по Бродскому, возможен только посредством поэтического восхождения (условная «вертикаль») (2001. Т. 5. С. 148–149). Традиционный мотив отрыва от земли, поэтического парения и в стихах, и в эссеистике Бродско- го маркирован «механической» терминологией и образностью: «ускорение», «набор критической массы», встречаются также образы разнообразных летательных аппаратов. Именно в этом ключе стоит трактовать «вертикаль» и «авиатора», уходящего в облака, в VII строфе. Здесь мотив ухода подспудно обогащается семой поэтического творчества как отрыва от условностей земного существования, где по горизонтальной плоскости «передвигают ферзя».
В VIII строфе инвариант реализуется мотивом ухода со сцены, знаменующим отказ от трагедии жизни, переход в позицию наблюдателя (поэта). Этот мотив самоустранения, «возвращения билета» отдается эхом в IX строфе («Жизнь есть товар на вынос» – еще одно переосмысленное «стертое» выражение) и в X строфе («Как тридцать третья буква, / я прячусь всю жизнь вперед», «все, кто далече <…> – жертвы законов речи»), переплетаясь с мотивами перемещения в пространстве и поэтического творчества как своеобразного бегства от реальности и судьбы.
Следующая, XI, строфа реализует инвариант в смысле констатации временности человека и вечности языка («бисер [слова] / переживет всех нас»), зеркально перекликаясь с подобным мотивом из IV строфы. Уже здесь можно констатировать некую смену авторской точки зрения: переход от идентификации с «цикладской вещью» (творением, которое обтачивает Время) на позицию самого Времени (творца языковых значений).
Начиная с X–XI строф (в качестве подготовительного намека – с «вертикали» в VII строфе) авторское сознание переключается в сторону развития темы языка и мотива творчества. Поэзия как способ ухода от мира; творческая рефлексия как упражнение в избывании внутренней травмы, связанной с разлукой с возлюбленной М. Б. [Двоенко, 2014. С. 156]. Вводится мотив памяти («незабудка мозга»), предзнаменуя развитие этого мотива далее (память как инверсия потери).
Мотив поэтического бегства («взлета») как вариант мотива ухода занимает центральное положение еще на протяжении четырех строф. Формально он выражается словами, содержащими сему удаления, перемещения. Очевидней всего это выражено в конце XII строфы («… бегство / по бумаге пера»).
Зачин XIII строфы продолжает уравнивание мотивов перемещения в пространстве и поэтического творчества с помощью возможностей полисемии («Ты не услышишь ответа, / если спросишь “куда”»): «куда» бежит перо и / или «куда» пишущего «заводит речь». Далее говорится о конечном пункте подобных перемещений – о «полюсе языка», объединяющем значение географического и метафизического «царства льда», подготавливающий мотив соединения («стороны света / сходятся в царстве льда»). О том, что образ «полюса» в поэзии Бродского следует прочитывать именно в значении крайней степени поэтического вдохновения (отчуждения), подробно говорит Андрей Ранчин в статье, посвященной стихотворению «Полярный исследователь» (написанному, кстати, в тот же год, что и «Строфы») [2016. С. 10–30].
Это подтверждается многими высказываниями самого Бродского о сущности языка, который (язык) как бы «выталкивает» пишущего «туда, где еще никто не бывал» (2003. Т. 6. С. 71), побуждает поэта выговаривать на бумаге невыразимое (иными словами, быть там, «где голос флага не водрузит»). В этом случае белизна льда обозначает белизну листа, проглядывающую сквозь черноту букв («сквозь эльзевир»), а перемещение авторского сознания на «полюс языка» может быть понято как «всматривание» в рукопись, т. е. «вдумывание» в смысл написанного, в многозначность текста (или, скорее, затекста – в то, что осталось невысказанным, неисписанным, белым). Таким образом, мы видим, как поэтический прием игры на многозначности слова, заявленный еще в самом начале, постепенно усложняясь, как бы апроприируется системой образов: на протяжении длинного стихотворения прием в полной мере осознается автором и переходит из разряда языковой ассоциации в поле силлогического развития основного мотива. «Словесная выдумка» тематизируется, обретает тело образа.
О том, что инвариант ухода в данной части стихотворения следует понимать как специфическое напряжение между «высказанным» и «невысказанным», текстом и затекстом («судьбой»), говорится в начале XIV строфы: «Бедность сих строк – от жажды / что-то спрятать, сберечь, / обернуться». Относительно «скупой» для американского периода Бродского синтаксис, небольшая длина строки и строфическая «компактность» воспринимаются как желание оставить как можно больше белого на полях листа, как можно больше перенести в умолчание, многозначность, двусмысленность; как можно больше сохранить для себя. Лирический субъект, достигнув определенного пика («полюса»), стремится вернуться назад, «дважды лечь в ту же постель» с любимой: мотив ухода (а также его варианты – потеря, перемещение, разлука, временность) оборачивается своей противоположностью – мотивами памяти и поэтического бессмертия.
В XV строфе говорится о том, что вернуться в прошлое, сойти с «дурной карусели, / что воспел Гесиод» (т. е. монотонной реальности «трудов и дней» [Ахапкин, 2009. С. 59]) нельзя; но можно повторить «судьбу» в написанном стихотворении («повторимо всего лишь / слово: словом другим»).
В следующей, XVI, строфе этот мотив возвращения, обретения заявлен с полной силой («Я, как мог, обессмертил / то, что не удержал»). Снова возникает мотив повторения («песня сатира / вторит шелесту крыл») как вариант мотива возвращения, парности, а также метонимически – мотива стихописания, рифмовки.
В последней трети стихотворения инвариант ухода последовательно и в полной мере реализуется своей зеркальной противоположностью: мотивами возвращения, соединения, со-бытия, данными через призму творчества.
В XVII строфе говорится о врачующей роли памяти («...к друг другу мы / точно оспа привиты / среди общей чумы»). Это «врачевание» связано с (само)утешением, противостоящим разлучающему пространству («вместе с шансом в пятно / уменьшаться предплечье / дано»).
Мотив временности существования избывается в XVIII строфе («мы живы покамест / есть прощенье и шрифт»). Образ «присущих» друг (к) другу аиста и свертка в этой же строфе также намекает на развитие мотивов бессмертия и заповеданной слитности.
Точка зрения в XIX строфе – это взгляд астронавта, для которого разъединенность лирического субъекта с возлюбленной не имеет никакого значения ввиду одновременности их существования в пространстве, на одной планете («эти вещи сольются / в свое время в глазу / для воззрившихся с блюдца»). Образ Космоса – это конечный пункт художественного пространства поэзии Бродского, антипространство с метафизическими коннотациями: бесконечность, всеохватность точки зрения, рациональность, враждебность. Мотив взлета в Космос (в данном тексте подготовленный образами «авиатора» в VII строфе и «Сатурна» в XIV строфе) заменяет у Бродского «дантовские» поэтические мотивы взятия на небо (2001. Т. 5. С. 147, 167, 201; 2001. Т. 7. С. 72). Это Космос воображаемый, завершающий логику инварианта: зайдя далеко, даже слишком далеко (сойдя с «дурной карусели» Земли, заменив «горизонталь» жизни «вертикалью» поэзии, а прошлое и настоящее – Вечностью), можно по-настоящему вернуться.
В XX строфе лирическое сознание уходит еще дальше, на Луну, отчего в перспективе влюбленные становятся еще ближе – и в смысле видимого пространства, и в смысле «судьбы»: они теперь семья («вставь семейное фото – / вид планеты с Луны»), а вместо лика Пречистой Жены в авторском сознании, по-видимому, возникает фотография несостоявшейся жены биографической (образ и тема фотографии в художественном мире Бродского тесно связаны с мотивами памяти, возвращения, поэтического творчества (2001. Т. 5. С. 49, 348; 2003. Т. 6. С. 20, 76–77, 391; 2001. Т. 7. С. 100).
В XXI строфе только подтверждается наличие двух систем координат, в которых мотив ухода воспроизводится зеркально. М. Б. – это жена лирического субъекта в Вечности; «в настоящем» же вид их вдвоем «неуместен». Это подчеркивается уже автоматизированным приемом игры на полисемии, когда говорится о «разведенной смеси» чувств (эмпирика) и кириллицы (метафизика). Так, мотив разлуки может быть прочитан и с точки зрения антагонизма философских систем и видов опыта, разных планов бытия, которых в тексте отчетливо намечается три: «судьба» (биография, затекст), «география» (эмпирический мир, данность), «язык» (метафизика). Три мира функционируют одновременно и переплетаются посредством общего закона – мотива ухода / возвращения.
В завершающих строфах стихотворения уход лирического сознания в метафизические области не прекращается и опровергает себя вторично: появляется мотив исчезновения, конца, где категории соединенности / разъединенности уже не столь существенны. Мотив исчерпывает свои возможности: тезис – антитезис – синтез.
Завершение «судьбы» – это старость и смерть, о чем говорится в XXII и XXIII строфах опять же посредством «словесной выдумки» («В нашем возрасте судьи / удлиняют срока»; «свободному слову / не с чем счеты свести»; «лучше все, дорогая, / доводить до конца»).
«Конец перспективы» из XXIV строфы читается не только как завершение личной «судьбы», но и – в прямом значении – как окончание космического полета мысли (Земля пропадает из виду в Космосе, в чистом Времени); вместо мнемонического акта творения вводится его противоположность – забывание («лишних слов, из которых / ни одно о тебе»).
В предпоследней, XXV, строфе вводится образ берега океана – традиционный для Бродского образ черты между жизнью и Вечностью. Появляющаяся в виду океана снятая с апельсина кожура остроумно подводит итог скитаниям авторского сознания. Кожура «жухнет», предположительно, как и кожа героя в старости; сознание «жухнет» без родной чувственной почвы Земли (этот образ интертекстуально перекликается со знаменитой строчкой Элюара: «Земля вся синяя как апельсин», а в пределах данного текста – с солнцем из I строфы, луной из XX строфы и «жухлой незабудкой мозга» из X строфы). «Элевсинские» мухи, парящие над кожурой (корой мозга), – это, конечно, музы, а также знак близкой смерти, окончательного и невосполнимого распада. В XXVI строфе лирическое сознание, «вернувшись» в тело («облокотясь на локоть»), принимает перспективу как своего личного небытия, так и конца истории («это хуже, чем <…> знаменитый всхлип» – аллюзия на элиотовскую строку о том, что «мир кончится не взрывом, а всхлипом» [Ахапкин, 2009. С. 59]).
Итак, цельность стихотворения «Строфы» обеспечивает мотивный инвариант, который, многократно повторенный, разворачивается в подобие сюжета [Силантьев, 2004. С. 92–94]. Установка Бродского на неочевидное семантическое развертывание заставляет поэта по ходу дела много раз опровергать изначальный тезис и вновь к нему возвращаться, что обеспечивает длину, предикативное единство и риторические стратегии «большого стихотворения».
Список литературы Композиция "Больших стихотворений" Иосифа Бродского: принцип лейтмотивности
- Ахапкин Д. Иосиф Бродский после России. Комментарии к стихам И. Бродского (1972-1995): Моногр. СПб.: «Журнал "Звезда"», 2009. 132 с.
- Верхейл К. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским: Авторский сборник/Пер. с нидерлан. И. Михайловой. СПб.: «Журнал "Звезда"», 2002. 272 с.
- Глазунова О. И. Иосиф Бродский: американский дневник. О стихотворениях, написанных в эмиграции: Моногр. СПб.: Нестор-История, 2005. 374 с.
- Двоенко Я. Ю. Система лирической коммуникации в книге И. Бродского «Новые стансы к Августе»: Структура, модели, стратегия: Дис. … канд. филол. наук. Смоленск, 2014. 283 с.
- Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского: Моногр. СПб.: ЗАО «Журнал "Звезда"». 2007. 200 с.
- Полухина В. П. Иосиф Бродский. Большая книга интервью: Моногр. М.: Захаров, 2000. 702 с.
- Ранчин А. М. О Бродском. Размышления и разборы: Моногр. М.: Водолей, 2016. 248 с.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива: Моногр. М.: Языки славянской культуры, 2004. 296 с.