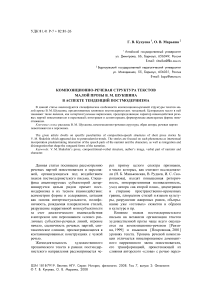Композиционно-речевая структура текстов малой прозы В. М. Шукшина в аспекте тенденций постмодернизма
Автор: Кукуева Г.В., Марьина О.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируются специфические особенности композиционно-речевой структуры текстов малой прозы В. М. Шукшина, продиктованные влиянием постмодернистских тенденций. Центральное место в ней занимают такие явления, как интертекстуальные вкрапления, предопределяющие характер взаимодействия речевых партий повествователя и персонажей; интеграция и дезинтеграция, формирующие авангардные формы повествования.
Рассказы в. м. шукшина, композиционно-речевая структура, образ автора, речевая партия повествователя и персонажа
Короткий адрес: https://sciup.org/14736965
IDR: 14736965 | УДК: 81.41
Текст научной статьи Композиционно-речевая структура текстов малой прозы В. М. Шукшина в аспекте тенденций постмодернизма
Данная статья посвящена рассмотрению речевых партий повествователя и персонажей, организующихся под воздействием знаков постмодернистского письма. Специфика анализируемых субкатегорий детерминируется целым рядом примет постмодернизма в их тесном взаимодействии: асимметрия формы и содержания, цитация как основа интертекстуальности, полифо-ничность, рождаемая плюрализмом стилей, разрушение нарративной моносубъектности за счет диалогического взаимодействия в авторском или персонажном «слове» различных субъектно-речевых линий, игровое начало, сценичность речевых партий, синтаксическое слияние, просматривающееся в контаминированных конструкциях с чужой речью.
Жизнедеятельность художественного прозаического текста в рамках постмодернистского направления рассматривается че- рез призму целого спектра признаков, в число которых, как считают исследователи (Н. Б. Маньковская, В. Руднев, И. С. Ско-ропанова), входят повышенная риторичность, интерпретативная поливалентность, уход автора «на второй план», децентрация и стирание пространственно-временных границ, плюрализм стилей и языков культуры, разрушение жанровых рамок, обыгрывание уже «готовых» сюжетов и образов в культуре и пр.
Влияние знаков постмодернистского письма на механизм организации текстов художественной прозы чаще всего ощущается на композиционно-речевом [Ревзина, 1999] и языковом [Покровская, 2001] уровнях текста. Уровень речевой композиции отличается нивелированием доминантного нарративного звена повествователя, его трансформацией, проистекающей из слияния авторского «слова» с речью персо-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Г. В. Кукуева, О. В. Марьина, 2008
нажей. Принципиальные изменения затрагивают типологию форм чужой речи, их функции и структуру. Данные конструкции демонстрируют открытость и цитатность, просматривающиеся в постоянном динамическом взаимодействии различных субъектноречевых сфер. Закономерным результатом подобного явления служит формирование «контаминированных форм чужой речи» [Покровская, 2001 С. 29–30], характеризующихся утратой традиционных синтаксических, пунктуационных и графических сигналов смены одного субъектно-речевого слоя другим.
Определяющим на уровне языковых средств выступает синтаксис, поскольку, в первую очередь, он воплощает основные принципы поэтики постмодернизма [Там же]: диалогизм и интертекстуальность. Синтаксические новации сводятся к двум процессам: синтаксическому слиянию и расчленению [Марьина, 2007], репрезентируемым авангардными формами, «бросающими вызов» традиции.
Наше обращение к анализу текстов рассказов В. М. Шукшина через призму постмодернистских тенденций вполне логично. По наблюдениям шукшиноведов, жизнедеятельность произведений данного писателя в современной информационной реальности во многом определяется близостью его поэтических принципов к идеям эстетики постмодернизма (Дж. Гивенс, А. И. Куляпин, Р. Эшельман).
Результаты анализа текстов рассказов В. М. Шукшина [Гавенко, 2004; Кукуе-ва, 2005] дают основания утверждать, что спектр постмодернистских тенденций наиболее ярко проявляется на уровне художественно-речевой структуры малой прозы писателя.
Представленность постмодернистских тенденций в организации речевых партий повествователя и персонажей детерминируется уровнем языковых средств, среди которых функциональную нагрузку получает синтаксический уровень как экспликатор специфических черт контаминированных типов чужой речи. Частотны конструкции, совмещающие признаки свободной прямой и косвенной речи: «По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что -хорошо, глаза от солнышка закрывает™» («Дебил»). Происходит поглощение речевой партии повествователя речевой партией персонажа: меняется вектор повествования, ведущей становится не авторская позиция, включающая оценку события, комментарии по ходу действия, а непосредственные замечания героев относительно происходящего. Авторская монологическая речь трансформируется в речь диалогическую, где повествователю отводится роль одного из его участников (наряду с героями литературного произведения). Происходит «расфокусировка» авторского сознания: его голос не перекрывает и не направляет голоса героев, а слышится в ряду остальных в речевом многообразии текста. В текстах малой прозы В. М. Шукшина встречаются конструкции с несобственно-авторской речью, включающей свободную прямую и косвенную речь: «У него больное сердце, ему тоже не надо курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что - да, не надо бы™» («Жил человек»). Отграничение речевой партии персонажа от речевой партии повествователя затруднено по причине полного наложения и растворения свободной прямой речи и косвенной. Многоголосие, с одной стороны, привносит в ситуацию хаос, а с другой – позволяет одновременно продемонстрировать позиции нескольких участников действия.
Глубокое взаимовлияние, взаимопроникновение авторского и персонажного речевых слоев, размытость граней между ними эксплицирует стилевой плюрализм, полифонию, за счет которых в содержании рассказа главным оказывается не сюжет, а обмен равноправными ценностно-смысловыми позициями (автора, повествователя, персонажа). Рассказываемая ситуация для автора – это лишь повод выйти на философское осмысление проблем человеческой души. Именно поэтому в композиционно-речевой организации текстов малой прозы В. М. Шукшина традиционно монологическая форма повествования разрушается за счет цитатных включений «чужого» слова. Среди композиционно-речевых форм особую функциональную нагрузку в текстах писателя приобретают несобственноавторское повествование (далее – НСАП), несобственно-прямая речь (далее – НСПР), оформляющие речевую партию повествователя и персонажа, соответственно. Обратимся к анализу текстовых фрагментов.
«Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того - старательный работник, умелый ( летом он пас колхозных коров, зимой был скотником - кочегарил на ферме, случалось - ночное дело - принимал телят ), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша “сроду такой” - в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором (...)... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай - как об стенку горох. Хлопает глазами™ “Ну, понял, Алеша?” - спросят. “Чего?” Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. Больше ничего» («Алеша Бесконвойный»).
Приведенный фрагмент демонстрирует процесс диалогизации объективированного авторского монолога путем взаимодействия нескольких субъектно-речевых сфер (повествователя, героя, необозначенных персонажей), ведущих к формированию НСАП. Важную роль в структурной организации анализируемого фрагмента играет вставная конструкция, сигнализирующая о смене субъектно-речевого плана. Посредством активного ввода персонажного «слова» формируется дополнительное нарративное звено как признак полисубъектности, свойственный постмодернизму: «летом пас колхозных коров, зимой был скотником -кочегарил на ферме, случалось - ночное дело - принимал телят» . Дальнейшее развитие повествования о главном герое перерастает в рассказ, представленный от лица необо-значенных персонажей, что указывает на принцип децентрации базового повествовательного звена в речевой композиции. Иностилевая речь поглощает авторскую, создает синтез речевых планов. Отсутствие интонационно-пунктуационных маркеров, оформляющих переход от одной речевой линии к другой, свидетельствует о синтаксическом слиянии как проявлении постмодернистских тенденций на уровне языковых средств:
«Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором». Немаловажное значение в данном процессе имеют приметы разговорной речи: бессоюзные «Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек» и парцеллированные конструкции: «В субботу он топил баню. Все. Больше ничего» ; субъективно-экспрессивная лексика «выпрягался» , «преподобный Алеша «сроду такой»» ; фразеологизмы «махнули на него рукой», «как об стенку горох», «хлопает глазами» .
Риторические вопросы, обращенные к потенциальному слушателю ( «А что сделаешь?»; «Что же он делал в субботу?» ), наряду с «обнажением приема» эвоцирова-ния естественной устной речи, свидетельствуют о важном для эстетики постмодернизма обострении момента игры текста с читателем и о трансформировании НСАП. Немаркированный переход от данной композиционно-речевой формы к риторическим вопросам разрушает гармонию классически правильного повествования, запутывает «повествовательные» инстанции, создает эффект полифонии и обусловливает возможность множественности интерпретаций.
Структура текстового фрагмента, сотканная из свободной мены нескольких точек зрения, доказывает асимметрию формы и содержания речевой партии повествователя.
НСПР представляет собой способ передачи речи и мысли, совмещающий персонажную и авторскую перспективу в различной качественной репрезентации. В рассказах В. М. Шукшина такая конструкция характеризуется как полисубъектное, диало-гизированное повествование, демонстрирующее полифонию, плюрализм стилей, драматизм внутреннего состояния героя. С помощью НСПР автор выстраивает предельно диалогичные и структурно сложные текстовые фрагменты: «“Счас толканет ” -опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом соберутся всей деревней смотреть. Кто-нибудь скажет: “Надо прикрыть, что ли”. Как? Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. “Погоди, милок, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! - отме- телили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?! - В чем дело? - спросил вслух Спирька. - А?”». Сложность НСПР конструктивно подтверждается тем, что сознание героя воспроизводит целостные диалоговые реплики необозначенных персонажей, эксплицирующие возможное развитие событий. Постепенная трансформация внутренней речи в диалог с самим собой драматизирует не только внешний конфликт, но и внутренний , возникший в сознании Спирьки. Графическая и лексическая маркировка демонстрируют постепенное «овнешнение» мыслей персонажа. Попытка конструирования диалогического единства в рамках НСПР героя создает сценичность фрагмента, театральность разыгрывания Спирькой «возможной реакции на его поступок».
В рассмотренных выше текстовых фрагментах чужое высказывание предстает как нарушение линеарного развития авторской или персонажной речи, превращающее ее в аномалию и заставляющее читателя искать логику понимания фрагмента вне его самого, в «области интертекстуального пространства» [Ямпольский, 1993. С. 60], что указывает на один из векторов проявления интертекстуальности как вкрапления чужой субъектно-речевой сферы в речевую партию повествователя либо персонажа. Наряду с этим, признак интертекстуальности в художественно-речевой структуре рассказов писателя просматривается в цитировании инотекстных «чужих» высказываний, точных или несколько измененных цитат, природа которых достаточно разнообразна: литературная классика, социально-политические заметки, газетные клише, идеологические стереотипы и проч. Активно в речевой партии повествователя представлены скрытые литературные реминисценции. Так, авторское повествование в кульминации рассказа «Беспалый» В. М. Шукшина («Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца - указательный и средний отпали... Руку замотал рубахой подолом») и «Отец Сергий» Л. Н. Толстого («Взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нему ниже сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол... Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы») демонстрирует постмодернистский принцип «ин- тертекстуального диалога» двух текстов. Диалогические переклички просматриваются в совпадении последовательных действий, демонстрирующих внутреннее состояние персонажей: «положил», «тяпнул», «отпали», «замотал» («Беспалый») / «взял», «положил», «взмахнул», «ударил», «прихватил» («Отец Сергий»); в перекличках лексического строя авторских фраз: «два пальца - указательный и средний отпали» («Беспалый») / «палец отскочил», «руку замотал рубахой подолом» / « прихватил отрубленный сустав подолом рясы» («Отец Сергий»).
Элементы цитирования иных текстов активны и в сфере персонажной речи, как правило, выдержанной по законам театральности и сценичности. Именно поэтому в монологах персонажей интертекстуальные включения носят открыто игровой характер. Путем их ввода создается диалогизм высокого, серьезного «первичного» смысла цитаты и смысла вторичного, возникающего в результате эвоцирования трансформированных чужих слов. Например, монолог Вани Татуся из рассказа «Крыша над головой» демонстрирует не только полифоническое звучание «разностилевых» средств в едином целом, но и создает своеобразный траве-стийный образ библейского Иоанна Крестителя: «Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость... (...) Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре». Первая фраза в монологе героя представляет собой аллюзию, отсылающую читателя к гоголевскому «Ревизору»: «Я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор». В результате подобного соотношения монолог шукшинского героя проявляет признаки пародирования одного текста другим, задает интертекстуальную игру и обнаруживает ироническое мастерство автора.
Приведенный материал свидетельствует об органике внепространственного и вневременного соединения интертекстуальных элементов с текстом В. М. Шукшина, что служит еще одним показателем синтаксического слияния не только на уровне разных типов и форм речи, но и на уровне культурных пресуппозиций исходного (первичного) текста, вторичного и читательского текстов. Функцию цитатных вкраплений в рассказах писателя можно сравнить с подводной частью айсберга, поскольку именно в сфере данных интертекстуальных связей нередко аккумулируется основной идейный потенциал произведений автора, раскрывается сущность открытости и цитатности прозы.
Таким образом, в композиционноречевой структуре текстов малой прозы В. М. Шукшина обнаруживается активное отражение постмодернистских тенденций, к которым отнесены: синтаксическое слияние, предполагающее размывание границ между речевыми партиями; синтаксическое расчленение путем перераспределения ведущей функции речи повествователя, рассказчика, героя; использование чужих субъектно-речевых партий в речи повествователя и персонажа. Все это во многом объясняет наличие в поэтике писателя взаимоисключающих принципов: с одной стороны, краткости, лаконичности, ситуатив-ности, с другой – многоплановости, объемности содержания, и позволяет по-новому взглянуть на вопрос о месте прозы Шукшина в истории языка художественной литературы.