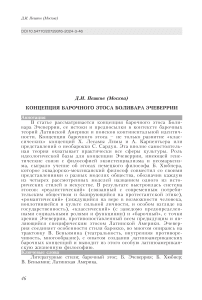Концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии
Автор: Пешков Д.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии, ее истоки и предпосылки в контексте барочных теорий Латинской Америки и поисков континентальной идентичности. Концепция барочного этоса не только развитие «классических» концепций Х. Лесамы Лимы и А. Карпентьера или представлений о необарокко С. Сардуя. Эта вполне самостоятельная теория охватывает практически все сферы культуры. Роль идеологической базы для концепции Эчеверрии, имеющей генетические связи с философией экзистенциализма и неомарксизма, сыграло учение об этосах немецкого философа Б. Хюбнера, которое эквадорско-мексиканский философ совместил со своими представлениями о разных моделях общества, обозначив каждую из четырех рассмотренных моделей названием одного из исторических стилей в искусстве. В результате выстроилась система этосов: «реалистический» (связанный с современным потребительским обществом и базирующийся на протестантской этике), «романтический» (зиждущийся на вере в возможности человека, воплотившейся в культе сильной личности, и особом взгляде на государственность), «классический» (с заведомо предопределенными социальными ролями и функциями) и «барочный», с точки зрения Эчеверрии, противопоставленный всем предыдущим и являющийся специфическим этосом Латинской Америки. Эчеверрия соединяет особенности стиля барокко, во многом опираясь на трактовку В. Беньямина (театральность, внутренняя противоречивость, многообразие), с опытом создания латиноамериканских барочных концепций и выводит из этого особую латиноамериканскую жизненную философию.
Литературные стили, барочный этос, б. эчеверрия, б. хюбнер, в. беньямин, латинская америка
Короткий адрес: https://sciup.org/149146758
IDR: 149146758
Текст научной статьи Концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии
Literary styles; baroque ethos; B. Echeverria; B. H u bner’s; W. Benjamin; Latin America.
Общие истоки концепции Боливара Эчеверрии (1941—2010) — это, с одной стороны, все значимые барочные и необарочные концепции Латинской Америки, а с другой — кризис модернизма, постмодернизм, экзистенциализм, марксизм. Весьма заметное влияние на формирование взглядов Эчеверрии оказало учение об «этосах» современного немецкого философа Б. Хюбнера.
Утверждение литературной философии постмодернизма как магистральной тенденции конца ХХ в. привели к серьезному переосмыслению истории культуры в целом и литературы в частности. Для Латинской Америки, особенно после появления первых концепций, связавших барокко со структурализмом и постструктурализмом [Sarduy 1972; Sarduy 1974], это был очередной этап в поисках культурно-исторической базы собственной идентичности. Потребность в новых литературно-философских концепциях в Латинской Америке определялась и социально-политическими процессами в Новом Свете и в мире в целом. Распад социалистической системы, экономическая и этнокультурная глобализация коснулись всех аспектов жизни латиноамериканского населения, от быта до идеологии. Теоретические разработки в сфере культуры и литературы также требовали серьезной корректировки: для сохранения жизнеспособности барочных (в большей степени уже необарочных) концепций их нужно было переосмыслить в контексте новых культурно-исторических реалий.
Таким образом, необарочная теория С. Сардуя, созданная на базе структурализма/постструктурализма, уже не являлась в полной мере релевантной для периода 1990-х годов. Даже труды более современных исследователей [Chiampi 2000; Bustillo 1996; Figueroa S a nchez 2008] не могут дать полного представления о роли барочного начала на современном историческом этапе. «Классические» барочные концепции, создателями которых являются кубинские авторы Хосе Ле-сама Лима [Lezama Lima 1957] и Алехо Карпентьер [Carpentier 1964], при большом охвате литературного материала и претензии на всеобщность имели некоторый недостаток глубины теоретической проработки конкретных аспектов (Лесама и Карпентьер в первую очередь все же были писателями, что заметно в манере изложения их идей). Работы теоретиков латиноамериканского необарокко, появившиеся после С. Сардуя, — глубокие литературоведческие исследования [Valencia Cardona 2011; Iriarte 2011], — не содержали в себе обобщений континентального масштаба. В таком виде необарокко все больше сводилось к региональному варианту постмодернистской эстетики, хотя как раз обусловленность уникальной латиноамериканской историко-культурной ситуацией из необарочных концепций выпадала: в связи с ростом интереса к эстетике барокко со стороны постмодернизма [Calabrese 1992; Дел ё з 1997] понятие «необарокко» стало терять латиноамериканские черты, превращаясь в слово из активного вокабуляра европейских постмодернистов.
Заслуга возвращения барокко его исключительной роли в Латинской Америке принадлежит Б. Эчеверрии, который, как в свое время Х. Лесама Лима и А. Карпентьер, смог увидеть в феномене барокко большой внутренний потенциал, релевантный для осмысления особого пути развития Латинской Америки.
Эчеверрия как философ был близок к франкфуртской школе, но не чужд и экзистенциализму Ж.-П. Сартра и М. Хайдеггера. Философские взгляды Эчеверрии сформировались во время его учебы в Германии, где он находился с 1961 по 1968 гг. В этот период на него и повлияли работы Хайдеггера, который «призывал революционизировать способ рассуждения о сути вещей» [Echeverr i a 1997, 83]. Не меньшую роль в становлении убеждений Эчеверрии сыграли и исторические реалии, такие как Кубинская революция и студенческие волнения в Берлине 1968 года. Кроме того, обучение в Берлине давало ему возможность бывать как в западной, так и в восточной частях разделенного города.
Но при всей своей западноевропейской образованности Эчеверрия по мироощущению и мировоззрению всегда оставался латиноамериканцем. Как и большинство латиноамериканских авторов-мыслителей, он, живя в Европе, открывал для себя свою Америку: искал некую универсальную формулу своеобразия латиноамериканской культуры. В поисках этой формулы философ пытался уйти и от готовых клише постмодернистского литературоведения, которые все заметнее стали проступать в теоретических работах латиноамериканских исследователей конца ХХ в. и от абсолютизации социально-философских идей неомарксизма [Eche- verria 1997, 97-110]. Уникальность Латинской Америки представлялась Эчеверрии неким феноменом, требующим совершенно особых способов осмысления: механический перенос методов западной литературной философии на новую почву заведомо виделся ему эвристически бесперспективным.
Выстраивая систему своих представлений о роли барокко в прошлом и настоящем Латинской Америки, Боливар Эчеверрия нуждался в фундаментальной идеологической базе, часть которой он обнаружил в концепции Бенно Хюбнера. Хюбнер пишет о современном человеке как о человеке раскрепощенном, автономном, тратящем жизнь уже не только на удовлетворение своих физических потребностей, но имеющем свободное время. Именно у такого человека образуются метафизические избытки энергии, которые он может направить в то или иное русло. В книге «Произвольный этос и принудительность эстетики» Б. Хюбнер обосновывает необходимость введения такого понятия, которое смогло бы обозначить суть морально-эстетического выбора человека в принципиально новых исторических условиях [Хюбнер 2000, 11].
Для Хюбнера понятие этоса не синонимично таким понятиям, как мораль или этика. Более того, само возникновение этоса Хюбнер обосновывал тем, что морально-этическая парадигма не является свободным выбором человека, а идеологически задана. По мнению немецкого философа, раньше человека принято было рассматривать не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть, при этом моральные ценности, выбранные человеком, носят подчеркнуто ограничивающий характер. То есть, когда речь идет о моральном выборе человека, в первую очередь подразумевается не то, что он должен делать, а то, чего он не должен делать ни при каких обстоятельствах. По-иному понимает этический выбор сам Хюбнер.
...Под этосом подразумеваю отношение (действие, чувство в отношение) к тому, что для Я представляет ЦЕННОСТЬ, экзистенциальную ЦЕННОСТЬ. ЦЕННОСТЬ же конституируется в перспективе метафизической потребности Я, которое не желает быть только Я, стремится вырваться из тавтологической темницы Я=Я, желает бытия-прибыли, действия-прибыли, желает скорее ДРУГОГО, чем Я. И это ДРУГОЕ, которое Я способно делать ДРУГИМ, определяет и настраивает Я. В известном смысле Я вверяет себя ДРУГОМУ: свои мысли, действия, чувства, свою энергию, свое время [Хюбнер 2000, 31].
Бросающаяся в глаза аксиологическая и терминологическая схожесть этого подхода со взглядами М.М. Бахтина заслуживает отдельного исследования. Ограничимся здесь тем, что, по Бахтину, «выразительное и говорящее бытие . никогда не совпадает с самим собой и поэтому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [Бахтин 1996, 8].
Понятый подобным образом этос Хюбнер соотносит и с человеческой личностью, и с определенными группами людей, обладающих неким единством целей.
...Понятие ЭТОС я бы хотел определить вполне однозначно в качестве отношения Я к ДРУГОМУ [...]. Причем это ДРУГОЕ (СМЫСЛ, ЦЕННОСТЬ) может быть как всеобщим метафизическим или параметафизическим (Богом, бесклассовым обществом, тысячелетней империей etc.), так и чем-то индивидуальным (задачей, человеком, призванием). Так скажем, защита природы может конституировать для людей ЭТОС, если они чувствуют себя экзистенциально обязанными беречь природу [Хюбнер 2000, 31].
Нюанс в рассуждениях Б. Хюбнера, указывающий на то, что этосы могут быть коллективными, имеет первостепенное значение для Б. Эчеверрии и его концепции барочных этосов.
Усматривая в книге Хюбнера истоки теории Эчеверрии, мы имеем в виду не столько фактический, сколько типологический аспект. Нам не удалось обнаружить никаких сведений о том, что Эчеверрия был знаком с данной работой, но само осмысление Хюбнером понятия «этос» было близко латиноамериканскому философу. Не лишним будет подчеркнуть, что оба философа испытали на себе большое влияние идей М. Хайдеггера и во многом сформировались как мыслители в контексте напряженного в социально-эстетическом плане культурного поля Западной Германии 1960-х гг.
Свою теоретическую концепцию Эчеверрия начал формулировать в последнем десятилетии прошлого в. в таких работах, как «Разговоры о барокко», «Современность, культурная метисация и барочный этос», «Иллюзии современности», «Потребительская стоимость и утопия», «Современность барочного» [Echeverr i a 1993, 1994, 1995, 1998a, 1998b], а закончил уже в первом десятилетии в. нынешнего: «На рубеже веков», «Американизация современности», «Семь подходов к Вальтеру Беньямину» [Echeverr i a 2006, 2008, 2010].
Как видим, одна из последних книг посвящена теории В. Беньямина, прямое влияние которой на взгляды Эчеверрии, в отличие от работ Б. Хюбнера, не вызывает сомнений [Cevallos 2012]. Монография «Происхождение немецкой барочной драмы» [Benjamin 1928] стала достоянием общественности лишь в 60-е гг. ХХ в. Эчеверрия, по всей видимости, познакомился с ней во время изучения философии в Свободном университете Берлина (в 1968 г.), в 1970-е гг. он перевел на испанский язык целый ряд работ В. Беньямина (см., например [Benjamin 1998] ) . Специфическая особенность теоретических исканий немецкого философа заключалась в его подчеркнутой свободе от культурологических и исторических штампов, которая помогла Беньямину сформировать собственную систему взглядов на искусство, принципиально отличную от устоявшихся представлений.
Эти этикетки — гуманизм или Ренессанс — произвольны, даже неверны, потому что придают этой жизни, у кото- рой много начал, много форм, много духовных проявлений, ложную видимость реальной сущности. И столь же произвольной, столь же обманчивой маской является «человек Ренессанса», столь популярный благодаря Буркхарду и Ницше [Беньямин 2002, 21].
В соответствии с точкой зрения Беньямина, любая классификация искусства носит субъективный и произвольный характер, и в этом отношении он был согласен с мнением Б. Кроче: «любая теория разделения искусства на роды и жанры является необоснованной» [Беньямин 2002, 25].
Система культурно-эстетических взглядов Беньямина была важна для Эчеверрии прежде всего в силу своей революционной для первой половины XX в. универсальности. Речь идет не только о нежелании немецкого философа пользоваться стереотипными формулировками и классификациями истории культуры, но и о поиске им взаимосвязей в самых разных сферах человеческой деятельности, на первый взгляд не имеющих к искусству непосредственного отношения. Именно этот подход В. Беньямина стал для Эчеверрии своего рода мостиком между его собственными размышлениями, связанными с культурно-историческим процессом конца XX в., и явлениями эпохи барокко.
Если X.A. Мараваль открыл в эпохе барокко новые ракурсы, позволившие увидеть в ней такие актуальные для XX в. явления, как структурирование политической системы, зарождение феномена массовой культуры, изменение роли городов и так далее [Maravall 1975], то В. Беньямин подверг переоценке сами представления о барокко, бытовавшие в европейском культурном сознании первой половины XX в. [Беньямин 2002, 182], и эта корректировка сыграла ключевую роль в формировании философской концепции Б. Эчеверрии, который в своих представлениях о барокко идет еще дальше. В работе «Семь подходов к Вальтеру Беньямину» [Echeverr i a 2010] он развивает мысль немецкого философа и доводит ее до предельных обобщений, соединяя систему взглядов на барокко с учением об этосах. В итоге возникает феномен «барочного этоса», который стал своего рода универсальной субстанцией, противопоставленной другому универсальному этосу — этосу капитализма. При этом Б. Эчеверрия, вводя барокко в новый социально-эстетический и исторический контекст, далек от вульгарной социологии, к которой могла бы подтолкнуть его латиноамериканская реальность второй половины XX в. В первую очередь Эчеверрия заново выстраивает саму парадигму, которая обусловливает необходимость появления барочного этоса. Он противопоставляет этос барокко современным капиталистическим явлениям, которые, по его мнению, имеют всепоглощающий характер.
В этой связи упомянем книгу Р. Морса [Morse 1982], которая, несомненно, была знакома Эчеверрии. Ее название «Зеркало Просперо» является прозрачной аллюзией на драму У. Шекспира «Буря», к фабуле и философской идее которой в контексте осмысления истории и этнокультурной сущности Америки не раз обращались философы и исследователи [Кобу 1957; Fernandez Retamar 1973; Земсков 1978]. Морс рассматривает английскую колониальную модель в Северной Америке и испанскую в Америке Южной и Центральной, подчеркивая: «Иберо- и Англоамерика разделяли политические культуры своих метрополий» [Morse 1982, 90]. То есть европейские противоречия между «протестантским Севером» и «католическим Югом» были перенесены на американскую почву. Сопоставляя обе колониальные модели, Морс объясняет причины становления в Латинской Америке особой социокультурной реальности, которая так и не смогла встроиться в либерально-капиталистическую структуру западного мира. По мнению Морса, прекартезиан-ская католическая этика, насаждаемая в испанских колониях и в тех или иных формах существовавшая еще в XX в., стала коренной причиной своеобразия исторического процесса в Латинской Америке.
Принципиальная новизна идей Боливара Эчеверрии заключается в его трактовке барокко как своего рода культурно-исторической и даже идеологической альтернативы для латиноамериканского общества, альтернативы современной капиталистической реальности, порожденной в первую очередь англосаксонским подходом и ставшей источником перманентного кризиса для мира Латинской Америки. При этом Эчеверрия в своих взглядах на барокко и барочное далек от несколько идеализированного его восприятия, характерного для представителей эпохи расцвета барочных теорий в Латинской Америке, в первую очередь для А. Капентьера.
Однако Б. Эчеверрия даже не столько полемизировал с существовавшими барочными концепциями, сколько пытался взглянуть на сам феномен барокко с принципиально иной точки зрения, через призму современной ему реальности. Он целенаправленно связывал между собой культурные, социально-экономические и политические явления, и в этом как раз и заключается серьезная новизна его подхода к анализу роли барокко в культурообразовании Латинской Америки. Рассматривая политику как одно из важнейших проявлений современного общества, Эчеверрия фактически подходит к магистральной проблеме латиноамериканской истории и культуры с принципиально иной стороны. Социально-экономические отношения эквадорско-мексиканский философ сумел ввести в общегуманитарный контекст: все этосы он соотносит с художественными факторами, в первую очередь — литературными.
В современном мире Эчеверрия выделил четыре этоса, которые являются возможными вариантами общественного самоопределения и развития, условно обозначив их как «реалистический этос», «романтический этос», «классический этос» и, наконец, «барочный этос».
С «реалистическим этосом» Эчеверрия связал потребительское мировоззрение, в рамках которого развитие представляется исключительно в виде возможности совершенствовать потребление количественно и качественно. Типичный пример такого реалистического этоса — социально-экономическая модель, доминирующая в США и получившая большое распространение во всем мире за счет декларирования меркантильных интересов, а также общепонятных потребительских ценностей. Научное определение данного этоса, существующего не менее полутора столетий, Эчеверрия находит в работе М. Вебера [Weber 1904, 1905], в которой формулируется идейная суть западного капитализма во взаимосвязи с протестантизмом, являющегося религиозной опорой этой социальной модели.
Второй этос, который Эчеверрия обозначил как «романтический», связан с восприятием мира в качестве продукта человеческой воли. Ярким примером такого этоса являются некоторые страны, апеллирующие к государственно-национальному началу, в современном мире явлению воображаемому, по мнению философа. Эти страны управляются так называемой «государственной капиталистической компанией», которая конкурирует с такими же «компаниями» других государств.
Третий исторический этос в классификации Эчеверрии получает название «классического». Ключевую роль в нем играет мотив естественной субординации, а также неизбежности и предопределенности, характерный для искусства неоклассицизма. В данном варианте приходится исходить из того, что социальные роли внутри капиталистической системы определены изначально, и единственное, что может сделать «гуманный капиталист», это проявлять человечность и милосердие по отношению к зависимым от него людям (см. эпизод из романа Томаса Манна «Будденброки»: Иоганн Будденброк своим выступлением с крыльца ратуши смог рассеять революционно настроенную толпу, напомнив недовольным людям о своем справедливом отношении к работникам [Манн 1969, 183—184]).
Однако самым важным для Боливара Эчеверрии и при этом самым противоречивым является «барочный этос», который в отличие от «классического этоса» не считает субординацию внутри капитализма и вытекающие из нее конфликты предопределенными и неотвратимыми, претендующими на то, чтобы быть естественной формой социальной жизни и ее ценностей. В отличие от всех трех, можно сказать, прагматических этосов, этот этос стремится уйти от реальности капитализма с помощью моделирования воображаемого мира и находит свое эстетическое выражение в искусстве барокко с его декоративностью и театральностью.
Б. Эчеверрия обратил внимание на то, что, несмотря на практически тотальное господство «реалистического этоса» в современном, по крайней мере, западном мире, в Латинской Америке ситуация развивалась по иному сценарию. Обращаясь к истории латиноамериканской цивилизации, философ отмечает особые условия, повлиявшие на становление в ней «барочного этоса». Это, в первую очередь, этническая и культурная метисация, которая, по мнению автора, состоялась в результате попытки имплантировать в американскую почву мир Испании XVII в. В этом процессе испанская колониальная идеология соединилась с рудиментами некоторых доколумбовых цивилизаций. Не имея возможности противостоять испанской экспансии, индейская аристократия, чтобы сохранить определенное влияние, стала активно воспринимать испанскую цивилизаторскую модель и пыталась ей следовать ей. Однако вполне естественно, что испанские цивилизационные вводные накладывались на индейский цивилизационный код, и в результате этого смешения образовался новый этнокультурный феномен. Особенность данного феномена заключалось даже не столько в симбиозе двух цивилизационных начал, сколько в том, что, по мнению Эчеверрии, индейцам и метисам, встроенным в мир, который должен был копировать Испанию, приходилось, в сущности, изображать, что они живут в этом испанском мире. Родившиеся в Латинской Америке никогда не жили в обществе, действительно функционировавшем по европейской модели, но они не жили уже и по нормам обществ доколумбовых цивилизаций. Они жили в мире своих представлений о западной цивилизации, так и не став представителями этой цивилизации, в отличие, скажем, от населения Северной, англосаксонской Америки.
Для Эчеверрии этот латиноамериканский феномен жизни в воображаемом мире и есть ключевое проявление «барочного этоса», речь идет о явлении игровом и в определенном смысле театральном. Этот «этос» мыслитель соотносит с миром Латинской Америки и на современном историческом этапе. Подобно тому, как XVII в. Испанская Америка искренне пыталась стать Испанией, но в итоге так и не смогла этого сделать, в XIX и XX вв. уже независимые государства стремились стать капиталистическими странами по образу и подобию США, то есть старательно встраивались в «реалистический этос». Однако результат оказался почти в точности таким же: не «реалистический этос» капитализма, а игра в него и демонстрация собственных представлений о нем.
Таким образом, Эчеверрия приходит к релевантным для Латинской Америки принципам культурообразования, связанным с феноменом барокко. Введенный им термин «барочный этос» удачно корреспондирует с терминами авторов классических барочных концепций: и с «сеньором эпохи Барокко» Лесамы Лимы и с «концепцией барочности» Карпентьера, особенно с ее постулатом перманентной барочности латиноамериканского мира.
Список литературы Концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии
- Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 7-10.
- Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002. 288 с.
- Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997. 264 с.
- Земсков В.Б. Об историко-культурных отношениях Латинской Америки и Запада. Тяжба Калибана и Просперо // Латинская Америка. 1978. № 2. С. 41-57. № 3. С. 83-96. № 4. С. 51-67.
- Манн Т. Будденброки. История гибели одного семейства. М.: Художественная литература, 1969. 640 с.
- Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск: Пропилеи, 2000. 152 с.
- Benjamín W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Berlín: Ernst Rowohlt Verlag, 1928. 306 s.
- Benjamín W. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Müxico: UACM, 1998. 121 p.
- Bustillo C. Barroco y Amürica Latina: un itinerario inconcluso. Caracas: Monte Avila Editores, 1996. 378 p.
- Calabrese O. Neo-Baroque: A Sign of the Times. Princton: Prinston uiniversity press, 1992. 252 р.
- Carpentier A. Tientos y Diferencias: ensayos. Mnxico: Universidad autуnoma, 1964. 149 p.
- Cevallos S. La crntica de Bolívar Echeverraa del barroco y la modernidad capitalista // Revista de Ciencias Sociales. Septiembre 2012. № 44. Р. 119-124.
- Chiampi I. Barroco y modernidad. Müxico: Fondo de Cultura Econуmica, 2000. 227 p.
- Echeverraa B. Conversaciones sobre lo barroco. Müxico: UNAM, 1993. 87 p.
- Echeverraa B. Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco. Müxico: UNAM / El Equilibrista, 1994. 338 p.
- Echeverraa B. Las ilusiones de la modernidad. Müxico: UNAM-Elequilibrista, 1997. 204 p.
- (a) Echeverría B. Valor de uso y utopía. México: Siglo XXI, 1998. 199 p.
- (b) Echeverría B. La modernidad de lo barroco. México: Era, 1998. 209 p.
- Echeverría B. La mirada del ángel. Sobre el concepto de la historia de Walter Benjamin. México: Era, 2005. 252 p.
- Echeverría B. Vuelta de siglo, México: Era, 2006. 272 p.
- Echeverría B. La americanización de la modernidad, México: Era, 2008. 312 p.
- Fernandez Retamar R. Apuntes sobre la cultura de nuestra América. Buenos Aires: Editorial La Pleyade, 1973. 157 p.
- Figueroa Sánchez C.R. Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 288 p.
- Iriarte L.I. Barroco, hermenéutica y modernidad I // Studia Aurea. 2011. № 5. P. 1-21, 71-97.
- Lezama Lima J. La expresiyn americana. La Habana: Instituto Nacional de Cultura, 1957. 119 p.
- Maravall J.A. La cultura del barroco. Análisis de una estructura histyrica. Barcelona: Ariel, 1975. 542 p.
- Morse R. «El espejo de Pryspero». Un estudio de la dialéctica del nuevo mundo. México: Siglo XXI, 1982. 224 p.
- Rody J.E. Ariel. México: Novaro Mexico, 1957. 205 p.
- Sarduy S. Barroco y neobarroco // América Latina en su literatura. Mexico: Siglo veintiuno editoresa, 1972. P. 167-181.
- Sarduy S. Barroco. Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires: Sudamericana, 1974. 119 p.
- Valencia Cardona M.A. La deconstrucciyn barroca, neobarroca y kistch del mito Daniel Santos // Sinapsis. 2011. № 3(3). P. 128-136.
- Weber M. Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.1904. № 20. S. 1-54; 1905. № 21. S. 1-110.